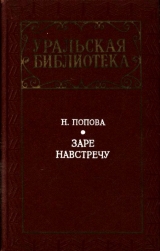
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
– Разумеется, – соглашался юноша, – но справедливость требует и такой метаморфозы… Представьте его грубейшество, дядюшку, – с метлой, а ее высокомерие, тетушку Антонину, – с половой тряпкой!
Пройдя черным ходом, Ирина попала в кухню, где прислуга Охлопковых и кучер Албычева с увлечением играли в карты. Она поздоровалась. Все поднялись с мест.
– Зачем вы встаете? – с неудовольствием сказала девушка. – Сидите, пожалуйста!.. Кузьма, вы папу привезли?
– Барина и барыню… обех!
Ирина поднялась по внутренней лестнице и пошла по длинному коридору. Дом совсем не был таким уютным, каким казался снаружи. Мрачный коридор, комнаты в темных обоях, тяжелая мебель, тяжелые портьеры.
Мимо полуоткрытой двери кабинета Ира постаралась проскользнуть неслышно. Она успела увидеть только Охлопкова. Он сидел сбоку письменного стола, лицом к двери, подпирая рукою одутловатую щеку и брезгливо выпятив нижнюю губу.
Сдержанный голос мачехи произнес:
– Ошибка не в этом, Георгий… ошибка была допущена десять лет назад.
– Ошибка не моя, – раздраженно ответил Охлопков, – это все ее филантропические затеи.
Коридор сделал поворот, и Ирина увидела тонкую фигуру Вадима. Юноша расхаживал неуверенной, вихляющей походкой; время от времени он длинными, худыми пальцами, как граблями, проводил по волосам, откидывая их назад.
– Ну как? – спросила Ирина.
Ей показалось, что под стеклами очков блеснули слезы.
– Невыносимо, – ответил юноша, – за его «благодеяния» мы, видите ли, его «опозорили», – он кивнул в сторону кабинета. – На нем теперь «пятно»!.. Как будто мало на его совести настоящих пятен… как будто близость с благородным человеком, с героем пятнает…
– Гутя как?
– Что Гутя? Гутя невменяема, вот увидите.
Вадим махнул рукой и прошел дальше.
Подойдя к комнате Августы, Ира услышала прерывистое всхлипывание и голос отца:
– Будьте молодцом – выпейте брому…
Доктор Албычев всегда говорил с пациентами бодрым и уверенным голосом.
Ирина открыла дверь.
Ее поразил вид Августы, сидящей в глубоком кресле: всклокоченные волосы, странное, без очков, застывшее в злобной гримасе лицо, изодранное платье. Августа не плакала, – это Люсины всхлипы слышала Ирина. Люся стояла перед нею на коленях, тетка склонилась над креслом, упрашивая:
– Гутя, выпей лекарство!
– Ах, давайте выпью хоть что, хоть лекарство, хоть яд, – вдруг заговорила Августа истерически вздрагивающим голосом, – только уйдите все, не мучьте, оставьте меня.
В это время блуждающий взгляд Августы упал на Ирину, и она порывисто протянула к ней руки. Хлынули обильные слезы. Прижавшись к Ире, Августа жалобно стала просить:
– Ты останешься со мной? Останешься? Пусть все уйдут… Ты любила его, ты поймешь…
Все тихо вышли из комнаты. Ира помогла Августе раздеться, расчесала волосы, заплела косу, раскрыла постель.
– Нет, нет, переложи подушку на ту сторону, – слабым голосом просила Августа, – а то мне не видно будет…
– Что, Гутя?
Августа указала в передний угол, где висела не то картина, не то икона – «Моление о чаше».
– Правда, похож?
Действительно, лицо Иисуса, стоящего в молитвенной позе, чистыми чертами напоминало Ленино лицо.
– Не то выражение, – сказала Ирина, – по-моему, нельзя сравнивать.
– Можно! – свистящим шепотом ответила Августа, и снова судорога пробежала по ней. – Ничего ты не знаешь! Чаша могла пройти мимо.
– Гутя, перестань, – строго сказала Ирина. – Ты вне себя. Ложись в постель, или я уйду.
Августа со стоном легла.
– Я измучилась, Ира, милая, я не могу больше, ты пойми! Вот он мёр… его уже нет, а любовь и ненависть жгут, жгут, жгут…
– Не клевещи на себя, – сказала Ирина, – какая ненависть!
– Люблю и ненавижу! – повторила Августа, садясь в постели. – Он предпочел мне что? «Народное благо»! Дела человечества ли, народа ли – провались они! провались! провались! – стояли между нами. Он должен был выбрать меня и жизнь!
– Не в его власти было выбрать жизнь, – мягко сказала Ирина.
– Ничего ты не понимаешь!
Августа зажмурилась и откинулась на подушку.
Прошло с полчаса. Ирина, думая, что она заснула, хотела уже тихо выйти из комнаты, как вдруг Августа раскрыла глаза и вперила их в картину «Моление о чаше». Медленно поднялась с постели и, хватаясь за мебель, побрела в передний угол, упала на колени.
– Холодный мой! – нежным стонущим голосом проговорила она и протянула руки к картине. Вся трясясь, рыдая, царапая пальцами воздух, Августа молила: – Ну, улыбнись! Дай знак, что простил! Дай знак! Дай знак! Дай знак!
И вдруг дикий рев раскатился по всему дому, поднял всех на ноги.
– Он смее-е-тся! – закричала Августа и покатилась на пол в буйном припадке.
Утром ее увезли в психиатрическую лечебницу, за город.
XI
Весна, лето и осень тысяча девятьсот восьмого года прошли в напряженных, нервных хлопотах, пока дело, которому отдался целиком Охлопков, не пришло наконец к желанному завершению.
Дело это заключалось в следующем.
Месяц за месяцем все последние годы Охлопков наблюдал, как хиреют и чахнут заводы горного округа, которым он управлял. Даже самый крупный – Верхний – и тот большую часть года стоял на консервации… Что же говорить об остальных восьми маленьких предприятиях, от которых так и веяло глубокой стариной?
Правда, нельзя было пожаловаться на продукцию этих заводов. Продукция была первосортная, так как мастера из рода в род передавали свои производственные секреты… Беда была в том, что продукции этой выдавали мало и стоила она дорого. Заводы стояли в глуши, чугун и железо вывозили гужом или на речных барках – это удорожало стоимость металла.
Охлопков отлично понимал, что теперь, когда Уралу приходится конкурировать с молодыми, сильными, быстро растущими заводами Юга, старые заводики не могут дать прибыли.
Смелая мысль пришла ему в голову.
Весной Охлопков выехал в Петербург и предложил свой проект правлению акционерного общества, членом которого был и он сам.
Охлопков хотел, чтобы акционерное общество скупило у маломощных владельцев убыточные заводы. Когда сделка состоится, можно будет все силы и средства бросить на Верхний завод. Он издавна славится своим железом и стоит возле крупной узловой станции. Если по-настоящему заняться Верхним заводом, он будет давать колоссальную прибыль. Сюда можно будет передать лучшую часть оборудования с малых заводов и перевести лучших мастеров.
Правление уполномочило одного из своих членов съездить на Урал, осмотреть все на месте. С ним выехали и консультанты – несколько видных специалистов.
Верхний завод произвел на эту комиссию самое выгодное впечатление. Неудивительно: это было одно из самых крупных старинных железоделательных предприятий Урала.
Проходя с комиссией по заводу, Охлопков убеждал:
– Домну – долой! Вот вы видели сами это допотопное водяное колесо… С таким дутьем ход ее не ускоришь.
– А если паровую воздуходувку?
– Поверьте, ни к чему нам домна!.. Невыгодная статья… Механическую фабрику сократим… пусть работает только для нужд завода…
И Охлопков принимался – в который уж раз! – доказывать, что все внимание надо отдать прокату, расширить его производство. «Ведь именно прокатом славен этот завод! Увеличим выпуск продукции и будем вне конкуренции!»
Вскоре правление акционерного общества начало переговоры с владельцами. Охлопков все время был в курсе этих переговоров, подсказывал нужные шаги. Заводы удалось купить, в сущности, за бесценок.
Летом часть малых предприятий закрылась – оборудование перевезли в Перевал. К тем предприятиям, которые уцелели при этой пертурбации, провели железнодорожные ветки. Началась кутерьма и на Верхнем заводе.
Управителем поставили инженера Зборовского. Начались увольнения служилой братии. Взяли нового казначея, счетоводов, канцеляристов, некоторых начальников цехов.
Встала домна. Сократилось производство механической фабрики. Рядом со старым листопрокатным цехом начали строить новый.
В поселке появились новые люди – мастера с закрытых заводов. Они строили себе дома или перевозили свои с прежнего места.
Однажды, в конце осени, Охлопков и Зборовский зашли в длинный мрачный корпус листопрокатного цеха. Они рассуждали о том, как при минимальных затратах переоборудовать цех. Решено было заменить паровыми машинами турбины прокатных станов и гидравлические молоты.
Вдруг Охлопков замолчал, поморщился и указал глазами на рабочего, который, достав клещами из печи разогретую сутунку, покатил ее на двухколесной вилке к стану.
– Придется ставить кран… Это в конечном счете оправдается.
Он замолчал, глядя на привычную картину напряженного труда.
В цехе было более жарко, чем в самой горячей бане. Опаляющим дыханием дышали нагревательные печи, нестерпимый жар испускали раскаленные листы, выходящие из-под валков стана. Даже в отдалении было трудно дышать и хотелось закрыть глаза или отвернуться от слепящего огня… А рабочие быстрыми движениями, которые казались постороннему наблюдателю легкими, перебрасывали раскаленные листы, направляя их между валками. Листы эти, прозрачнокрасные, дышащие, проходя между валками, делались все тоньше и тоньше, все темнее и темнее. Угольная горячая пыль реяла в воздухе.
В дальнем конце на ножницах шла обрезка остывших листов. Рабочие сортировали, упаковывали их в кипы и, погрузив на вагонетки, везли в листобойное отделение. Ударил колокол. Пришла вторая смена. На ходу стала принимать работу.
Роман Ярков передал свои клещи сменщику, сказал: «Отробились!» – зубы его сверкнули. Мокрое, запачканное угольной пылью лицо широко улыбнулось.
Он непринужденно подошел к начальству, поздоровался и спросил, правда ли, что их цех будут перестраивать. Подошли и другие рабочие, стали прислушиваться. Появился смотритель цеха.
Охлопков снисходительно посмотрел на Романа. Он уже раньше обратил внимание на этого богатыря, который, казалось, не работал, а весело играл раскаленными листами, не чувствуя ни их тяжести, ни жара, ни угарного воздуха…
– Перестраивать не будем, но некоторые новшества введем, – сказал Охлопков, – новые владельцы решили увеличить прокат. Скажу вам, братцы, то, что относится к вам. Работать вы будете на четыре смены, это значит, каждый из вас будет находиться в цехе не двенадцать, а только шесть часов.
– А плата? – испуганно спросил кто-то.
– Плата останется прежней.
Радостные восклицания прервали его: «Да но-о?», «Вот спасибо! Облегчение нашему брату!»
– Но имейте в виду, – Охлопков повысил голос и холодно отчеканил – будете прокатывать в смену не менее шестисот листов.
Кто-то присвистнул. Наступило молчание. Охлопков видел вокруг себя угрюмые лица и понимал, что он должен сломить внутреннее сопротивление этих людей.
Он сказал:
– Кто не захочет – скатертью дорога. Желающие найдутся на ваше место. – Помолчав, он добавил – А будете давать свыше шестисот – наградные будут.
– А если меньше?
– За «меньше» и получка будет меньше… Ну, что ты так воззрился? – спросил он Романа. – Сказать что-то хочешь? Ну, говори.
– Я понял так, – начал Роман, сердитыми, сверкающими глазами глядя на Охлопкова, – давать шестьсот листов за шесть часов – это человек должен стать вроде машины. Ну ладно, стал он вроде машины… долго ли выдюжит? Выробится мигом… Поспевать не заможет, тогда его и выпихнут взашей? Так?
Он прочел жестокий ответ в молочно-голубых глазах начальника. Он понимал, что говорить сейчас нельзя, опасно, бесполезно… но гнев ударил ему в голову.
Неожиданно для себя Роман сказал:
– Какое же это – новшество? Не новшество это, а людоедство!
– Не рассуждать! – прикрикнул смотритель цеха. – Ты! Языкастый!
Охлопков же медленно произнес:
– Тебе не нравится? Что же… упрашивать никто не будет. Я думаю, цех без тебя обойдется.
Круто поворотившись, он направился к выходу, кинув на ходу смотрителю:
– Чтобы духу его здесь не было! – он кивком указал на Романа.
Оглушенный, растерянный, стоял Роман перед смотрителем цеха и, стараясь скрыть свою растерянность, посмеивался в усы.
– Так вот, Ярков, к расчету! – сказал смотритель.
– Ну, уж сразу и к расчету, – Роман надеялся еще обратить дело в шутку. – Поставьте меня, нето, в печные на время, пока не отмолю грех… Я ведь вам пригожусь еще… Вот переваливать валки, где вы еще такого бугая найдете?
– Прошвырнетесь… Ой, прошвырнетесь, Иван Макарович! – сказал пожилой прокатчик, с угрозой глядя на смотрителя из-под кустистых бровей.
Рабочие, окружив смотрителя, заговорили наперебой, то просительно, то угрожающе.
– Он правду сказал! За что его увольнять! Мы не позволим!
Но все понимали, что отстоять Яркова не удастся – вон сколько наехало прокатчиков с закрытых заводов! Понимал это и смотритель. Он скучающим, пустым взглядом смотрел на рабочих.
«Да что это мы просим, кланяемся этому холую?» – подумал Роман, и глаза его блеснули гордым пренебрежением.
– Хватит, ребята! – сказал он отрывисто. – Нет– не надо. Наплевать.
Он круто повернулся и пошел, посвистывая, прочь из цеха.
А на сердце у него скребло… «Что я натворил? Стерпеть надо было, смолчать… а потом и ахнуть в прокламации! Вот, мол, под видом облегчения какой хомут надевают! Нельзя мне уйти с завода, никак нельзя: только развернули работу, ячейки ожили… Эх, и всыплет мне Лукиян! Попрошусь-ка в механическую!»
Там свободных мест не оказалось. «Своих рабочих увольнять приходится», – сказали ему.
Ярков отправился в мартеновский цех. Смотритель спросил, за что он уволен.
– Да вот не уноровил, сказал не так…
– Рассказывай, как было дело, все равно узнаю, – потребовал смотритель. А выслушав Романа, сказал – Иди с богом. Мне такие умники не надобны.
Отказались принять Романа и на лесопилку, и в кирпичный цех, и в железнодорожный, и в копровый. Больше идти было некуда.
«Тьфу ты пропасть! – думал он, медленно шагая к проходной. – Похоже, что не устроиться».
В раздумье Роман невольно остановился у ворот листопрокатки. В эту минуту они приоткрылись. На Романа пахнуло угарным жаром. Он увидел в красном отсвете печей ловкие черные фигуры с клещами в руках. Услышал характерный звук шлепающихся на пол железных листов… Горько ему стало…
Роман так ушел в свои мысли, что не слышал ни всхрапывания лошади, ни скрипа полозьев приближающейся подводы. Сердитый окрик привел его в себя.
Отскочив, Роман споткнулся о чушку, лежащую возле дороги. Глядя вслед угольному коробу, рядом с которым шагал низенький мужик в широкой яге и малахае, решил: «Наймусь к подрядчику! Хоть так, хоть этак – все на заводе буду!»
Роман повеселел. «Наймусь руду возить, можно будет связаться с рудничными, и литературу будет легче распространять… Или наняться уголь возить? В куренях множество недовольства… как порох вспыхнут в случае… Но не стану я торопиться, с Давыдом посоветуюсь, с Лукияном… Эх, и всыплет мне Лукиян!.. А о людоедских порядках в листокатальном пусть напишут в газете».
Чекарев попросил Романа подождать, не наниматься на работу, а прежде съездить в Ключевское. Учитель даст материалы, которые надо привезти до отъезда делегата на партийный съезд.
Роман пришел домой поздней ночью.
– Собирайся! Завтра поедем гостить в Ключи! – сказал он Анфисе веселым, громким голосом, будто и не заметив ее заплаканных глаз.
– А на работу? Или тебя отпустили?
– Отпустили! На все четыре стороны, – со смехом ответил Роман, – я теперь – вольная птица.
Анфиса так и ахнула:
– Романушко?!
– Не куксись, милка, все хорошо будет, не пропадем! Да не бойся ты… посмотри-ка на свою свекровушку – бровью не повела! Молодец, мать!
– А неужто охать да причитать, в мутны очи песку сыпать? Легче от этого не будет.
Анфиса намек поняла.
– Да я ведь ничего. Тебе хорошо, и мне хорошо;
«Тятя нас не бросит, пособит!» – подумала она.
Роман сказал:
– Только уговор! Солому ешь, а форсу не теряй… Перед своими там не вздумай прибедняться, милка, а то, ей-богу, осержусь!
XII
У платформы полустанка стояли три подводы. Кони, запряженные гусем, были как на подбор – сытые, лоснящиеся, в кожаной с насечкой сбруе. Они горячились, рыли копытами ямы в снегу. В ковровых глубоких санях поверх сена положены были перовые подушки в розовых и синих наволочках.
Роман Ярков поинтересовался, спросил чернобородого ямщика, какого это жениха встречают, откуда. Но тот хмуро ответил:
– Никакого не жениха… Это власти едут на следствие.
– Или случилось что?
– Убийство… А ты иди, иди, не разговаривай… видишь, господа!
Ямщик сдернул шапку, изобразил на своем разбойничьем лице радостную преданность и схватил меховое «шубное» одеяло, чтобы укутать господам ноги.
Следователь, врач, письмоводитель, становой пристав, полицейские чины, жандармский офицер – все прошли мимо Ярковых.
Рысцой побежал степенный старшина к передней подводе, вскочил на кучерскую скамейку, примостился рядом с чернобородым кучером.
– С богом, братцы! Трогай! К большой сосне заворачивай! Поняли?
Крепко держась за доску передка, он с беспокойством оглянулся: не вывалился бы на раскате из саней какой-нибудь начальник!
Кони понеслись… и звон колокольцев скоро замер в отдалении.
– Ну что же, Фиса, лошадок у нас с тобой нету, – сказал Роман, – видно, на своих парах покатим? – И они быстро пошли по неширокой, но хорошо укатанной дороге к лесу.
Солнца в этот день не было. Казалось, небо прикрыло землю теплым серым колпаком – неоткуда дунуть ветру. Пихты и сосны сонно опустили ветви, на которых лежал рыхлый, как вата, снег. Кучи хвороста напоминали белые подушки. И только заячьи следы говорили о том, что жизнь в лесу не совсем замерла.
Идти было так легко и приятно, что Роман время от времени, разбежавшись, катился, как мальчишка, по широкой зеркальной колее.
На еланях дорога была хуже – ее перемела вчерашняя метель, но путники наши не сбавляли ходу. Скоро им стало жарко. Роман даже расстегнул воротник полушубка и пошутил:
– Вот тех господ заставить бы пробежаться! Живо бы упарились!
Фиса не улыбнулась в ответ на его шутку, и он заботливо спросил:
– Ты что, милка, затуманилась?
– Что-то у меня сердце вещает, Романушко.
– А что оно у тебя вещает?
– Нет, ты не смейся… Большая-то сосна невдали от нашего покоса… А вдруг да это тятю моего убили? Пойдем скорее.
– И так несемся, как два добрых рысака… Нет, Фиса, напрасно ты беспокоишь себя: кто будет папашу убивать? За что?
– А за платину-то! – тихо ответила Анфиса и еще прибавила ходу.
Они вышли к широкому логу, занесенному снегом. На противоположной стороне стоял ровный, будто подстриженный лес, и только одна-единственная сосна высоко вознесла свою крону из глубины этого леса. Ее прямой ствол и раскидистые ветви резко выделялись на сером фоне неба. Фиса со страхом указала на это могучее дерево мужу:
– Вот она… даже глядеть боязно…
– А ты не гляди.
Ярковы пересекли лог и снова попали на лесную, с зеркальными колеями дорогу. Но Романа уже не тянуло кататься, он устал.
– Давай-ка отдохнем! Эх, жалко, солнышка не видать, не узнаешь, сколько времени… Но брюхо мое говорит, что обедать пора.
Он сошел с дороги и стал утаптывать своими большими серыми валенками снег у поваленного ствола. Шапкой расчистил место для сиденья, обломал торчащие прутья, чтобы не зацепили Фисину шубу.
Они уселись рядком. Фиса вынула из узелка пшеничный калач, разломила, и в воздухе вкусно запахло хлебом.
– Ну и хлебушко! – нахваливал Роман, берясь за второй кусок. Мастерица ты у меня стряпать!.. А сама что не ешь?
– Неспокойно мне, – ответила Анфиса, – боюсь я чего-то. Вставай, Романушко, пойдем!
Они едва сделали несколько шагов, как Фиса взяла мужа за руку:
– Послушай-ко!
Слабый звук колокольцев донесся из леса.
По узкой просеке, переваливаясь с боку на бок, тянулись знакомые Ярковым подводы с начальством. Вот они выбрались одна за другой на твердую дорогу. Чернобородый ямщик гикнул. Залились колокольцы… и скоро все сани скрылись за поворотом.
Из просеки вышла еще одна лошадь, пугливо всхрапывая. Ее вел под уздцы рослый мужик. Она тащила за собой широкие розвальни, в которых под мелко плетеной мочальной рогожей лежали два тела. Ноги их, обутые в кожаные сапоги, выставлялись из-под рогожи. За розвальнями шло еще трое мужиков.
Фиса поздоровалась с ними и, пугливо косясь на розвальни, спросила:
– Ой, дяденьки, милые, кого это убили?
– Стражника да урядника, обеих разом, – ответили ей.
– Кто хоть их убил-то?
– Кто убил, тот руки-ноги не оставил! – И мужики обменялись взглядом, как будто знали, но не желали говорить. – Вот ужо начальство дознается, кто.
– Куда же вы везете покойничков-то? – спросил Роман.
– В катаверну! Доктор их завтра потрошить будет…
Лес кончился, и за широкими лугами на холме показалось Ключевское. Подводы с начальством уже въезжали в село. А у леса возле дороги, в целом снегу, билась лошадь, силясь вытянуть на дорогу большой воз сена. Низкорослый мужик помогал ей, налегал плечом, кричал тонким, сиплым голосом: «Но! Но! Милая!» Лошадь, такая же низенькая и «некормная», с длинной лохматой шерстью, остановилась, дрожа, набираясь сил. для нового рывка.
К подводе со всех сторон бежал народ, – очевидно, ямщики сказали, что убитых везут следом. Из школы высыпали ребятишки с холщовыми сумками, из которых выглядывали деревянные рамки грифельных досок, старые-престарые задачники и книжки «Родная речь». Учитель, стоя на крыльце, кричал строгим голосом:
– По домам, ребята! По домам! Слышите?
Но только несколько девчоночек послушались его, свернули в боковые улицы. Мальчишки же так и облепили подводу, чуть не взбираясь на розвальни. Молоденькая помощница учителя пыталась их отогнать и отправить домой, но ребята ловко ускользали от нее, перебегая и прячась в толпе.
Увидев, что учитель один остался на крыльце, Роман сказал Анфисе:
– Беги домой! А мне охота посмотреть, что дальше будет.
Он сделал вид, что идет вслед за толпой, но, едва Фиса скрылась из виду, подошел к учителю.
Они вошли в школу. Здание было совсем пусто: даже сторожиха и та убежала «смотреть покойников».
Момент для встречи был выбран удачно.
Роман передал литературу – несколько нелегальных брошюр, листовок, газет. Учитель вручил ему отчет о работе своей маленькой ячейки и сведения о Черноярской сельской организации. Членов ячейки решили не собирать: в селе жандармы, полиция, народ весь на улице – трудно в такое время провести конспиративное собрание.
На прощание учитель сказал:
– Заверьте комитет, что дело с обменом покосов мы используем. Разъясняем на этом примере, что интересы народа и интересы буржуазии непримиримы… О столыпинской аграрной политике рассказываем… Да, кто это была с вами? Жена? Она тоже в организации?
– Нет, она ничего не знает, я сказал, что интересуюсь посмотреть на убитых…
– Так зайдите на кладбище, послушайте народ… Сумеете ответить на ее расспросы.
– Это верно.
Роман пошел на кладбище.
Решетчатые ворота были настежь открыты. Он прошел мимо деревянной, похожей на суслон церковки с покосившейся колоколенкой, Волнистым слоем лежал на кладбище снег, из которого высунулись только невысокие черные, синие, белые кресты. По направлению к мертвецкой пролегла широкая, будто вспаханная, полоса: сразу было видно, что по целому снегу прошли десятки ног.
В мертвецкую никого не впускали, кроме родных. Слышно было, как на разные голоса воет там урядничиха, слышался детский испуганный плач.
Разговоры шли только об убийстве, но убитых никто не жалел.
Роман узнал, что во введеньев день стражник и урядник были сильно пьяны, ходили по богатым домам «собирали рюмки». Домой ночевать не пришли, но жены их не беспокоились, много раз бывало – запируют, уедут с собутыльниками в Черноярскую или в Лысогорский завод, прогуляют два-три дня и воротятся как миленькие.
Убийц не называли, не говорили о них прямо, но намекали на Кондратовых.
– Не пойман – не вор, – сказал синегубый дед со впалыми щеками и острым не по годам взглядом. – Только одно сумнительно, православные: никто из них сюда не идет… вот это сумнительно!
Но в ту самую минуту, когда он договаривал последние слова, толпа так и ахнула: в кладбищенских воротах показался Тимофей Кондратов.
Он будто и не замечал, что все глаза впились в него, горят жадным, нетерпеливым ожиданием.
– Здорово! – Тимофей тронул шапку, но не снял ее. – Что, туда не пускают?
– Не пускают, – ответил синегубый дед, – а в окошечко можно поглядеть, не желаешь ли, Тимофей Гаврилыч?
Тимофей подошел к окошку.
Слегка нахмурившись, он разглядел убитых, а старик не сводил глаз с него… «Ну, крепок палачонок!» – думал дед, видя, что Тимофей не дрогнул, не переменился в лице.
Тимофей сказал:
– Здорово их испластали! – И не торопясь отошел от окна.
Он вытащил из кожаного портмоне серебряный рубль, положил в деревянную чашку, укрепленную на столбике.
– Жертвую на похороны!
И, равнодушно глядя поверх голов, пошел своей развалистой походкой к воротам кладбища.
Вечером Роман лежал с тестем на полатях в тепле. Он спал и не спал. Слышал покряхтывание Ефрема Никитича, ровный стук сечки в деревянном корыте, скрип деревянного стола, на котором в это время наминали тесто для пельменей… и в то же время в ушах у него звенели колокольцы и ему казалось, что он катится по зеркальной колее.
Но вот заговорила теща, и при первых ее словах Роман окончательно проснулся.
– Все ты молчишь, все молчишь, мила дочь… ровно подменили тебя, говорунью… Или что у вас случилось? Или плохо между собой живете?
– Хорошо живем, – ответила Анфиса и вдруг всхлипнула.
– Чего, нето, ты, Фисунька, ревешь, нас с матерью на грех наводишь? – ласково загудел Ефрем Никитич.
– Не реву я, – отрывисто ответила дочь. – А хоть бы и ревела о чем – мое дело!
– Вон как она поговаривает! – удивился отец. – Может, ты, Роман, скажешь, что у вас не поладилось?
– Она, папаша, горюет о том, что меня вытурили.
– Откуда вытурили? Кто?
Роман сказал.
– Что же теперь делать думаешь, милый сын?
– К подрядчику наймусь, а там видно будет!
– «Видно, видно»! – сердито передразнил тесть. – Все вы молодые – вертоголовые, нет у вас настоящего понятия. А вот сделай по-моему, милый сын, не покаешься, благодарить после будешь, что на ум наставил… Давай-ка жить вместе! Да мы вдвоем-то с тобой знаешь, что сделали бы? Ты, скажем, кайлить, а я на воротке – колесом шла бы работа! Потом, может, прииск бы образовался с нашего-то начинания… О жилье тоже не заботься. Чем плоха наша избушка-хороминка?
Стенная пятилинейная лампа слабо освещала невысокую, но просторную избу: стол, скамьи, посудный шкаф с выцветшей лубочной картинкой за стеклом, деревянную широкую кровать под полатями, горку сундуков у задней стены, большую, чисто выбеленную русскую печь.
Роман, будто не замечая умоляющих Фисиных глаз, сказал твердо:
– Не мани, тестюшко, не выйдет это дело. – Давай, папаша, о чем-нибудь другом говорить, а то размолвимся с тобой, потом жалеть оба будем.
Ефрем Никитич некоторое время смотрел исподлобья на зятя, сердито почесывая грудь. Потом закричал на жену и дочь:
– Чего это они копаются, копаются, а все еще не отстряпаются!
– Не шуми, – тихо сказала жена, – все готово. Сейчас варить будем.
Перед пельменями тесть с зятем выпили по рюмочке, перед вторым варевом – по другой. Ефрем Никитич мало-помалу отошел, повеселел, запел песню:
Вечор поздно из лесочка
Я коров домой гнала.
– Как дале-то, старуха? Я забыл.
– Да будет тебе, право, отец, – сказала старушка, высыпая из миски в блюдо свежее варево, – чего это ты сегодня выкраиваешь? Будет, право.
– А что я выкраиваю?
– Песни орешь, что на той стороне слыхать. Люди разве не осудят? Скажут: «Такая страсть содеялась, двух начальников убили, а у Самоуковых песни играют».
– А чего мне их жалеть? Урядник скотина был, не тем будь помянут, и стражник не чище… Убили их палачата, а нам наплевать!
– Ш-ш-ш! – замахала рукой жена. Она уж не рада была, что напомнила об убийстве.
– Почему все думают о Кондратовых? – спросил Роман.
– Почему? Из-за стряпки!.. Расскажи, старуха.
И Ефрем Никитич, подперев рукою свою буйную головушку, приготовился слушать. Что-то детское было в выражении его цыганского лица.
– У них Маня в стряпках живет, наша соседка, – начала истово старушка, как рассказывают бывальщинку. – Она у Фисы на свадьбе гуляла, такая беленькая… Ну, ладно, живет эта Маня в стряпках. А мать дома живет. А ночью-то во введенье, перед утром, прибегает эта самая Маня домой в чем спала в одной станушке. Забилась на печку, дрожит, зубами стучит: «Ой, мама, родная! Придут за мной от хозяев, не сказывай меня… скажи, что не бывала, а то кончат они и мою голову!» – «Вот беда! Да что случилось, дочка. В уме ли ты?» – «Знать-то кого-то они убили! Я проснулась, вышла на двор, а в конюшне фонарь… кто-то стонет ли, мычит ли… Тимка говорит: „Давни ему горло-то!..“» Только успели переговорить дочь с матерью – стук-стук под окошком! «Тетка Устинья! Дома Манька?» А это сам Тимка прибежал, хватились ее… Устинья говорит: «Нет, Марьи нету, она у хозяев… А это кто?» Он не сказался, убежал. Утром Устинья ко мне прибежала, рассказала все это, погоревали мы с ней… А вечером опять ко мне катится. Начала охлестываться, что, мол, Манюшка соврала, ничего этого не было, а прибежала потому, что Тимка к ней колесики стал подкатывать… Сейчас они, дескать, помирились, он ее замуж берет. Я говорю: «А кто в конюшне-то стонал?..»
– Постой, мама! – прервала Анфиса, тревожна прислушиваясь. – Кто-то к нам идет!
И все услышали, как стукнули ворота и недружные шаги проскрипели по снегу.
Кто-то поднялся на крыльцо, в сени и стал шарить рукой по двери.
В избу вошли сотский с бляхой на груди и незнакомый стражник.
Сотский поздоровался, стражник промолчал.
– Милости просим! – сказала тихо старушка, и блюдо с пельменями ходуном заходило в ее руках.
– Садитесь! – пригласил гостей Ефрем Никитич. – Выпьем… а тут пельмешки сварятся.
– Сидеть-то некогда, – каким-то виноватым голосом ответил сотский. – Мы за тобой, Ефрем Никитич, начальство тебя в волость требует.
Ефрем Никитич разом протрезвился. Острым взглядом окинул он смущенного сотского и невыразительное лицо стражника, подумал, почесал заросшую щеку, спросил:
– Это зачем?
– Нам не сказано зачем, а только сказано привести.
– Завтра приду.
– Не пойдешь – велели силой привести, – совсем робко сказал сотский и втянул голову в плечи, точно ждал удара.
– Силой? – Ефрем Никитич с недоброй усмешкой выразительно поглядел на зятя. – Силой-то, пожалуй, не удастся!
– Отец, – с мольбой шепнула ему старушка, – сходи уж, узнай, чего им так приспичило.
Ефрем Никитич подумал…
– То обидно, – сказал он, – за каким-нибудь пустым делом позовут, а ты беги ночью сломя голову… Ну, ладно! Давай, старуха, пимы!
Фиса достала с печки валенки, портянки, рукавицы. Ефрем Никитич застегнул рубаху, обулся, оделся, подпоясался и, увидев, что зять тоже приготовился идти с ним, спросил:








