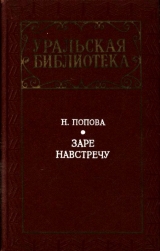
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Партийный комитет видел, что ближе прочих к забастовке Верхний завод – самое передовое, самое крупное предприятие, на котором работает свыше трех тысяч человек.
Любое политическое мероприятие находило здесь живой отклик.
Рабочие Верхнего завода первыми начали собирать деньги для семей расстрелянных на Лене рабочих, и в фонд «Правды», и в фонд бастующих бакинских нефтяников.
В начале четырнадцатого года на заводе было шестьдесят большевиков, готовых в любую минуту встать в ряды борющихся.
А беспартийная масса глухо бродила…
Поводов для недовольства было много: рабочий день продолжался по одиннадцать-двенадцать часов, рабочих донимали штрафами, оплата труда оставалась низкой… Антисанитарная обстановка, полное пренебрежение к технике безопасности, произвол администрации дополняли безотрадную картину. К июню положение стало настолько напряженным, что можно было каждый день ожидать стихийных выступлений.
Партийный комитет решил провести забастовку.
Ночью в малухе Ярковых собрались представители цеховых партийных ячеек, чтобы наметить план действий и обсудить пункты требований. От городского комитета присутствовал Илья Светлаков.
На скамьях, сходящихся углом под божницей, на кровати, на полу, на печи разместились кто где мог. Дверь и окно закрыли, и в малухе было нестерпимо душно.
В волнении все курили, и керосиновая лампа светила, как сквозь туман.
Собравшиеся горячо одобрили Илью, который предложил внести в проект резолюции такое заявление: «Рабочие Верхнего завода, верные идеям социализма, считают экономическую борьбу неразрывно связанной с политической борьбой – с могучим освободительным движением в России».
Пункты о восьмичасовом дне, о повышении оплаты, о спецодежде не вызвали особых разговоров. Это все было ясно и четко сформулировано.
Но вот зашла речь о непорядках в отдельных цехах, и тут каждый хотел сказать свое слово, выразить требования своего цеха. Коммунист из листобойного сказал, что при подмусоривании листов, когда угольная пыль стоит столбом, в цехе приходится разводить костры – иначе ничего не видно. Рабочий всю смену вынужден глотать угольную пыль и дым, многие стали «харкать чернедью»… Представители горячих цехов говорили, что чуть не каждый день приходится выносить из цеха на вольный воздух угоревших… Павел Ческидов заявил, что в механическом часты несчастные случаи – надо потребовать, чтобы администрация позаботилась об ограждении механизмов и заменила старые приводные ремни.
Когда пункт об улучшении условий труда был записан, перешли к вопросу об отдельных работниках администрации.
– У нас в механическом самый заядлый мастер Коровин. – И Ческидов обстоятельно начал рассказывать: – Он дает работу сверхурочно, а когда она готова, только тогда он пишет расценок… и пишет, как бог, на душу положит… даст, сколько захочет. Наши рабочие требуют: убрать Коровина с завода.
– Убрать мастера Коровина, – повторил Роман Ярков, записывая это на листе бумаги.
– Заведующий станцией, – пиши, Роман Борисыч, – заведующий станцией, электротехник Ветлугин грубит рабочим, пьяница, – сказал пожилой машинист электростанции. – Масленщиков заставляет мыть пол во время работы машин, а кочегаров, когда работают котлы… Все шиворот-навыворот! Снять его к черту!
– Записал…
– У нас в крупносортном скоро от фамилии своей можно отвыкнуть… Свистнет мастер, как собаке, – и иди к нему… Всякая болезнь ему леностью кажется…
Так стачечный комитет наметил требования и в течение нескольких дней согласовал их со всеми рабочими завода.
Встал вопрос о том, кто же предъявит эти требования.
Решили выбрать солидных, опытных рабочих, которых администрация не посмела бы выбросить с завода. Членов стачечного комитета в депутацию не ввели.
В обеденный перерыв депутация направилась к Зборовскому, а несколько десятков рабочих заполнили полутемный коридор заводоуправления, как бы подкрепляя своим присутствием выборных. Услышав топот множества ног, стали выглядывать из дверей чертежники, счетоводы, конторщики, которые уже прослышали о том, что готовится забастовка. Очевидно, эти слухи дошли и до администрации. В кабинете Зборовского с утра сидел Охлопков – грозный, хмурый и неразговорчивый.
Зборовский принял выборных с ироническим добродушием, под которым угадывалась твердая решимость. Откинувшись на спинку кресла и поглаживая поручни, он выслушал требования.
– Сам я не могу ни принять ваши требования, ни отказать вам, – сказал он выборным, – оставьте свою «гумагу», положите вот сюда на стол… и отправляйтесь… Пошлю ее в Петербург, в правление акционерного общества… пусть хозяева решают.
– А вы с господином Охлопковым разве не хозяева? – спросил машинист электростанции, который был в числе выборных.
– Не хозяева! – резко ответил Зборовский. – Георгий Иванович управляет округом и к заводу имеет отношение постольку, поскольку… А я такой же наемный работник, как и вы…
Выборные поглядели друг на друга, не зная, что сказать. Доводы Зборовского показались им убедительными.
Охлопков во все время не сказал ни слова. Он стоял спиной к рабочим в открытых дверях балкона.
…А через неделю, когда пришел ответ из Петербурга и Зборовский вызвал к себе выборных, Охлопков встретил их потоком площадной брани.
– Наслушались, сиволапые, агитаторов!.. А ну, бастуйте! Кто забастует, того вон с завода! К чертовой матери! – кричал он.
– Становитесь на работу, – сказал холодно Зборовский, когда Охлопков замолчал наконец и стал вытирать пот, обильно выступивший на его лице. – Георгий Иванович вам сказал уже, а я подтверждаю: ваши требования отвергнуты, никаких поблажек вам не будет. Становитесь на работу, и постараемся забыть эту… размолвку. Понятно? Ступайте!
И он заговорил с Охлопковым, не обращая больше внимания на выборных, которые не сразу пошли к дверям.
Едва дверь за выборными закрылась и в коридоре загудели сдержанные голоса, Зборовский замолк и стал прислушиваться, сдвинув брови.
– Должен признаться, – сказал он вполголоса, – я не совсем уверен… Мы в серьезную игру вступили… а вдруг…
Он не договорил, взглянул на часы…
До конца обеденного перерыва оставалось еще двадцать минут, а между тем во всю мочь заревел заводской гудок.
– Сигнал! – сказал Зборовский и вскочил с места. – Георгий Иванович! Они бастуют!
Охлопков мрачно выругался.
Гудок ревел не переставая. Заводской двор наполнялся рабочими. Зборовский наблюдал в окно. Он узнавал чумазых кочегаров, рабочих листобойного цеха, токарей в замасленных поддевках, крупносортников; не видно было только мартеновцев. Но вот из ворот мартеновского цеха вышли гурьбой рабочие в широкополых валяных шляпах с заткнутыми за пояс грубыми вачегами – рукавицами. Один из них крикнул ему в окно:
– Плавочку выпустили – и шабаш! Ничего не изовредили!
Тихо стало на заводе. Замолчали станки. Не шумит пламя в горнах и печах. Не лязгает железо. Не бухают молоты. Не свистит паровозик-кукушка. Умолкли голоса.
Зато зашумела, наполнилась народом площадь перед заводоуправлением. Рабочие не разошлись по домам, а сгрудились вокруг памятника Петру Первому. На постамент поднялся Роман Ярков.
Он поднял руку и голосом, в котором зазвенела вся удаль, вся ширь его натуры, закричал:
– Митинг объявляю открытым!
Охлопков и Зборовский, стоя у окна, видели и слышали все это и были не в силах помешать. Они слышали призывы: «Держаться до полной победы!», «Не выходить на работу, пока наши требования не удовлетворят!» Видели, как дружно подымаются руки при голосовании. Охлопков пожелал в бессильной ярости: «Хоть бы один дурак додумался – швырнул бы камень в окно… хоть бы угрожали, черт их побери!» Но митинг проходил без всяких эксцессов, и воодушевление выражалось только в полной дружной согласованности:
– Полицию вызову! Хоть попугаю… – решил Охлопков.
Но полиция не успела явиться. Митинг закончился, и рабочие мирно разошлись по домам.
Ясно было, что жандармы постараются схватить всех «зачинщиков забастовки», то есть стачечный комитет. Поэтому никто из комитетчиков не ночевал дома.
К Ярковым «архангелы» явились в первую же ночь, сделали обыск, но ничего не нашли. На вопрос: «Где муж?» – Анфиса ответила с вызывающей улыбкой:
– Загулял он у меня…
А Роман ночевал то у «тети», то у ломового извозчика, у которого жил Илья, то в поселке, где любой рабочий рад был ему, как дорогому гостю.
Умываясь утром у крыльца из чугунного рукомойника с рожком, Роман прикидывал в уме, что ему надо сделать сегодня: зайти к таким-то и таким-то (члены стачечного комитета каждый день обходили «колеблющихся»), назначить в пикет того-то и того-то, провести собрание.
– Что рано встал, Роман? – спросил, позевывая, хозяин, кряжистый горновой. – Спал бы да спал…
Они присели на ступеньку, ожидая, когда сварится картошка и хозяйка позовет их к столу.
– Пойти порыбачить, – сказал хозяин, вдыхая свежий утренний воздух. – На пруду сегодня благодать…
Вдруг того и другого разом подняло с места: они услышали гудок! Роман в испуге, в изумлении поглядел на своего товарища и, как был – без фуражки и без поддевки, – кинулся к заводу.
На площади уже собралась густая толпа. Ворота завода, на которых висело объявление о найме рабочих, были закрыты. У проходной будки стоял пикет.
– Что получилось? – отрывисто спросил Роман. От быстрого бега он раскраснелся, громко и часто дышал.
– Никого мы, Роман, не пропустили, муха не пролетела, – отвечали ему. – Разве через заводоуправление прошло человек до пятка! Не сомневайся, робить некому! А пары развести да гудок пустить – это дело немудреное.
– Ты слушай, что я тебе расскажу, – тихо начал один из рабочих, стоящих в пикете, – ты моего дядю Макара знаешь? В конторе сторожем он.
– Ну?
– Ночесь мне говорил… у них есть один конторщик – старик седой, Баталов Сергей Флегонтович. – Ну, он дяде Макару говорит: пусть, мол, забастовщики держатся! Каждые сутки простоя сколько-то тысяч стоят.
– Еще что?
– Из общества фабрикантов и заводчиков списки пришли, кого нельзя брать на работу. И наши будто им такой же список послали…
Он не договорил. Снова заревел умолкший было гудок.
Роман заметил, что рабочие показывают друг другу на балкон заводоуправления, и сам поглядел туда. На балконе стояли грузный Охлопков в вышитой чесучовой косоворотке и стройный Зборовский в тужурке со светлыми пуговицами.
Охлопков подошел к перилам, оперся на них, широко расставив руки и жмурясь, как от солнца, ждал, когда утихнет гудок.
Наконец гудок умолк.
– Ребята, – начал Охлопков грубым, громким голосом, слышным на всей затихшей и насторожившейся площади, – бросьте дурить, вставайте на работу! Я в последний раз говорю добром! Рассудите: забастовочного фонда у вас нету… недолго профорсите. Мы на уступки не пойдем!
– А мы и подавно! – выкрикнул Роман.
Запрокинув непокрытую голову, он глядел в лицо Охлопкову и улыбался злой, вызывающей улыбкой.
– Ты! – гаркнул Охлопков и перегнулся через перила, будто собираясь броситься вниз. – Опять ты здесь, варнак!.. – Он хлопнул в ладоши: – Эй, взять его! Вот этого… в синей рубахе… крикуна…
Из дверей заводоуправления выбежали несколько полицейских и, придерживая шашки, бросились к Роману.
Забурлила, заколыхалась, закричала толпа и плотной стеной встала перед полицейскими.
Роман исчез.
– Он там! – задыхаясь, кричал Охлопков, указывая пальцем. – Он у памятника!
Полицейские попытались пробраться к памятнику. Но, куда бы они ни сунулись, всюду натыкались на живую стену. Грозная веселость овладела рабочими. Послышался разбойный посвист, улюлюканье. Но все разом стихло при возгласе Романа:
– К порядку, товарищи! Если им нечего больше сказать – разойдемся по домам! Не дадим себя спровоцировать!
К перилам подошел инженер Зборовский.
– Ребята, – сказал он, – одумайтесь! Не верьте своим агитаторам, они ведут вас в пропасть! Порядок незыблем. Ничего вы не добьетесь. Если завтра не выйдете на работу, пеняйте на себя. Найдем других рабочих. Вас сбила с толку агитация!
– Лучшая агитация – на своих боках узнать… Знаем мы сладость капитала! – прозвучал опять насмешливый голос Романа.
Охлопков истошно завопил, выйдя окончательно из себя:
– Да что же это такое?.. Открыть ворота! – Ворота мгновенно распахнулись. – Загнать на двор всех!
Полицейские даже не пытались выполнить это глупое распоряжение, данное в запальчивости: под силу ли им было справиться с многосотенной толпой? Они стали хватать то одного, то другого и тащили поодиночке к воротам.
Рабочие вырывались из рук, увертывались, послышался сердитый смех.
– Поиграем, дяденька, в ляпки! – дразнил хмурого полицейского ученик токаря Володька Даурцев – круглоглазый паренек с ямочками на щеках и подбородке.
– Говорил ведь я, что эта затея с гудком ни к чему! Фарс какой-то… – с упреком проворчал Зборовский Охлопкову, но тот не слышал и кричал во все горло:
– Сдавайтесь, негодяи! Придете поклонитесь, за половинную плату будете коробку гнуть!
– Не поклонимся! – кричали ему в ответ.
Роман тщетно призывал к порядку. Шум все усиливался.
– Товарищи! – вдруг закричал Володька Даурцев, взобравшись на постамент памятника. – Глядите, предатели рабочего класса идут!
Звонкий голос его срывался от негодования.
На площадь вышло гуськом человек пятнадцать штрейкбрехеров. Их сопровождал наряд полиции. Они шли нестройной цепочкой: кто вразвалку, с засунутыми в карманы руками, кто – опустив голову и не глядя по сторонам. Степка Ерохин шел последним, нагло улыбаясь.
Роман видел, что наступил серьезный момент: стоит пропустить штрейкбрехеров к заводу, колеблющиеся рабочие – а таких в трехтысячном коллективе было немало! – могут последовать примеру.
– Товарищи! Не пропускайте!
Толпа отхлынула к раскрытым настежь воротам – преградила путь.
Пока полицейские пытались расчистить дорогу, рабочие окружили штрейкбрехеров и стали их усовещивать:
– Мы прав добиваемся, а вы нас по рукам ударяете!
Роман задушевно говорил старику рабочему:
– Тебя, дядя Миней, в беде не бросили, когда погорел… а ты товарищам в трудную минуту тыл показываешь! Стыдно, дядя Миней!
– Да ведь семью-то кормить надо…
– Семье пособим, сколько возможно… только не позорь ты себя, дядя Миней!
Старик стоял в тяжелом раздумье.
– Дядя Миней, – с силой сказал Роман, – и вы все, ребята! Вы на росстани стоите в эту минуту: либо с нами, – он повел рукой кругом, – либо с ними, проклятыми, – указал на белый, ослепительно сверкающий на солнце дом заводоуправления. – Или вы – товарищи наши, или проклятые иуды! Вот! Выбирайте.
– Иуда? – сказал Миней и поднял опущенную голову. – Нет, в иуды я пойти не согласен! Айда по домам, ребята!.. Лучше с голоду замереть, чем… так и старухе своей скажу.
Он решительно повернулся и стал тихо удаляться с площади. За ним потянулись и другие. Группа штрейкбрехеров. растаяла.
– Войско! – крикнул Володька Даурцев.
Роман вскочил на постамент и увидел колонну солдат с ружьями на плечах и примкнутыми штыками. Громко, на всю площадь скомандовал он:
– Товарищи! Спасайтесь! Нас окружают!
В тот же день в лесу на полуострове состоялось собрание. Рабочие единодушно решили продолжать забастовку. Стачечный комитет объявил им, что коллективы завода Яхонтова и железнодорожных мастерских приветствуют бастующих и выражают солидарность с ними. Проводят денежный сбор в размере половины дневного заработка. Собравшиеся просили передать этим товарищам глубокую благодарность.
Затем стали обсуждать текущие дела.
Поселковые лавочники закрыли кредит на время забастовки. Это ставило бастующих рабочих в трудное положение. По предложению Романа Яркова собрание решило в свою очередь объявить бойкот лавочникам, если они не восстановят кредит.
– Увидят, как мы организованно действуем, небось испугаются! (Впоследствии так оно и вышло, как говорил Роман: лавочники восстановили кредит, чтобы не лишиться постоянных покупателей.)
Выяснилось, что на дому у многих бастующих побывал околоточный надзиратель – убеждал выйти на работу, говорил, что хозяева навербовали в других городах две тысячи человек. Собрание решило: усилить агитацию среди колеблющихся рабочих.
В заключение разговор пошел о штрейкбрехерах: решено было бойкотировать их…
Через две недели Зборовский пригласил рабочих для переговоров. Акционерная компания обещала ввести восьмичасовой рабочий день в большинстве цехов, увеличить плату, улучшить технику безопасности… «обязать Коровина, Ветлугина и других, перечисленных рабочими мастеров изменить обращение с рабочими, предупредив, что если они нарушат распоряжение хозяев, будут уволены».
Городской комитет решил, что забастовку пора кончать. Без стачечного фонда держаться дольше было невозможно. Рабочие, особенно многосемейные, уже терпели острую нужду.
И вот однажды утром снова заревел гудок, потекли толпы рабочих через проходную будку, чтобы вдохнуть жизнь в мертвые цехи. Веселые лица освещало горделивое сознание одержанной победы. Даже самые отсталые и те поверили в силу коллектива.
Товарищеский суд снял бойкот с бывших штрейкбрехеров, взяв обещание подчиняться воле коллектива.
Пока шла процедура товарищеского суда, Роман Ярков заметил, что Степан поглядывает на него не то с торжеством, не то с угрозой. Роман сразу насторожился: «Не останусь ночевать дома! Опасно!»
Но ему и до дому дойти не удалось: жандармы схватили его по дороге, усадили в пролетку и увезли к Горгоньскому. После допроса переправили в арестное отделение, где Роман нашел остальных членов стачечного комитета.
Рабочие, узнав об аресте, снова забастовали. «Пока наши выборные под замком – на работу не выйдем!»
Пришлось Охлопкову скрепя сердце просить Горгоньского об освобождении арестованных. Вместе с другими выпустили и Романа, но под условием, что он откажется от работы в больничной кассе.
XVIII
День мобилизации Роман вспоминал позднее, как бессвязный, горячечный сон. В этот день он был гулевым и в первый раз за все лето собрался сходить с Анфисой в лес по ягоды, по грибы.
Но они не успели уйти – задержала теща, которая отправилась «на побывку» к мужу в Вятскую губернию и по пути заехала к дочери. Старуха упрямо держалась в Ключевском – вязала, стирала, шила… жила без коровы, без лошади, держала только курочек… а бросить дом не хотела.
И Ефрем Никитич, и жена его все еще ожидали, надеялись, что в один прекрасный день над ним «смилуются» – позволят жить в Ключах…
Не успели Ярковы напоить гостью чаем и расспросить ее о житье-бытье, прибежал рассылка: мужиков звали на сход.
На сходе им зачитали царский манифест и приказ о мобилизации. Роман – единственный сын матери-вдовы – числился ратником ополчения второго разряда, и мобилизация его не касалась… Он пошел разыскивать Илью, так как понимал, что после объявления войны перед партийными организациями встали новые сложные задачи…
Он не мог самостоятельно определить эти задачи… Мысли двоились. Такой сумятицы чувств он не испытывал еще никогда.
«Немец напал… Неужели же сидеть сложа руки, ждать, пока нас не завоюет?» – думал он. Но все в нем восстало против мысли: «Царя защищать? Буржуев? Ну, нет! Дудки! Пусть сами кашу расхлебывают!»
Он нашел Илью дома, в сводчатой комнате. Илья поспешно писал что-то, перечеркивал написанное, думал и снова писал…
– Зачем пришел? – спросил он с неудовольствием. – Твое место в массе… в такой день!.. Как у вас на заводе настроение?
Роман смущенно ответил:
– С пустой головой в массу не ходят. Давыд! Поговорить с тобой пришел… уточнить… или вот с Ириной…
– Ира, подожди уходить, – сказал Илья, – поговори с ним… Через час – комитет, а у меня, как назло, не получается!
Илья хотел сегодня же выпустить листовку, утвердив ее содержание на заседании комитета.
– Что вас смущает, Роман?
Ирина остановилась у двери. Романа поразила горделивая осанка этой маленькой женщины, ее лицо – лицо человека, который сознает свою правоту и которого преследуют. А Ирину действительно преследовали: ее уволили из школы «за безнравственное поведение», то есть за гражданский брак, ей не кланялись знакомые, от нее отказался отец.
– Меня смущает, как к этой войне относиться, – спросил Роман. – Поскольку Германия напала…
– А вы сами как думаете? – и, не дожидаясь ответа, она продолжала звенящим, чистым голосом: – Кому выгодна эта война – рабочим или буржуям? Разве вы не видите, как они стремятся отвлечь внимание рабочих от классовой борьбы? Натравить русских рабочих на рабочих Германии?
– Это правда, но поскольку напала все же Германия – это война оборонительная?
– Нам говорят: «Германия напала!» Немцам скажут: «Россия напала!» А на деле, может быть, война была еще тогда решена, когда к нам Пуанкаре приезжал! Как выгодно и нужно капиталу, так и делается.
– Понятно, – сказал Роман, – я к тому же склонялся: вести агитацию, разъяснять понятно…
Только сезонники да подрядчики Верхнего завода кричали «ура» и пели «Боже, царя храни». Коренные рабочие говорили о войне возмущенно:
– Затеяли войну, чтобы от революции спастись, рабочих на фронт загнать? Промахнутся! Пусть только нам винтовки выдадут, мы знаем, на кого дуло направить!
– На военных-то заказах наживутся, распыхаются, толстопузые!
Мобилизованные рабочие решили требовать платы за две недели вперед. Собрались на площади перед заводоуправлением и послали ходоков к Зборовскому. Роман Ярков пошел вместе с ними.
Зборовский принял ходоков немедленно и сразу же согласился выдать двухнедельное пособие.
Охлопкова не было. По слухам, он уехал в Лысогорск в первый день мобилизации.
Оповестив рабочих о митинге в лесу, Роман побежал домой перекусить.
Запыхавшись, он вбежал во двор, одним прыжком вскочил на крыльцо и, потный, красный, рухнул на лавку.
– Кваску дай, Фисунька!
Но жена всплеснула руками, всхлипнула:
– На войну тебя берут!
Он не сразу понял.
– Квасу дай мне…
И тут только до его сознания дошли ее слова. Он увидел, что мать пришивает лямки к котомке, а Фиса гладит рубашку. Роман, подняв бровь, прочел повестку, положил на стол.
– Да брось ты, ошибка это… Вот выясню схожу… Ты мне квасу давай, до смерти пить хочется.
Но это не было ошибкой, и негде было искать защиты. Уж если начальство решило сбыть с рук беспокойного человека, – никто этому человеку пособить не в силах.
К вечеру наголо обритый Роман оказался в казарме.
«Что тюрьма, что казарма!» – думал он, оглядывая длинное беленое помещение со сплошными нарами посредине. На нарах лежали тюфяки из мешковины, набитые соломой. Новобранцы со вздохами укладывались спать.
Роман, как и в ночь ареста, старался не думать о семье… воспоминания сами лезли в голову. Он еще чувствовал прикосновение нежных детских рук, отчаянные Анфисины поцелуи, горький вкус слез на ее губах… слышал разбитый голос матери: «Не дождаться мне тебя…»
Мучила его тревога: как теперь пойдет подпольная работа на заводе? Он прикидывал в уме, кого возьмут в армию, кого оставят. Выходило, что самых надежных, боевых товарищей на заводе не останется.
Он хотел стряхнуть унылые мысли, не поддаваться тревоге… и стал думать о революционной работе в армии. «Отовсюду слетятся соколы! Никакому начальству не уследить! Мы еще развернем работенку!» Надежда тихо, как ветерок, опахнула его: «Партия объединит нас, солдат, в большую силу! Может, это подвинет вперед революцию?»
– Роман! – раздался вдруг шепот, и с нар тихо поднялся новобранец с решительным, вдумчивым, строгих линий лицом.
– Чирухин! Миха! Вот где…
Это был тот белокурый мужик, который рядом с Ефремом Никитичем боролся за покосы.
– Вместе нам все же будет веселее.
– Верно, Миша! Вместе будем держаться… если нас не разведут по разным частям.
XIX
Жандармский полковник Горгоньский приехал на вокзал встречать жену и сына. В такое время, когда по деревням и заводам волнуется народ, неразумно было бы оставлять их на даче.
В ожидании поезда он прогуливался по платформе, наблюдая от нечего делать за отправкой эшелона новобранцев.
Вот узкоплечий юноша наклонился и почтительно слушает длиннолицую бесцветную старуху. Она что-то шепчет и мелкими крестами крестит его, а он дрожит мелкой дрожью.
Вот… «Нет, что за лицо! Карменсита!» – подумал Горгоньский, увидев Анфису. Она с отчаянной любовью глядела на мужа и что-то быстро-быстро говорила ему. Тут же стояла сгорбленная старушка с белокурой девочкой на руках. Старушке трудно было держать ребенка, но мать не замечала. Своими расширенными глазами она видела только одного мужа. Шарфик сполз на плечи, кудри распушились, и она была так хороша, что Горгоньский невольно промурлыкал про себя:
Одес-сит-ка… вот она какая!
Одес-сит-ка… пылкая, живая!
Вдруг женщина почувствовала его пристальное внимание, вскинула глаза и точно ударила его: столько ненависти, ярости было в ее коротком взгляде.
Она что-то сказала мужу, и тот обернулся.
«Да ведь это Ярков! Ага! Забрали! Прелестно!» – подумал Горгоньский, глядя на бледное, злое, насмешливое лицо Романа. Это лицо точно отвечало ему на его мысли: «Подожди, не радуйся! Приеду – рассчитаюсь за все!»
Горгоньский повернулся на каблуках и пошел на другой конец платформы по направлению к водокачке. Когда он возвратился обратно, поезд уже взял с места. Толпа провожающих побежала рядом с эшелоном. Свисток паровоза, скрип, стук, крики, рыдания, песни, возгласы – все смешалось.
– Вечно ты мне все портишь, Константин! – капризно говорила жена, сидя рядом с Горгоньским в пролетке. – Ему захотелось – бросай дачу, мчись, изволь, в город, в пыль, в духоту…
За эти годы Зинаида утратила живую легкость речи и манер, отяжелела. Сейчас, когда покачивались рессоры, ее полное тело колыхалось, и это раздражало Горгоньского. Он ничего не ответил жене и спросил четырехлетнего сына, сидевшего у матери на коленях:
– Весело было на даче, карапуз?
– На даче, папа, было весело, – обстоятельно ответил мальчуган, картавя, – я специально натаскал кучу песка. Дядя Вадя со мной в лошадки играл. Шарик там все лает, к нему нельзя подходить, он не играет, а кусается… Дядя Вадя маму богиней звал…
Не желая расспрашивать, но чувствуя привычное «покалывание» (как мысленно называл Горгоньский ревнивое чувство), полковник искоса взглянул на жену.
Слишком равнодушно, слишком уж небрежно («переигрывает!»– отметил муж) Зинаида уронила:
– Глупый мальчишка… Солодковский!
Горгоньскому показалось, что ее улыбка полна воспоминаний… Он сказал ядовито:
– Придется богине снизойти к простому смертному, поскучать здесь… ничего не сделаешь.
Неискренний шутливый ответ жены не успокоил его:
– Богиня снизойдет! Она наскучалась о тиране…
Он ни на минуту не задержался дома – отправился в канцелярию. Ему, действительно, было некогда. В дни мобилизации рабочие и крестьяне Урала ясно выразили свое отношение к несправедливой войне. В селе Ключевском мобилизованные разгромили волостное правление, избили старшину Кондратова.
Мобилизованные рабочие Лысогорского завода потребовали двухнедельного пособия. По совету Охлопкова, находившегося здесь по делам службы, управитель наотрез отказал. Рабочие зашумели. Тогда администрация и полицейские забаррикадировались в заводоуправлении и начали стрелять из окон. Палки, куски руды, камни – все полетело в ответ. Рабочие – охотники, а таких в Лысогорске было немало, притащили ружья и стали палить в окна.
Несколько конторщиков, сторож и чертежник были убиты. Охлопков и казначей заводоуправления легко ранены.
Происходили вооруженные столкновения и по другим уездам. Вся губерния бурлила. Весь штат и вся агентура, не зная отдыха, шныряли среди рабочих, вынюхивали, прислушивались. Сотни рапортов за день стекалось к Горгоньскому.
Едва Горгоньский, усевшись за стол, начал просматривать бумаги, ему доложили об Охлопкове. Подавив раздражение, Горгоньский поднялся с любезной, выражающей сочувствие улыбкой:
– Георгий Иванович! Какими судьбами? Милости прошу!
Охлопков опустился в кресло и точно окаменел. Боль в раненой шее не позволяла ему двинуть головой.
– Полковник! – сказал он своим грубым, отрывистым голосом. – Я еду в Петербург!
– Да?
– Думаю обратиться в совет съездов…
Охлопков имел в виду совет съездов горнопромышленников Урала, находившихся в столице.
Горгоньский ждал, придав лицу вопросительное выражение.
– Вы знаете, что из губернии войска на фронт отправляют?
– Простите, Георгий Иванович, я не совсем понимаю, что мне…
– Надо хлопотать, чтобы оставили, – раздраженно сказал Охлопков. – Не справиться вам с этим зверьем. Осатанел народишко. Вы и губернское управление должны поддержать мое ходатайство.
– Я не поддержу, – холодно сказал Горгоньский, – и губернское управление… совет съездов может хлопотать, но мы… мы не распишемся в своем бессилии. Эксцессов больше не будет! – отчеканил он.
– Поди-ка, думали, и в Лысогорске большевики паиньками пойдут на фронт… А вот что получилось! – и Охлопков указал пальцем на свою забинтованную шею.
– Это не большевики, – небрежно ответил Горгоньский, всем своим видом показывая, как он шокирован. – Это стихийное выступление. – Ион снова изменил тон, придал ему доверчивую задушевность: – Подумайте, Георгий Иванович, все наиболее активные отправлены на фронт! Так? Меньшевики и эсеры призывают народ защищать отечество. Резюме: рабочее движение идет на убыль и скоро сойдет на нет.
Охлопков поднялся.
– А все-таки о войсках я похлопочу.
Горгоньский пожал плечами: как хотите! Прощаясь, он пригласил Охлопкова к себе:
– Я уже не на холостом положении, семья возвратилась сегодня.
Охлопков даже остановился в веселом удивлении:
– Вот как! А у нас… племянник сегодня прискакал!
– Не понимаю, какая связь…
Горгоньского покоробило. Он с ненавистью взглянул на хохочущего Охлопкова, и, когда тот застонал, неосторожно двинув шеей, Горгоньскому стало приятно.
– Ну, связи-то, может, и нет, а флирт… тот налицо, – сказал Охлопков, – примите меры, полковник.
В девять часов вечера Горгоньский, не позвонив жене, явился домой. Открыл дверь своим ключом и быстрыми шагами направился в гостиную. Успел заметить, как поспешно отошел Вадим Солодковский от Зинаиды, которая сидела за пианино и напевала: «Отцвели уж давно хризантемы в саду».
Солодковский явно был смущен, от смущения осклабился и вертел длинной шеей, точно тесен был ему воротничок.
А Зинаида и ухом не повела!
– Котька! Как хорошо, что ты освободился! Сейчас – чай… с вареньем из княженики… Умница, что пришел так рано! – и, покачивая бедрами, пошла в столовую.
Горгоньский проводил ее недобрым взглядом.
Душно ему стало вдруг в этой гостиной, среди пуфиков, ковров, цветов, канареек.
Искательно глядя на Горгоньского и в то же время стараясь сохранить достоинство, Вадим сказал:
– Мы с вашим Кокой большие приятели, Константин Павлович!








