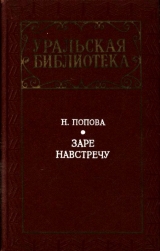
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
В этот последний вечер в лазарете Роман с особым чувством присматривался к соседям по палате.
Палата жила своей обычной жизнью. Бобошин и Куденко играли в чет-нечет, зажимая в руках спички. Уплетая яблоки, принесенные барышнями-гимназистками, Поткин рассказывал вполголоса похабную сказку про царя, и слушатели его – молодые парни – прыскали в кулак. Шестаков шуршал газетой, читал.
Пробегали мимо двери санитары – тащили судно и утку из «тяжелой» палаты, колотый лед на тарелке, кипяток в резиновом пузыре – в «тяжелую» палату. Пронзительные стоны неслись из-за стены: пришел в себя после хлороформа гангренозный, которому днем отхватили обе ноги.
Принесли кашу с маслом в эмалированных мисках и чай в жестяных кружках. Перед сном ходячие больные вышли в уборную покурить. Потом огни в палатах погасли, и все улеглись спать.
Роману не спалось. Он присел на кровать к Шестакову, они пошептались, пообещали писать друг другу. Когда Шестаков задремал, Роман ушел на свою кровать и стал думать о будущем.
«Робить в цехе едва ли придется, надо будет искать работку полегче. Теперь я не только клещами… клещи-то пустые не подниму! А вдруг не поправиться? Может, они меня околевать выпустили?»
Так думал Роман, но вопреки этим мыслям росло в нем жадное желание жить в полную силу, работать, как прежде, и бороться пуще прежнего!
Он стал думать об отъезде.
Выпишут его с утра. Поезд отходит вечером. Он успеет сходить на Балчуг – купить гостинцев семейным, куклу Манюшке… Куклу он, не доходя до дому, посадит в карман шинели, чтобы дочь сама, своими руками достала. Представилась ему Фиса – то в розовом венчальном платье, то у лиственницы – задумчивая, с шевелящимися на ветру кудрями, то бегущая по платформе с малиновым шарфиком в руках. «Успокоить ее… намаялась, поди, одна-то, работая. А мама, поди, совсем постарела… родимая матушка моя!»
С Балчуга он решил пойти поискать домик, где жил Максим Горький, – это где-то совсем близко, на взвозе. Хотелось ему прогуляться по откосу, зайти в старинную башню, которую видно из окна палаты, – она заслоняет заснеженную Волгу и ширь Заволжья. В Сормово хотелось заглянуть, но он от этой мысли отказался: зайти там не к кому, а на завод не пустят.
– «Залезть», «сходить», «заглянуть» – пороху-то хватит ли? – сердито и насмешливо оборвал он сам себя.
Утром пришло письмо от Анфисы. Она сообщала о смерти дочери.
Половина письма была вымарана цензором.
Может быть, это обстоятельство, может, то внутреннее чутье, которое выработалось у Романа, – что-то навело Романа на мысль: «Уж не с голоду ли? Или обыск какой-нибудь… напугали?»
Злая тоска и невозможность «ускочить» сейчас же домой, утешить жену, погоревать вместе с нею – точно связали Романа. Он никуда не пошел, ничего не купил жене и матери. Забрался на вокзал и, не пивши, не евши, просидел в углу до вечера.
…Паровоз взял с места, но длинный и тяжелый товарно-пассажирский состав точно примерз к рельсам. Еще рывок… еще… и болтнуло так, что не один пассажир помянул крепким словом машиниста, железную дорогу и неминучую нужду – ехать.
Роман проснулся.
Он лежал на верхней багажной полке, в тепле. Махорочный дым, застлавший с вечера весь вагон, теперь ушел куда-то, не разъедал больше глаза и легкие. В вагоне стоял разноголосый храп, такой могучий, что он слышался, несмотря на дребезжание и скрип ветхого вагона.
Дверь с площадки отворилась. Вошли двое: высокий – в бобровой шапке, в шубе с бобровым воротником и низенький – в борчатке и мерлушках. Они прошли до конца вагона и возвратились: свободных мест не было. Низенький хотел разбудить кого-то на нижней скамье, но его спутник воспротивился:
– Бросьте, Николай Иванович! Подумаешь – один перегон! По крайней мере, поговорим на свободе… Минут через двадцать опять разлетимся, когда еще встретимся!
Они стали разговаривать вполголоса.
Вначале Роман не вслушивался, но слово «старец» привлекло его внимание. Разговор шел об убийстве Распутина – об этом только сегодня оповестили газеты.
– Н-да… наверху сейчас переполох, – язвительно говорил Николай Иванович. – Фактически старец был монархом…
– Тише! – с неудовольствием прервал спутник.
– А я что сказал, – громко начал Николай Иванович. – Я сказал, что фактически покойный старец был мо-на-хом!
И он зашептал что-то быстро и сердито. Разобрать можно было только отдельные слова: «Всякие видения… наступать на Ригу…» Потом, забыв осторожность, заговорил громче:
– Мой тезка – дегенерат! Это факт! Расстроенная фантазия… жесток и упрям, как осел!
– Вообще, там бедлам, – презрительно сказал высокий, – в том-то и ужас.
– А Сашетт!.. Это религиозное умопомешательство…
– Но интересно, интересно: кто сделал это «чик»! Один на один против темной силы!
– Вероятно, не один на один! Это кто-нибудь из…
– Мишель, может быть?
– Николай Иванович!
– Что? – невинным голосом спросил низенький. – Я вспомнил, что жена заказывала мне купить вермишель… а вам что послышалось?
– Не очень ловко, милейший, – пробурчал высокий. И они опять понизили голоса.
«Алеша… гемофилия… Маклаков и Пуришкевич… спасти самодержавие… Мишель…» – расслышал Роман. Он понимал, что дегенерат, тезка Николая Ивановича, – это царь, Сашетт – его жена. Мишель – великий князь Михаил… Смутно он стал подозревать, что речь идет о готовящемся дворцовом перевороте. По-видимому, слухи докатились и до этих двух господчиков.
«Не спасут вас никакие перевороты!» – И вдруг Роман всем существом почувствовал близость больших событий. Он знал настроение солдат, крестьян, трудовой интеллигенции…
Горячей волной обдало его.
– Эй вы, почтенные!
Оба собеседника враз подняли головы. Они увидели злое, грозное, насмешливое лицо худого, как скелет, солдата, в упор глядевшего на них.
– Что вы? – неуверенно спросил высокий.
Роман не отвечал, продолжал жечь их немигающим взглядом. Ему хотелось сказать, что не поможет самодержавию никакой дворцовый переворот, что трудовой народ сбросит к черту и царя, и всех его наследников и прихвостней. Но сказать это было еще нельзя. С нарочитой грубостью он произнес:
– Вы что тут разоряетесь? Марш отсюда!
Те обменялись тревожными взглядами, высокий пожал плечами. Постепенно стали они подвигаться к двери и вышли на площадку.
XXV
Чекарев вернулся из ссылки перед самой Февральской революцией. Перевал, как и вся страна, чутко следил за событиями в Петрограде.
Стачка Девятого января. Демонстрация рабочих и присоединившихся к ним солдат. Забастовка восемнадцатого февраля, перекинувшаяся с Путиловского завода на другие предприятия… Демонстрация трудящихся женщин в международный день работницы… Всеобщая политическая забастовка петроградских рабочих, столкновения с полицией, попытки восстания… Расстрел демонстрации – и новая, еще более могучая революционная волна… Братание с солдатами… Манифест бюро ЦК о вооруженной борьбе против царизма…
Переговорив обо всем этом, Илья и Сергей Чекарев решили, что свержения царизма можно ждать со дня на день. Настают боевые дни. Люди жаждут борьбы.
– Я изголодался по работе! – сказал Чекарев. – Считай меня с этого дня в активе. Пожалуй, я у тебя и остановлюсь пока, чтобы не тратить время на поиски квартиры.
Илья странным, беспокойным взглядом поглядел на него.
– Сережа, – сказал он бережно, точно подготовляя к чему-то. – Я был бы рад, ты знаешь… но ты сам не захочешь… Мария здесь! Она устроилась у Романа…
– Бегу! – просиял Чекарев. – Лечу!
– Подожди, одно слово… Должен предупредить тебя… Беспокоит меня ее здоровье, состояние ее…
– Больна? Лежит?
– Нет, не лежит. Работает. Бросилась в работу, не дает себе отдыха…
Встревоженный Чекарев полетел к Ярковым. Распахнул дверь.
Роман поднялся навстречу, а Фиса застыла на месте, испугавшись его взволнованного вида.
– Где Маруся?
– Она в малухе… Мы просили… она не хочет здесь… Я сбегаю за нею, – заговорили враз Ярковы.
– Потом, потом, прости, Роман, я потом… После обо всем!..
И он исчез так же быстро, как появился.
Роман и Анфиса с недоумением взглянули друг на друга.
– Повидаются, придут сюда, – сказал наконец Роман. – Как приснился!.. Вот чудо…
– Поставь, Фисунька, самовар, – раздался стонущий голос с печки, – картовочек свари…
Мария в черном глухом платье сидела за столом, писала при свете тоненькой восковой церковной свечки, свет которой терялся во мраке закопченной, угрюмой избы. Она не подняла головы, услышав, как открывается дверь, только досадливо пошевелила бровью. Чека– рева поразила ее внешность: волосы коротко острижены, щеки впали, лицо удлинилось, потеряло свежесть… но не это испугало его… Испугало его сдержанно-трагическое выражение – морщинка на лбу, надломленная бровь, сжатые губы.
Он хотел броситься к ней, но что-то удержало его. Задыхаясь от прилива любви, острой жалости, тревоги, он протянул к ней руки, прошептал:
– Это я, Маруся!
Ее точно ударили. Мария откинулась к стене и вперила в мужа дикий, мрачный взгляд. Она раньше не умела глядеть так!
– Не пугайся! Это я, Маруся, – повторил Чекарев и осторожно, сдерживая себя, подошел.
Мария вся как-то насторожилась и, казалось, даже дышать перестала. Не ответила на поцелуй. Высвободилась из объятий, отодвинулась, вытянула руку, как бы отталкивая его.
Деревянным, невыразительным голосом сказала:
– Я – нечистая.
Чекарев не вскрикнул, не пошевелился, бровью не повел… Почувствовал: в груди оборвалось что-то горячее, опустилось… распространился тошнотворный холод. Голову закружило. Он побледнел, закрыл глаза. Мария закричала отчаянно:
– Сережа! Сережа! Сережа!
Но не притронулась к нему.
Она видела, как вместо напугавшей ее бледности по лицу мужа разлилась багровая краска. Он сидел с закрытыми глазами, сжав кулаки, сдерживал тяжелое дыхание – боролся с собой. Мария видела: на виске быстро бьется жилка, точно выстукивает какое-то слово – не то «тяжко-тяжко-тяжко», не то «больно-больно-больно».
– Все равно чистая… всегда… – тихо сказал Чекарев.
И Мария зарыдала, не сдерживаясь больше.
Чекарев бережно поднял ее, положил на постель, встал на колени у кровати. Слезы их и дыхание смешались. Мария прерывистым шепотом рассказала ему все. Не за себя страдал Чекарев. Он с ужасом думал, как пережила это надругательство гордая, чистая Мария.
Чекарев бережно ласкал ее.
– Переживем! Победим и это… воспоминание… Нельзя нам распускаться.
Голос его вздрагивал, и рука дрожала.
– Пойми! Пойми! – рыдала Мария. – Все загажено! Все! Вот ты… самый… самый мой родной… а я боюсь… не могу… быть женой.
Так говорила Мария, и Чекарев понял, что только выдержка, терпение, братская заботливость и полное забвение себя помогут ему вылечить тяжелую душевную рану жены.
Когда он вышел утром из малухи, Роман с удивлением, с тревогой воззрился на него… и долго не мог привыкнуть к его новому облику. Широкие русские черты в одну ночь утратили добродушную мягкость, затвердели. Сквозь привычную усмешку больших глаз глядела суровая печаль.
Среди ночи Роман забарабанил в дверь малухи, закричал, ликуя:
– Вставайте! Вставайте! Революция! Экстренное собрание!
В эту ночь, впервые выйдя из подполья, собрался открыто временный комитет РСДРП, собрал актив, представителей предприятий.
Илья зачитал только что полученные телеграммы о свержении царизма и о Временном правительстве.
Все восторженно зааплодировали и запели «Марсельезу»…
Но вдруг радостное опьянение разбил трезвый, суровый голос Сергея Чекарева:
– Товарищи! Взгляните, каков состав Временного правительства! По пути ли нам с таким правительством? Предстоит суровая, жестокая борьба с буржуазией… с лакействующими партиями… Прежде всего мы должны создать Советы, как в пятом году!
Решили: этой же ночью, не откладывая, провести летучие митинги на заводах, разъяснить рабочим события, подготовить к демонстрации.
Чекарев предложил послать телеграмму высланным депутатам Думы, членам большевистской фракции. Тут же составили текст:
«Перевальский комитет РСДРП просит известить о дне проезда через Перевал. Счастливы будем встретить дорогих товарищей – истинных борцов за народное дело…»
Второго марта все население Перевала вышло на улицы. Возникла «манифестация», как называли еще по старинке торжественное шествие. Еще недавно запретный красный цвет разлился повсюду – знаменами, лозунгами, лентами, повязками… На площадях, на перекрестках шумели митинги.
У обывателей кружились головы; какое разнообразие лозунгов, речей, песен! Все партии вышли из подполья – ораторы говорят каждый о своей партии, агитируют, зовут… один к борьбе против войны, другой – к войне до победы.
Баринова ревет белугой; царь нас бросил, отперся от нас. Как будем жить? Кабы знал, где падешь, соломки бы подостлал… не грубить бы Сергею Иванычу, когда его арестовать пришли, не сулиться бы вилкой глаза копать… теперь бы он как пригодился!
Доктор Албычев бегает по комнате, ерошит волосы, одышливым, умиленным голосом повторяет слова, якобы сказанные народом монархисту Родзянке: «Будь другом народа, Родзянко!» Албычев снова считает себя либералом и высказывает свободные мысли… Вспомнив об Илье, назвал его зятем… Охлопков, довольный составом Временного правительства, говорит Матвею Кузьмичу:
– Старый ты мальчик, Матвей! Сколько в тебе этого самого… одушевления…
– Горизонт ясен! – и Полищук делает рукой плавный округлый жест. – Бескровная революция совершилась!
А Григорий Кузьмич кротко убеждает учеников, что бескровных революции не бывает. Впереди – бури, потрясения. Каждый юноша должен уяснить себе, определить свои убеждения и твердо держаться своей линии.
Самоуков с котомкой за плечами зашел к Ярковым на перепутье. Он говорит зятю:
– Привел бог, дожили до матушки-слободушки! Теперь меня из Ключей колом не вышибешь! Сколочу артелку, будем платину добывать!
– Настоящую свободушку будем еще добывать, папаша, – отвечает на это Роман. – Это ведь только присказка… сказка впереди будет!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Апрельский вечер. В окна новой квартиры Светлаковых льется закатный свет.
Чистая, сухая, светлая комната… именно такая и нужна Илье. Слишком долго жил он в сыром полуподвале.
Правда, здесь пустовато: шкафы – платяной и посудный, узкие опрятные кровати, стол под клеенкой, три стула, книжная полка – вот и вся меблировка. Зато какой простор!
«Хорошо – выбрался вечер, посидим дружным кружком», – думает Ирина, стоя у посудного шкафа. Счастливым взглядом она обводит собравшихся.
Чекарев читает вслух «Правду» – апрельские тезисы Ленина. Газета только что получена. Больше недели добиралась она до Перевала.
Андрей сидит наискось от Чекарева за столом. Подперев голову рукою, неотрывно смотрит на чтеца.
На подоконнике – Илья, у окна, верхом на стуле, Рысьев, на кровати Мария. Все внимательно слушают тезисы. Это программа большевиков в новых условиях борьбы за переход к социалистической революции.
Только что закончилась Первая уральская свободная конференция. Резолюции написаны и приняты. И каждый невольно как бы сверяет, сличает эти резолюции с ленинскими тезисами: так ли, правильно ли мы решили? Вел конференцию Андрей, но он не мог знать тезисов: Центральный Комитет послал его на Урал в самый день приезда Ленина из-за границы.
Ирине вспоминается, как обрадовался Илья приезду Андрея: «Нельзя было выбрать лучше. Именно Андрей должен был приехать, именно он. Его здесь знают, его помнят, верят ему».
И правда, укрепление партийной сети, организация рабочей молодежи, крестьянской бедноты, женщин, работа в армии, подготовка к изданию областной партийной газеты, конференция – во всех делах Андрей участвовал сам, а опорой его были те большевики, которых он вырастил в годы подполья.
Ирина впервые видит Андрея так близко. До сих пор встречала его только на собраниях, видела за столом президиума на председательском месте, видела на трибуне конференции. Три доклада сделал он сам. Со страстью, с огнем выступал в прениях. Дал бой оборонцам. Наголову разбил тех, кто стоял за объединение с меньшевиками: «Не всегда верно, что в количестве сила. Не всегда выгодно собрать больше народа под знаменем. Сила – в дисциплине и качестве. Можем ли мы учинять бесформенное объединение? Нет! Только когда среди вас нет разногласий, только тогда и объединяйтесь… Меньшевиков мы в партию не берем!»
Слушая сейчас ленинские тезисы, она радостно отмечала в уме: «Конференция встала на позиции Ленина. Это наша заслуга… Вот что значит единомыслие, когда оно опирается на марксизм, на ленинскую теорию».
– Товарищи! – сказал Андрей, едва чтение закончилось. – В основном, как видите, мы правильно решили на конференции ряд вопросов. Но…
Он вскочил со стула, прошелся по комнате.
– Мы допустили ошибки. В свете ленинских тезисов они ясно видны.
Андрей остановился. Все глянули на него.
– Одна ошибка, когда в резолюции говорим о контроле партийных организаций над Временным правительством. Какой контроль? При любом контроле это контрреволюционное правительство не будет выполнять требований пролетариата. Вторая ошибка – слова о диктатуре пролетариата и крестьянства… Что вы подняли брови, Рысьев, чему удивляетесь? Ленин выдвигает лозунг борьбы за диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства. Поняли, в чем разница?
– Да, – сказал Чекарев, – но по духу резолюции не расходятся с тезисами. Мы дали правильную характеристику Временному правительству. Правильно оценили роль Советов. Наметили верную политическую линию.
– Давайте еще раз прочтем, вдумаемся, обсудим, – предложил Андрей.
Около полуночи Ирина вышла на кухню. Поджарила картофель, нарезала хлеб, поставила чайник на керосинку. Поколебалась: не попросить ли у хозяев чаю на заварку? – и заварила неизменный брусничник. Сахара не было, она развела в кипяченой воде щепотку сахарина. «Хотелось бы не так угостить Андрея… но не в этом дело. Покрою стол двусторонней скатертью, мамины вязаные подстаканники выну…»
Она поймала себя на том, что стоит, напряженно вытянувшись и крепко сжав руки.
«Отчего мне так хорошо? Нашла дело своей жизни… нужное для народа дело. Полна сил, здоровья. Любима! У меня верные, испытанные друзья…
Вот оно – счастье!
И все – Илья! Он раскрыл во мне то, что раньше было замкнуто, запрятано…
А без Ильи? Могла бы я работать, радоваться… могла ли бы я жить без Ильи?
Нет, лучше не думать… не надо думать об этом…»
И, точно убегая от пугающих мыслей, Ирина поспешила в комнату, захлопотала у стола.
– Я свободу слова не так понимаю, как иные, – говорил Рысьев. – Привык высказывать, что думаю. А вот сказанул на конференции, и мне сразу штемпелей: «Соглашатель».
Андрей живо повернулся к нему:
– Это вы на мой счет? Интересно, как вы понимаете свободу слова: вы свободны говорить, а я не свободен выразить свое мнение?
– Наше общее мнение, – вставил Илья.
– Выражать мнение – это одно, а оскорблять – это другое, – дрожащим голосом произнес Рысьев и, побледнев, резко отодвинулся со стулом от стола. – Вы меня оскорбили… меня… меня… Я для того сюда и пришел, чтобы высказать, выяснить. Повторяю: если Андрей хочет, чтобы в партии были люди абсолютно одинаково мыслящие, он останется один.
Илья и Чекарев сказали вместе:
– Опять за то же.
– Опять за рыбу деньги!
Андрей упорно смотрел на Рысьева.
– Вы сказали, что признаете свою ошибку, и голосовали за размежевание с меньшевиками, Рысьев. Значит, вы солгали конференции?
– Нет! Не солгал. Но я вам говорю: абсолютно одинаково мыслящих людей нет на свете. Это вы должны признать. Вы меня не понимаете…
– Я вас понимаю, Рысьев… Вот вы выступали сначала против размежевания, потом покаялись. Я видел, как вы кивали Полищуку, когда он разглагольствовал о поддержке Временного правительства в его борьбе с «внешним врагом»…
– Я голосовал против.
– Но кивали «за». Берегитесь, Рысьев, если вы ведете двойную игру!
– Не веду я двойной игры!
– Тем лучше. Но тогда продумайте свои ошибки, и вам станет ясно, что, хотите вы этого или нет, вы находитесь под буржуазным влиянием.
– Он под влиянием буржуазной родни находится, – с грубой прямотой сказал Чекарев.
Рысьев вскочил.
– Буржуазная родня? А считаю я Албычевых родней? Зборовского? Охлопкова? Я только в целях конспирации общался с ним. Он мне и моим делам ширмой был! Моя жена не ему племянница, а его жене. Я давно – ни ногой к нему.
– А жена ваша каких взглядов? – спросил Андрей.
– Взглядов, взглядов… – проворчал Рысьев. – Никаких у нее взглядов нет.
– Это вы бросьте, стыдно говорить глупости.
– Вне! Она вне политики.
– Значит, у вас нет с нею общности интересов?
– Где это видно, в какой программе, чтобы вмешивались в частную жизнь? Что, я плохо работал? Изменял? Да, были ошибки, может, и еще будут… Я живой человек… Но разве мои дела не за меня говорят?
И Рысьев стал перечислять все поручения, выполненные им.
Когда он кончил, Андрей сказал:
– Если вы не покаетесь сам перед собой, Рысьев… если не осознаете, что вы уклоняетесь от ленинской линии, ошибки ваши умножатся. А партия не будет без конца прощать их вам.
Рысьев отказался от чая, ушел. Остальные уселись тесным кружком, придвинув стол к кровати. Стало уютно и весело. Андрей, отхлебнув из стакана, спросил Ирину:
– Брусничник?
– А как вы разгадали мой секрет? – весело, почти шаловливо отозвалась она.
– Ведь я в Сибири жил, – сказал Андрей. – Брусничник… У меня о нем, можно сказать, нежные воспоминания. Это неплохо, особенно зимой после поездки за дровами или за сеном. Намерзнешься…
– За сеном? – удивилась Ирина. – А зачем вам сено?
– Зачем? – задумчиво повторил Андрей. – А вот представьте себе: Максимкин яр… тайга… снега – с головой увязнешь.
Ты оторван от работы, от жизни. Что с товарищами, что с твоей семьей – не знаешь… полная неизвестность. Нет книг, газет. Переписка под контролем. Стражники – по пятам. А быт… Ну, что об этом говорить, всем ясно. Так вот, чтобы не расхныкаться, не утратить бодрости, я и приналег на физическую работу. Ездил за водой, за сеном, за дровами, ухаживал за хозяйскими лошадьми, убирал снег со двора, ездил неводить, лед долбил… А пальтишко – питерское, на рыбьем меху! – уже весело продолжал он. – Намерзнешься, попьешь вволю такого чайку – и заснешь как убитый…
Андрей махнул рукой, точно отгоняя воспоминания. Все молчали.
Ирина глядела на мужа. Сегодня он был в том приподнятом настроении, которое она знала и любила. Сдержанного Илью многие считали сухим. Как-то в минуту душевной близости она спросила, почему он кажется людям холодным. Илья ответил так:
«Пожалуй, потому… потому… В детстве я был слишком нежным, мягким… И когда ушел в подполье против желания мамы… сердце разрывалось… Я не мог не причинять ей горя. А она так на меня надеялась: „Вырастешь, поступишь на хорошую службу, будем жить припеваючи…“ – только и мечтала. Чтобы полностью отдаться своему делу, я должен был подавить многое в себе… Может быть, с этого началось? Я никогда не думал, что женюсь… Аскетически был настроен… сама знаешь».
Сейчас, при взгляде на помолодевшее лицо мужа, Ирине хотелось сказать: «Товарищи! Ну, посмотрите на него!..»
Она настолько погрузилась в свои мысли, что перестала вслушиваться в разговор. Машинально наполняла опустевшие стаканы. Какая-то неясная тревога просыпалась в ней. Она силилась разобраться в противоречивых чувствах – и не могла. Чего же мне недостает? Мы с Ильей не разлучались и не расстанемся никогда… Ссылки уже нет и не будет! Как это Андрей и его жена пережили? Она взглянула на Андрея, – тот, помешивая чай, разговаривал с Чекаревым.
Ирина не видела его жену. Знала, что редко ей приводится бывать вместе с мужем. В девятьсот шестом их разлучила тюрьма. С того времени и до девятьсот пятнадцатого года (а в пятнадцатом она приехала к нему в ссылку, в Туруханский край) они встречались редко, на короткое время. Правда, однажды она с сынишкой перебралась к мужу в Нарым – «на жительство», но сразу же стала вместе с его товарищами готовить Андрею побег. Полиция была уверена, что семья привяжет его к месту. Надзор ослаб. Бежать стало легче. Андрей бежал.
…Ирина пыталась поставить себя на место жены Андрея: «Смогла ли бы я затаить горе, хлопотать о побеге Ильи, о разлуке с ним?» И ответила себе: «Да, сделала бы… но какое это страдание!»
– Андрей! Вы любите свою жену? – внезапно спросила Ирина звонким, вздрагивающим голосом… и сразу же поняла всю бестактность этого вопроса.
– Крепко люблю, – сказал Андрей, – и жену, и детей. Почему вы спросили?
Ирина не ответила. Слово «детей» вдруг осветило ей всю путаницу неясных желаний и мыслей. Она удивилась, обрадовалась, покраснела до слез.
– Вы извините… я как женщина… Вот она рожала и не знала, где вы… Что она переживала! А вы не знаете, здорова ли она и ребенок жив ли, здоров ли…
Андрей глядел на нее ласково, глубоким, понимающим взглядом.
– Да, – сказал он, когда Ирина замолчала, – трудно было, тяжело. Зато какова радость материнства, отцовства! – И весело закончил: – Надеюсь, и вы эту радость узнаете!
II
– Зарвался хам! Убью! – хрипел Охлопков, искал мутными глазами, что бы еще ему разбить, разорвать, хоть немного утолить бешеную ярость.
Размахнувшись, хватил о пол графин с водой, слоновьими ногами топтал осколки. Сгреб в горсть ковровую скатерть, сорвал со стола – полетели цветы, горшки, пепельницы… Стал швырять книги в толстых переплетах, запустил диванным валиком в дверь… Рванул ворот, распластнул свою вышитую рубаху. Потный, обессиленный, рухнул на диван…
Такие припадки за это лето случались с ним не раз. При посторонних он еще сдерживался, дома не мог и не считал нужным.
…Начиная с первых дней Февральской революции дела его пошатнулись.
В Верхнем округе было «неблагополучно».
В марте и апреле рабочие прогнали с заводов троих управителей… и Охлопков не мог «навести порядок»… Съездил в губернский город, к комиссару Временного правительства. Тот ничем не помог и дал ненужный совет: «Как-нибудь, где-нибудь надо устроить пострадавших!»
Как удар, свалилось на него постановление Совета о том, что с первого апреля вводится восьмичасовой день для рабочих и шестичасовой для служащих. Он приказал управителям:
– Не подчиняться!
И все-таки восьмичасовой день был установлен с легкой руки рабочих Верхнего завода. Проработав восемь часов, они уходили, не обращая внимания на запрещение администрации.
На собрании Охлопков обвинил рабочих и руководство Совета в том, что они «нарушают порядок… революционную законность», привел в пример Лысогорский завод, где Совет «не нахрапом действовал», а убеждал заводоуправление! И даже когда заводоуправление не согласилось, рабочие не позволили себе «самочинных действий». Лысогорский Совет послал телеграмму в Петроград: потребовал, чтобы Временное правительство декретировало восьмичасовой рабочий день… «Вот так борются люди сознательные!»
– Тоже мне борются! – с места сказал Роман Ярков. – Меньшевистские фокусы это, обман рабочих!
Охлопков не ответил, только поглядел на Яркова долгим, ненавидящим взглядом… В этом человеке как бы воплотилось все бунтарское, вызывающее, все, что доводило Охлопкова до белого каления.
После собрания посоветовал Зборовскому выбросить с завода этого бунтаря.
– Страсти разгорятся, Георгин Иванович!
– Пусть разгораются! Пусть они какой-нибудь фортель выкинут! Того и жду! Я приказываю уволить Яркова.
Но рабочие никакого «фортеля» не выкинули, а применили свое оружие – забастовку. Выставили требования: восьмичасовой рабочий день, повышение заработной платы, восстановление на работе Яркова, увольнение неугодных им мастеров. Из Петрограда пришел приказ: забастовку прекратить, идти на уступки.
– Хорошо, – сказал Охлопков, опомнившись после очередного приступа бешенства, – примем их условия… но примем и свои меры!
Бессонной ночью в тиши кабинета он выработал план, как сократить производство и, стало быть, выбросить за ворота множество рабочих. «Наплевать теперь на прибыль! Обуздать их надо! Обуздать!»
Скоро оказалось, что «из-за недостатка топлива и сырья» завод должен наполовину сократить работу. Уже было вывешено объявление об этом, вывешен был список сокращенных рабочих, как вдруг…
«Это он, Ярков!» – думал Охлопков, когда на завод, как снег на голову, явилась комиссия, посланная Советом.
Охлопков не ошибся. Роман Ярков по поручению партийной организации обратился в Совет, попросил проверить дела заводоуправления:
– Тут какая-то хитрая механика, товарищи!
Механика, впрочем, оказалась не очень хитрой. Комиссия сразу нашла злостные ошибки в планировании, замороженное сырье, невостребованное топливо. Зборовскому пригрозили судом.
Словом, сократить производство и выбросить на улицу половину рабочих не удалось. Пришлось подчиниться Совету. До июля Охлопков не мог успокоиться, перестал бывать на заводе, чтобы «не видеть ненавистную морду».
В июле он несколько передохнул. Правда, его огорчил провал наступления на фронте, зато радовали вести о последующих событиях. Он молодел, читая в газетах о расстреле демонстрации питерских рабочих, о репрессиях, которые обрушились на партию большевиков.
– Наконец! Бросили миндальничать… в демократию играть! Небось и здешние большевички струсят, прижмутся к месту!
– Рано радуетесь, Георгий Иванович! – предостерегал Зборовский.
– Да ну тебя, Петруха! Иди ты…
После июльских событий горнопромышленники перешли в наступление. По-иному заговорили они с рабочими. Забастовок не боялись, наоборот, грозили сами локаутами… знали, что для уральского рабочего, привязанного к месту, закрытие завода – самое страшное из всех зол. И перед рабочими Верхнего завода акционерное общество поставило жесткие условия: хотите работать– удлините рабочий день, не требуйте повышения заработка, подымите производительность труда.
Шли слухи, что на других владельческих заводах дело дошло даже до снижения зарплаты. В Лысогорске, где меньшевистский Совет распустил вожжи, начались аресты рабочих, увольнения, штрафы… как при царском режиме! А по казенным заводам Горный департамент разослал письма, в них говорилось, что при попытках рабочих вводить свой контроль заводы будут закрываться.
Читая в местной большевистской газете о том, что «горнопромышленники выработали общий план наступления, на что мы должны ответить общим отпором», Охлопков только похохатывал: он знал, кто организовал горнопромышленников и подсказал «план наступления».
Зборовский не склонен был радоваться. Видел, что большевистская партия становится сильнее, массы отходят от меньшевиков и эсеров.
– Сегодня пришел на завод депутат Совета, – рассказывал он тестю, – записывал желающих в Красную гвардию: «Товарищи! Пора взяться за винтовки!»
– А вы бы его в шею!
– Прошло то время, Георгий Иванович! Как бы нам с вами не дали по шапке!







