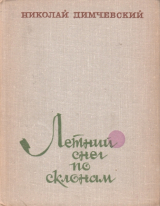
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
А тепло с каждым пробуждением все прибавлялось и скоро перешло в жар. Лавка нагрелась, как сковорода, и пар обжигал, но все хотелось жара. И Шухов чувствовал уже, что жар не только снаружи, в бане, а и внутри, в груди, в ногах... Все горит внутри, пылает, плывет в огненной карусели...
А сон... Это ж было... Шухов тогда действительно настоял, чтоб вынутых из-за борта понтонеров не оставляли на палубе. Они долго пробыли в воде, и не было признаков жизни, но он хотел испробовать все средства до конца. Понтонеров отнесли в баню, стали делать искусственное дыхание, греть горячей водой, паром. Тяжелая, изматывающая работа. И ведь выходили! Живы ребята, до сих пор пишут письма Шухову, отцом зовут.
...Но как горит в груди. И закладывает бока – дышать трудно, и все путается в голове... Он опять впадает в забытье.
Очнулся в каюте, на своей койке, на свежих простынях, и мысли уже не скакали, как раньше, и перед глазами не плыло.
К нему склонился Симонов.
– Простыл я? – спросил Шухов. Голос был хриплый, задыхающийся – он сразу закашлялся.
– Простыл, – ответил Симонов. – Ничего, на поправку пошло.
– А Крылов как?.. Чего с ним?
– Крылов? – переспросил фельдшер и отвернулся к занавеске, отгораживавшей койку от каюты. – Вот он, Крылов, пришел вас проведать.
И рядом с ним тотчас возникло лицо Крылова, совсем здоровое, краснощекое лицо, похожее сегодня на пасечника деда, а не на Дашу.
И Шухову вдруг захотелось сотового меда с чаем из мяты, из свежей мяты, сорванной на огороде... Желание было так нелепо здесь, в каюте, на другой стороне земли, что он улыбнулся.
И Крылов улыбнулся ему в ответ. Потом Крылов хотел что-то сказать, но не сказал, еще больше покраснел, вытер глаза ладонью и скрылся за занавеской.
– Постой, – попросил Шухов. – Поди-ка сюда.
Симонов подвинулся, и Крылов присел рядом с ним, прямой и неловкий.
– Мне знаешь, чего захотелось? – Шухов закашлялся. – Чаю из мяты... Где у вас на огороде мята растет, помнишь?
– Помню, она...
– Погоди, – перебил Шухов, помолчал, отдохнул и медленно, будто сказку рассказывал: – Как войдешь в калитку... направо надо повернуть... к забору... там еще молоденькие вишни посажены... Там и мята...
– Точно, Семен Петрович!
– Значит, до сих пор там мята?
– Да все время там... Только вишни не молоденькие. И перед призывом две спилил – дуплистые, перестарели.
Шухов закрыл глаза. Разволновало это воспоминание – сердце зашлось, и в затылок ударило. Совсем ослаб, от пустяка такое состояние... Портится, видно, здоровье, годы растаскивают его помаленьку, как осы мед из ослабевшиого улья. А ведь все чувствовал себя хорошо, молодо, и никогда не давал себе послабленья, и от молодых не отставал. И все думал, что молодой еще, и не хотел замечать седины, почти незаметной в рыжеватых волосах, и тайно радовался этому цвету своих волос. А стряслось несчастье и напомнило, что уже не молод.
И вишни-то, вишни... Совсем ведь тоненькие были, едва по цветочку выбросили весной...
Симонов сидел все так же, склонившись к нему. Крылова не было, наверное, ушел. И в каюте потемнело, качало сильней, ветер свистел наверху.
– Штормит?
– Уходим от тайфуна, – ответил Симонов.
– Разгрузку-то закончили? – Шухов спросил и даже испугался: о каких-то вишнях, о мяте мысли, а самое-то главное забыл... Как же можно об этом забыть? Совсем раскис.
– Давно, Семен Петрович.
– Погоди, сколько ж времени прошло?
– Четвертые сутки.
– Да ты что! И я все лежу?
– Полежите, надо отдохнуть после такого купанья.
«А Крылов-то не лежит», – хотел сказать Шухов, но понял, что слова эти неуместны.
– Расскажи, как разгрузились.
Симонов встал. Шухов повернул голову и впервые за долгое время увидел лицо фельдшера не вблизи, а издали. Впервые за долгое время... Значит, правда – лежит несколько суток.
– Там все в порядке было, Семен Петрович. – Симонов прошелся по каюте, отдыхая от надоевшего сиденья. – За три рейса все перебросили. – Он помолчал, раздумывая, рассказывать ли о другом, и, поймав взгляд Шухова, решил, что надо рассказать. – Как вас волной накрыло, мы увидели сразу. Послали второй вельбот – с Комаровым. Сели вы крепко. Крутились, крутились мы, сами чуть не застряли. Потом трос закрепили, воду откачали – и то еле стащили с камней. Подтянули вельбот, перенесли вас к себе. Сначала думали: замерзли вы – так закоченели, пришлось резать одежду – не снимешь. Потом в одеяла вас завернули, растирать начали, тут и к «Томи» подошли – в баню, в парок, сами помните...
Симонов достал сигареты, но спохватился и спрятал.
– Иди, покури. Мне легче, полежу один.
Шухов повернулся на бок и осмотрел каюту, и все вдруг показалось непривычным, будто не был здесь много месяцев. И сделалось вдруг радостно от того, что жив, что вернулся, что увидит Крылова и Кононова и не раз еще сходит на рейдовую разгрузку.
6
Было в Дудинке. Ужинали. Вошел капитан, отлучавшийся по делам в контору. «Хотите на Хантайку? Теплоход у борта, сейчас уходит». Я вскочил, схватил фотоаппарат, полбуханки хлеба и спрыгнул на речной трамвайчик, тотчас отваливший. «Встретимся в устье Хантайки через сутки!» – на прощанье крикнул капитан.
В салоне полно народу, душно. Объявили танцы. И появился парень навеселе, с явным намерением победокурить. И тут подошла к нему и пригласила танцевать девушка чудесной, шемаханской какой-то красоты. Парень, сраженный ее красотой (именно «сраженный красотой»), мгновенно оставил свою задиристость.
Где-то в уголке наметился спор («уважаешь – не уважаешь»). Шемаханская красавица – тотчас туда, и уже танцует с этаким видавшим виды, но подобных девушек, конечно же, не видавшим и потому сразу присмиревшим.
Ну разве можно не познакомиться с ней! Она инструктор райкома комсомола из Дудинки. С этим рейсом едут давать концерт в селение кетов – выше по Енисею. («Знаете кетов? Малая народность. Очень своеобразны. Пришлось выучить их язык...») А как говорит, какой голос, какие глаза, какая искренность и энергия! Коса выбилась из-под штурмовки – до колен, вторая прячется змеей вокруг пояса. Комсомольская работа – это жизнь, это все. Летом по реке в поселки, зимой – на фактории («название устарело, но мы так говорим еще «фактории»). «Представляете: полярное сияние, и собачьи упряжки бегут на север, на север... Вроде бы уж некуда севернее, а все едем, едем...»
Никогда ни до этого, ни потом нигде не видел такой необычайной, немыслимой, неописуемой красавицы. Все в ней было совершенно – и облик, и слова, и характер, и отношение к людям – уменье каждому сказать что надо, и сказать искренне, и потому убедительно (в этом тоже красота!).
Написать бы о ней! А не написалось.
Они сошли часа в три ночи у обрыва на левом берегу (там лежал вечный пласт снега). К тому времени страсти в салоне улеглись отдыхать на диванчики, и просто на пол, на чемоданы и рюкзаки. А утром я познакомился с героем, которого представлю вам ниже. Сойдя на берег и оттащив его неподъемный чемодан, мы пошли к створу строительства тогда еще будущей Хантайской ГЭС. Грохочущий водопад, вагонетка на тросе, протянутом от скалы до скалы, первый намек на будущий город – палатка в темной тайге...
С тем же теплоходиком вернулся на Енисей. В неоглядной вечерней шири и тумане нашу посудину заметили в локатор, и мы благополучно встретились посреди реки.
ЛЕТНИЙ СНЕГ ПО СКЛОНАМ
...И когда на экране локатора мелькнула зеленая искорка, в левой протоке, у острова, капитан сказал:
– Вот он, твой «омик». Собирайся.
Слышалось в голосе его сожаление, и это тронуло Алексея. И стало не по себе, неловко – нечем отплатить за его доброту... Вот ведь и довез, и сдружились за рейс, и приказал включить локатор, отыскать «омик» – букашку-теплоходишко среди неохватной реки, и жалеет отпускать. А чего бы вроде? Никто ему Алексей. Знаком с его сыном – только и всего. Первый раз встретились и, может, никогда больше не увидятся... Но понравились один другому. Так вот, беспричинно, без дела, без нужды понравились... И Алексею вроде уж отказаться от своей затеи – не ездить на стройку, остаться на рефрижераторе. Нужен капитану электрик...
– Значит, решил без поворота? Приставать «омику»? – с безнадежностью спросил капитан.
– Да... Приставать...
Алексей посмотрел еще раз на экран. Зеленая букашка подползала к самому центру, откуда бежал неторопливый луч, к центру, который обозначал их рефрижератор и рубку, где они стояли сейчас, и над которой крутилась антенна локатора.
И вот уж в дымке, закрывавшей даль, показался теплоходик, словно прозрачный, нереальный какой-то. Но чем ближе, тем плотней и явственней проступал его контур, борт, поручни... И черная фигура, отделившаяся от рубки, сдавленно сказала в мегафон:
– На «Арктике»! Подходим к правому борту.
Капитан вышел вслед за Алексеем.
– Подумай все-таки. Осмотрись там и подумай. Мы через две недели сюда придем опять...
Это он вместо «до свиданья» сказал.
Алексей сжал его руку. Нет уж, не затем добирался в такую даль. Как решил, так и будет.
Чемодан, заранее прислоненный к борту, совсем сырой от росы, Алексей взялся за мокрую ручку, но капитан сказал, что подаст. И Алексей, придержавшись за поручень, прыгнул на «омик».
Капитан перегнулся с чемоданом.
– Ну и нагрузил! Камни, что ль?..
– Почти, – сказал Алексей.
И в этот миг ему представились все лежавшие там книги, и наверху – недавно начатая «Поэтика» Аристотеля... И он мимолетно и ревниво подумал о том, будет ли время заняться чтением. И еще – мелькнуло опасенье, будто от неверного движения чемодан летит в воду... Сердце сжалось... Отогнал эту мысль, поставил чемодан на палубу, и сразу стало спокойней. Теперь все его с ним.
«Омик» уже отвалил от «Арктики». Капитан неподвижно стоял у поручня и смотрел на воду...
Потом от рефрижератора осталось неясное пятно, и оно растворилось в дымке.
1
Алексей спустился по крутому трапу в салон, в парную духоту. Там спали всюду: на диванчиках и на полу, и сидя, и лежа... На нижней ступеньке, загородив дорогу, в три погибели скрючился верзила в ватнике и храпел. Так и не сойдя поэтому с трапа, Алексей собрался уже подниматься назад...
И когда он, перехватив чемодан, повернулся уходить, слева, с узкой скамьи, поднялся парень и сказал сонно:
– Иди сюда. Поместимся. – Шагнул между спящими, помог Алексею перебраться через того, на ступеньке...
И верно – улеглись. Тесно, не повернуться, но все ж улеглись. И парень, приветивший Алексея, тотчас уснул, как будто нарочно ждал, чтоб только его уложить.
2
Сквозь низкие тучи продырявилось солнце, и было совсем тепло. Встали на носу, жмурясь от света, осматривались вокруг. Низкие берега вровень с водой и плоская равнина. Лишь по течению реки, по курсу теплоходика синеют горы с четкими полосами снега от вершин до подножья. И поэтому не очень верится в тепло этого заполярного утра. До гор далеко. А идти к ним – там створ будущей плотины и все остальное.
Парня звали Петром – он на стройке старый житель. С мая месяца тут. Сейчас вот ездил за новым пополнением. Все, кто на «омике», – его подопечные.
– С самим начальством кемарил и не знал, – улыбнулся Алексей.
Петр зябко повел плечами – никогда не ходил в начальстве, и от этого слова стало не по себе.
– Такого начальства у нас полста человек, – буркнул он недовольно. – Послали, и поехал... – Достал мятую пачку «Беломора», долго выискивал папироску.
По всему видно – тяготился он своей неожиданной ролью и тушевался, если об этой роли ему неуместно напоминали. И сейчас постарался поскорей изменить разговор – повернул Алексея за плечо по курсу теплоходика и кивнул вперед.
Там на воде – три диких утки. Кружились, поныриваи, и казалось, даже слышно покрякиванье. «Омик» шел прямо на них. В рубке их тоже заметили и ждали до последнего – улетят или нет... А те продолжали пастись на одном месте. Штурвальный не утерпел – завыла сирена, резкий ее голос покатился по реке.
Из салона поднимались любопытные. Иные спросонья думали: прибыли на место. Узнавали, в чем дело, грудились на носу, свистели в два пальца, стучали по железной палубе.
Утки были, как глухие... И вот они уже у самого носа... Недоуменно повернули головы, заработали лапами, нехотя отплыли – две влево, одна вправо; скользнули мимо, почти касаясь бортов хвостами, и снова соединились в бурунах за кормой.
Среди смотревших громче всех кричал и неистовствовал длинный парень в новеньком сером костюме.
– Ружье! Ружье! Ну, ребята, у кого ружье? Эх, сейчас бы пальнуть! Ну што жа такоя – прапускать таких матерок! Эх, никогда не забуду!
Он размахивал длинными руками, бежал вдоль борта, расталкивая людей, свесился с кормы – того и гляди, бросится в воду.
Петр смеялся и сам удивлялся этой глуши и дичи, к которой давно бы должен привыкнуть...
3
В мае забросили их вертолетами в снег у скал, где створ будущей плотины, где рычал незамерзающий порог. Снег был рыхлый, пухлый, проваливались в него с головой. Кое-как пробили тропку на высокий берег – там барак, брошенный изыскателями. Конек крыши чуть угадывался под сугробом. Откопали дверь, вошли в промерзшую темноту. Внутри снег по колено, печки нет.. И холод... Холод еще сильней, чем снаружи. Выгребли, вычистили, затянули окна брезентом, поставили железную печку (привезли с собой), разожгли сырые поленья. И запахло жильем.
А на другой день за рекой на открытое место сели самолеты. Выгрузили тридцать тонн самого нужного. И эти тридцать тонн, до последнего пустяка, перетаскали за три километра на своих плечах к створу, на высокий берег.
Но запомнился почему-то не путь через торосистую реку, не боль в плечах, не усталость. От тех дней осталось у Петра не похожее ни на что воспоминание. Прилетала сюда женщина, инженер. Пробыла совсем недолго, не больше дня – улетела назад последним самолетом. И запомнилась с какой-то осенней четкостью...
Может, оттого, что оказалась одна среди привычных мужских лиц?.. Нет, нет... Не потому, что одна.
Пожалуй, потому, что выглядела она очень одинокой и отрешенной от всего, что их тут волновало. В кутерьме, в горячке, когда таскали грузы, спокойно и безучастно скользила она на лыжах вдоль тропы, исчезала, появлялась на другом берегу или около барака, или за поляной в таежном редколесье. Иногда стояла подолгу на высоком берегу, разглядывая карту и местность. И наверное, что виделась она, такая спокойная, вдали и что скоро покидала их, – все это вызывало чувство затянувшегося грустного прощанья. И хотелось, чтоб оно длилось побольше...
Она и не знала, занятая своим делом, что стала для кого-то прощальным словом, последним взмахом руки.
Петр таскал грузы, отягченный усталостью, и ни о чем не думалось, кроме как о том, – когда ж последний ящик, последний мешок... Но вдруг проплывала вдали эта неторопкая женщина, и что-то смещалось в груди, и думалось о том, как улетит последний самолет, и останутся они одни, и как не скоро еще попадут на Большую землю, и не скоро увидят женщин... И в мысли этой не было вожделенности, а была только чистая грусть.
Он не разглядел даже как следует лица инженерши и о фигуре ее ничего не мог сказать из-за полушубка, унтов и шапки, делавших всех похожими. Лишь в движениях ее, в походке виделась женщина, и этого было достаточно, чтоб загрустить и запомнить ее надолго, и вспоминать потом при взгляде на кромку берега, на скалы...
И когда самолет прощально качнул крыльями, пролетая над вырубкой, над бараком – тогда-то Петр понял, что надолго запомнится незнакомая эта женщина...
Дальше все шло обычным своим чередом – началась весна, снег отсырел, осел, русло открылось, площадку залило – самолетам не сесть. Потом мир потонул в полой воде, дожде и мокром снегу. Дошли до ручки: несколько суток вся еда – пустые макароны и кружка навара, который оставался в котле.
И даже тогда – мелькнет воспоминание, выплывет откуда-то, и вроде легче: живет же где-то она и, может, помнит этот их барак и о них самих помнит...
А все остальное, как обычно, как надо. И даже навар от макарон, как надо. Всякое бывает, всякое видали...
Тут, конечно, обычный работяга не выдюжит, а кто вот за длинным рублем – подавно. Здесь нужны рисковые ребята, преданные делу до конца. Без них ничего не поделаешь, они – всему начало. Тут надо, чтоб не считали ни часы, ни рубли, ни километры, знали бы одно: свалить лес, расчистить место, поставить палатки к началу навигации, приготовить крышу для тех, кто приедет работать по часам и по рублям.
Вот сейчас Петр и вез уже людей, которые будут жить по всем правилам и строить сборные дома, чтоб к зиме в них вселиться. Для многих из приезжающих и палатка – испытание, им дела нет, как эта палатка досталась, они хотят трудиться от звонка до звонка, с выходными, отпусками и всем, что положено.
Петр знал: так надо, и никогда даже в душе не осуждал людей, которые так жили и работали. Но сам любил, когда все не так, когда прыгаешь в снег с вертолета и не совсем уверен, останешься ли жив... Вот эта неопределенность, которую сам понемногу превращаешь в определенность, это утверждение своих желаний, выживание на пустом снегу и любил Петр. Он не мог объяснить, почему так, но любил, когда так, и по-другому не хотел.
И остальные ребята в первый десант подбираются только такие. Гуртуются вокруг начальника участка Туркулесова, которому верят больше, чем кому, и ездят с ним по самым началам строек.
Потом широко раскидывается дело, сотни людей съезжаются и тысячи, и среди них остаются человек сорок-пятьдесят «старичков», готовых по первому слову бросить все обжитое и снова – в первый десант. Начинали и в Братске, и на Мамакане, и на Вилюе... Знают уж, как начинать, привычным и захватистым стало – начинать.
Разрастается стройка, рассыпаются они по разным службам, и уж редко видятся, и живут в разных концах нового поселка или города. И вдруг в один из дней, ни с чего вроде, заходит Туркулесов, и сердце падает... Он еще слова не скажет, только покажется там, где и не надо ему быть, не на своем участке, и неизвестно еще, к кому и зачем пришел, а сердце падает, как при воздушной яме в самолете. Ух, что-то несет Константин Яковлевич! И точно. Подходит к тебе и говорит: «Не засиделся ли, Прокофьич (или Иваныч, или Николаич – таких можно перечесть). Может, говорит, подадимся в Заполярье, новую станцию городить? За полярным кругом-то, поди, не бывал?» – «Не приходилось». – «Так как же?..»
4
Длинный парень в сером костюме прибежал с кормы, захлебываясь, замахал рукой.
– Во, черти, не боятся совсем! Да тут рай! Милы мои, тут охота, как у бога!
Он потрогал пиджак у сердца, заглянул под вздувшийся борт, и все подумали, что там – бутылка. А парень продолжал взахлеб:
– Я охотник, ребята, охотник, понятно? С чучелами охочусь. У меня дома этих чучел – штук тридцать, всех пород: и кряква, и гоголь, и черноголовка, и нырок, и шилохвость, и чирок... Они ведь все разные, утки-то, их надо понимать, а то чучела не сделаешь. У одной белые перышки полумесяцем, у другой хохолок, у которой пятнышко возле носа – все надо знать. Охота жа с ними! Это да! И чучела выпущу, укроюсь в камыше и жду. Слышу: летит. А сердце – как у щенка: тук-тук-тук... А утка – шлеп на воду! И – к чучелу. Тут я ее ррраз! И ваших нету! И еще, и еще! Ух, черт! Вот охота кака у нас на озёрях-то. Лучше наших мест на Оби, ребята, нет!.. Но тут особо, тут – это да!
Он опять заглянул под пиджак, поежился.
– Фу, ты! Обсикался... Ну, друг, хозяина обсикал. Не годится.
И вытащил то ли из-за пазухи, то ли из внутреннего кармана щеночка, совсем маленького, с неуклюжими лапками. Держал его в руке, а другой старался вытряхнуть оставшуюся после него влагу.
Вокруг захохотали.
– Не гогочите, он еще маленький. Во будет собака! Мы еще с ним по белку походим. Верно, Соболь?
И посадил щенка за пазуху, помогая ему лучше устроиться. Когда щенок успокоился, парень неистово начал:
– Я ведь зачем, ребята, еду на стройку – надо деньжат подшибить. У меня план такой: покупаю два мотора «Москва» и ставлю на дюральку. С этой дюралькой у нас хоть куда – на охоту, на рыбалку, в гости! Эх...
Он взглянул на реку, поправил щенка под пиджаком.
– Сейчас бы две «Москвы» и дать по реке! Вдоль! – оглядел собравшихся с таким восторгом, как если бы они только что подарили ему такую лодку. – Меня сюда-то провожала вся родня – братья, сватья, друзья... Посадили на пароход, попрощались чин-чином, разошлись. А на середке реки гляжу: мать честная – братья́ с дружками на дюральке с двумя моторами пароход догоняют! Чего им пароход – ползет, как слизень. Вррраз догнали, идут рядом с бортом. Разговариваем так спокойно, они мне протягивают зажигалку – прикурить через борт. Шикарно! Потом они кэ‑эк врежут на полную скорость – вррраз пароход обогнали, обкружили вокруг три круга и обратно рядом с бортом идут – разговариваем так спокойно... Посля они снова круг парохода дают! Людя́м интересно, конечно, все на один борт столпились, глядят на меня да на братьёв. Капитан сверху матюгается: «Туды вашу, разтуды, попадете под нос!» А у них два мотора – они нарезают в сто раз сильней его вшивого парохода! Во как меня провожали! Вот я таку лодку с моторами с двумя куплю, чтоб сильней братьёв ходить! Так эли не так?..
Он оторвал на мгновенье взгляд от слушателей, посмотрел на реку. В глазах его будто что-то щелкнуло, и он сразу перебросился на другое.
– Вон протока, ребята, глядите! Эх, рыбы там ой-ой-ой! Туда пару пакетов кинуть – вся наша была б! – задохнулся от картины, которая ему представилась.
Петр посмеивался, рассматривая парня.
– У нас так рыбачить нельзя.
– А что, рыбнадзор?
– Никакого надзора – сами не дадим.
Парень уловил неодобрительность и замолк, уткнулся под рубашку к щенку.
Тут кто-то принес весть, что открылся буфет, и все затопали вниз. Алексей предложил тоже туда спуститься, позавтракать. Петр махнул рукой, отвернулся к реке и, помолчав, сказал неохотно:
– Какой там завтрак... Вермут да прошлогодние пряники.
Алексей согласился, что идти незачем, не до вермута сейчас. И добавил, что вообще объявил себе сухой закон.
Петр недоверчиво, но с интересом посмотрел на него.
– Чего так? Иногда не мешает...
Алексей облокотился о поручень. Теперь они стояли, прислонившись плечом друг к другу.
– Я, знаешь, был не дурак выпить, – сказал Алексей задумчиво и замолк, не находя слов, не уверенный, что сумеет выразить свое убежденье. – Понимаешь, я все пронаблюдал... Берешься за бутылку... Сначала как будто все хорошо – застолье, друзья, разговариваешь откровенней. Но это же на полчаса, на час, не больше. Потом – бред, глупость. Это я для себя открыл... И не стало мне покоя... Сколько ни выпью – не отбивает у меня мысли – пустота это, бессмыслица. И стала одолевать скука, жалость... Смотрю на ребят – убожество это, нищенство... Вспомню, какая книга начата, а мы тут глупость порем, дуреем.
И хочешь верь, хочешь нет – перестал пить совсем. И от компании отошел, друзей потерял... Сначала ходил еще к ним, но не пил – делал вид, что пью, а сам не пил. И это еще тошней – трезвому смотреть на пьющих... И перестал к ним ходить вовсе. Да и нельзя уж было в компании находиться: заметили они, что не пью, стали приставать, высмеивать.
Так и разошлись – они за бутылку, я за книги. Я очень книги люблю. Особенно по философии. И художественную литературу... И физику. Физика будет моя специальность. Хочу поступать в физико-технический. Подработаю деньжат и поеду. – Он помолчал, посмотрел на реку и спросил с надеждой: – Тут время будет, чтоб читать?
Петр посматривал на него и с удивлением, с просыпающейся к нему добротой и симпатией думал: каких только людей не встретишь в дальних этих краях. «Особенно по философии». Сам Петр ничего, кроме слова этого, не знал. Слово было редкое, непонятное и угадывалась в нем темная глубина, и поэтому человек, так просто его произносящий, вызывал изумление.
– Чего ж не будет?.. Рабочий день у нас нормальный, кончил – и читай... Тем более ночи светлые...
Он внимательней присматривался к Алексею. Вроде парень как парень, все тут такие... А потом мелькнет в нем какая-то задумчивость... Что-то такое – не найдешь слова... Что-то непривычное... Будто отлетает он куда-то... И здесь он, и не здесь... Вот сейчас Петр чувствует, что тот не слышит его, задумался о своем и не слышит, хотя, наверное, и слышит... Ну не скажешь об этом... Такой чудной парень попался... Электрик, говорит... И по плотницкому делу, говорит, может. И по философии... Вот чудо-то!
Между тем Алексей оторвался от поручней, распрямился и с мучительным и вместе радостным изгибом на губах сказал:
– Теперь главное – время не терять, чтоб за этот год побольше сделать. Я много лет впустую потратил. Сейчас наверстываю... Старый я уже – двадцать шесть. И еще ничего не сделано... Десятилетка и курсы... Маловато...
...После армии я все по стройкам – в Средней Азии, и Сибири. Хорошо зарабатывал, все время на новых местах. Интересно, пока в новинку. Вкалываешь, как черт, а потом – в отпуск, на курорт. Что заработал, спустишь до копейки и – назад, снова вкалывать. Покружился в этой карусели... А раз вдруг как прострелило меня: зачем, думаю, что дальше-то?.. Так вот всю жизнь?.. Годы идут, а у меня ни образования, ни развития, ничего... Одно ремесло для заработка...
Книги-то я всегда почитывал... А как пришли эти мысли, тут просто набросился. И стал все больше по философии читать. Случайно нашел первую книжку... Перебрасывали нас на самоходке... В каюте на полочке, гляжу, валяются между всяким хламом и банками книжка. «Происхождение семьи» Энгельса. Как она туда попала?.. Пока шли до места, прочитал. Вот книга! Вся история раскрылась. В учебниках этого нет... Да и что – учебники! Мелкота. Здесь, понимаешь, по-настоящему, серьезно...
Обо всем... И о любви написано – первый раз вник... Никогда не думал, какая это проблема... Вот послушай: в былые годы, оказывается, любви не было, не знали этого чувства. Любовь не так давно появилась, в средние века. Представляешь – такое вроде обычное чувство, всегда вроде было... А, оказывается, сложней все, запутанней... Уж когда она появилась, все равно женились не по чувству. Женились по расчету – чтоб увеличить богатства, приобрести связи, завести наследников... И ведь тысячи лет семьи появлялись по расчету... А любовь возникла и жила так, неофициально, сбоку где-то, представляешь? Очень это меня поразило. Целые поколения не чувством дорожили, а вещами, деньгами. Унизительно это для человечества... По-моему, если чувства нет, то и семьи нет. Не могу представить, чтоб мужчина и женщина прежде расспрашивали друг друга – у кого сколько сбережений или какая зарплата, а потом бы женились... Вот гадость-то! Неужели так можно жить? Не верю, хоть знаю – так и жили и живут...
Я в то время как раз познакомился с одной женщиной... С инженером на нашей стройке...
Алексей замолк, и опять мучительно и радостно покривились губы. Какая странная у него улыбка. Он сам себя прервал, раздумывая – говорить или не говорить.
– ...Понимаешь, потянулись мы друг к другу, стали часто видеться. И человек она интересный, и не женаты мы – все как будто для нас... Сразу меня как ослепило – обрадовался, что нашел настоящую любовь. Не время было, а праздник. Каждый день золотой. А прошло месяца два – чувствую: она меня больше любит, чем я ее... Не могу ей ответить, чтоб наравне... Словно виноват перед ней, в долгу у нее... И стыдно от этого, и сам перед собой в чем-то нечист вроде. И ее как будто обманываю. Измучился вконец. Потом и вовсе у меня все пропало, ничего не осталось в сердце. Хорошая она, любящая, а я пустой, сгоревший... Да и книжку тогда прочитал о происхождении семьи. Чего ж, думаю, у нас получится – один расчет и выйдет... Хоть и не такие мы люди, чтоб считать деньги, а все равно без любви что ж – только расчет... И испугался я. Очень этого испугался. Представляешь – уволился быстро и, не прощаясь, уехал. Так лучше – не мучить ни ее, ни себя. Резать, так резать все сразу.
Освободился, и стало легче – ни перед кем не виноват, никому не должен... И тут уж по-настоящему занялся книгами. Так меня чтение закрутило, такое началось – сам удивлялся. Чуть куда попаду, первым делом – шарить по библиотекам, по магазинам, людей выискивать, кто занимается книгами. Да какие в наших местах книги! Вырвался в отпуск и первый раз полетел не на курорт – в Москву. Там раздолье! Не поверишь – накупил чемодан книг! Снял клетушку на даче и читал весь отпуск. Сейчас у меня три чемодана книг. Два в Красноярске остались у друга (его отец, капитан, сюда меня подбросил на рефрижераторе), а один вожу с собой. Тут и для подготовки в институт учебники, и для души – философские. Я тебе покажу, как приедем на место, и почитать дам.
Петр улыбнулся со вздохом:
– Это потом. Пока нет времени читать – работы по макушку, – зажег погасшую папироску. И захотелось тоже сказать о себе. Подумалось: не скоро случится еще такой миг, когда раскрывается душа и есть кому послушать. Но слова не приходили. Да и нужны ли они... Хорошо ведь просто помолчать, побыть рядом с откровенным человеком.
5
Так стояли они на носу теплоходика, разговаривали и смотрели на реку. А река крутила крутыми петлями, и не видно совсем ее дали – словно плывут по озеру со всех сторон берега.
Потом спустились в салон, заглянули в буфет, откуда, перекрывая шум, доносился знакомый голос:
– ...Лося? Я лося, ребята, знаю лучше кого. Двух лосей сам положил. Как было дело? Ездил я с папашей к дяде на праздник. Железная лодка у нас ба-а-альшая Папашина лодка. Мотор болиндер. Обратно вертаемся, папаша, значит, сильно выпимши, спит на носу. А дело к вечеру, темнеет. Я гляжу: от того берега кака-то коряжина плывет. Ну плывет – и плыви. Еще глянул: плывет. Ну плыви. А она на две разделилась... Я так и обмер – это ж лоси! Рядышком переплывают. Я заворачиваю к ним. Папашу толкаю: лоси, мол. Но он спит крепко, не слышит. Я к лосям, одного от другого оттер лодкой и кружу вокруг. А сам без папаши ничего не сделаю с ним – надо править, и мотор забарахлил. Разбудил папашу, он спросонок не поймет ничего. Но после понял. У нас в лодке здорова палка была. Папаша лося кэ‑эк по башке хватит! А лосю хоть бы хны. Плывет и плывет. Я – вокруг, он к берегу. И ушел от нас, стал вылазить – передними ногами уже стоит на берегу. А там обрыв, и задние ноги у него в воде... Тут я лодку пр-р-р-рямо на берег направил. Папаша подумал – я остановлюсь, а я жму на берег во всю железку! Лодка тяжелая – я лосю задние ноги-то и придавил. Он и опустился враз – не может вылезти из-под лодки. И взять его нельзя – живой. У папаши складень был, нож. Я подобрался к шее: чик, чик... Да куда! Шкура крепкая – даже не прорезал. Он головой мотнул – я упал, складень – в воду. Так и потеряли тогда складень... Жаль, хороший был.








