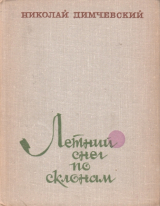
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
12
Мы поднялись вверх по Ангаре до заброшенной деревеньки Кова. В одном из домов устроили базу. Дом стоял на высоком берегу, и за калиткой открывался простор, налитый синевой и солнцем. Когда изыскатели уходили утром на работу, с крыльца казалось, что они, хлопнув калиткой, пропадают в синеве. А они всего лишь спускались по тропинке к лодкам. Раздавались первые трели моторов, начинался день.
Вижу тонкий слой тумана у самой воды, а вокруг солнце и удивительная четкость таежных берегов. Туман так плотен, что лодки не видно – кажется, чудом перемещаешься по ослепительной белизне. Даже урчанье мотора глохнет в этих утренних перинах, усиливая впечатление сказочности.
Наш отряд инженерно-геологической съемки работал на створах, из которых потом станут выбирать наилучшее место для строительства Богучанской ГЭС. Это были первые шаги.
С тех пор прошло полтора десятилетия, а каждый створ помнится, будто вчера оттуда приехал. И по-особенному выглядывает теперь из прошлого деревенька Кодинская Заимка и Кодинский створ, который тогда стоял в ряду остальных, а сейчас оказался единственным, найденным и утвержденным. В перечнях строек десятой пятилетки есть строка: «Начать строительство Богучанской ГЭС». Название будущей гидростанции дало большое ангарское село, а расположится она выше по течению от Богучан, там, где еще стоит Кодинская Заимка...
Деревушка на левом берегу Ангары. Луговина между рекой и таежными увалами, и по луговине рассыпано несколько домиков.
Был жаркий день, поэтому одевались поплотней: под куртку с капюшоном – рубаху и свитер, под шаровары – брюки, на лицо, у кого есть – сетку из конского волоса («личинку», как называют ее местные жители), нет личинки, – сетку Павловского или пчеловодную шляпу. Если одеться полегче, оводы и комары не дадут работать. У меня хранится снимок спины идущего впереди геолога – ткань куртки не видна из-за сплошной массы таежных кровопийц.
Миновали ручей (по-местному «ру́чей»), прошли по высокой траве и начали подниматься по склону, густо заросшему подлеском, заваленному буреломом. На сгнивших стволах росли молодые елочки. Душно и пряно пахло в тайге после недавних дождей. Николай Николаевич Немнонов, обутый в мягкие ичиги, надетые на носки из конского волоса, неслышной походкой быстро пробирается через заросли. Нужно выйти на высокую точку, с которой виден Кодинский створ, сфотографировать реку и скалистый противоположный берег... Кто знал тогда, что именно здесь Ангару перетянет плотина.
Забрались на вершину – дальше некуда, но кругом такие заросли – даль вовсе не видна. Немнонов оставил меня стоять с рюкзаками, а сам пропал в чащобе. Потом издали, слева, раздался его голос – нашел открытую площадку. Взваливаю рюкзаки, бреду по бурелому. Впереди и вправду – просвет. Арка из сочной листвы и за ней – даль реки, слепящая после таежного сумрака.
– Куда же вы запропастились! – нетерпеливо выговаривает мне Немнонов. – Скорей телевики!
Он фотографирует светлые скалы на том берегу и выискивает местечко, куда можно пристать на лодке и сверху снять берег, где мы стоим сейчас, чтоб получилась полная картина створа. Потом мы надеваем рюкзаки и идем обратно. Он впереди, я за ним. Он останавливается, ждет, пока я догоню, и тихонько говорит: «Посмотрите-ка: вот, вот, под ногами...» Нагибаюсь и вижу на проплешинке, отмытой дождями, свежий след большой лапы. «Недавно миша прошел», – объясняет Немнонов и берет фотоаппарат на изготовку, – авось повезет...
И годы миновали с тех пор, и нет уже Николая Николаевича: он умер на весенней тропе в лесу – сердце не выдержало впечатлений и лет...
И еще очень далеко до этой строчки: «Начать строительство Богучанской ГЭС»...
А с чего ж начать мне?
И вспомнился один случай. Мы ушли вверх по реке, далеко от базы, на остров Тургенев. Разбили палатку. Утром нас разбудил вертолет – он жужжал, как овод, улетал, возвращался, повисал в воздухе... А когда мы пошли в поселок – промыслить съестного, первый же попавшийся житель поведал, что потерялся рабочий у топографов и вертолет не мог его найти.
С нами был случай, когда мы заблудились в тайге. Помнилось чувство беспомощности. Не страха еще, а именно бессилия одолеть глухой лес, тебя поглотивший. Страх приходит позже, нам удалось выбраться к реке до его наступления. Страх – это паника, безумие и поэтому – возможность конца. Не забуду надпись на кресте одного из ангарских кладбищ: «Бедный наш брат погиб в тайге от страха и холода». Не от голода, не задранный зверем, а от страха, который не дал ему даже разжечь костра.
Через несколько дней мы вернулись в Кову. И нам рассказали, что из тайги на нашу базу выбрел человек, рабочий-топограф... Вертолетом его отправили в Кежму...
Ну вот и сюжет! Надо ж было ждать два года, чтобы он определился! Я взял лист бумаги, присел на порог балкона и написал первую фразу: «Это была буханка хлеба»...
КАЛИТКА В СИНЕВУ
Памяти друга,
Константина Кондрацкого,
который прошел
слишком мало...
Это была буханка хлеба. Я видел ее до последней ноздринки в корке, щупал маслянистые бока, чуял парной запах, но только отломил край и хотел впиться зубами, хлеб пропал. Ничего у меня не было в руках. Ничего. Пустые ладони – и все. И тогда я проснулся.
Граненый луч прорезал зимовье и ударил в трухлявые бревна. Не хотелось поворачивать голову. Я лишь скосил глаза и увидел квадратное оконце. Там плясали сочные листья и комары. Я закрыл глаза. Ноги были тяжелы. Тяжелей остального тела. Пошевелишь – проломятся нары. Лицо саднит. Комары и в зимовье покоя не дают.
Уснуть бы еще. Но уже затормошилась мысль – пора идти. От нее не отвяжешься. Я совсем собрался вставать. Хочу подняться и все медлю, оттягиваю.
Потом сдвинул дубовые ноги. Поставил на пол, как колоды, одну за другой. Встал согнувшись – зимовье низкое. А хорошо тут. Не ушел бы, если бы еда была.
Солнечный лучик пропал. Зеленый сумрак смотрится в оконце. Пора. Давно пора.
Двинул щелястую дверку и вышел.
Еще вчера вечером, как попал на ручей, решил, что пойду вниз по течению.
Сейчас напился воды, пожевал дикого лука, совсем старого, жилистого. Нарвал с собой. Затянул капюшон энцефалитки, закрыл лицо лоскутом, оторванным от рубахи, чтоб не ела мошка. Поплелся. По камням, по осоке, через мочажины.
Чем тут хорошо – вода рядом. Хоть жажда не мучит.
Ноги помаленьку стали привыкать к ходьбе. Совсем разошелся. Да недолго радовался. Начались камни. Ручей нырнул под них и зазвенел в глубине. С двух сторон стали нарастать скалы. Пробираться все трудней. На пути, поперек русла – завалы. Весной или после сильных дождей деревья валит в тайге и несет сюда.
В завалах не знаешь, чем больше приходится работать – ногами или руками, – лезешь почти все время ползком.
Совсем я лишаюсь сил. Соскользнула нога с бревна, ударился коленкой о сук...
И почему-то здесь колыхнулась память. Нежданно и остро я вспомнил Веру. Вспомнил так, будто только расстался с ней и еще можно вернуться и уже нельзя возвращаться. И поэтому больно. Эта боль пришла при последнем нашем прощанье. Сначала я даже не мог понять, почему она. Несколько раз оставался я у Веры и всегда легко уходил. От встречи до встречи о ней почти не думалось. Вспоминалось все лишь когда из-за скалы показывалась деревенька Подкаменная. И я радовался, что увижу Веру. Мне нравилось быть с ней, но едва я садился в лодку – почти забывал ее.
И последняя наша встреча ничем не отличалась от других. Только когда собрался уходить, мне точно крючок впился в сердце. Я разжал руки, отступил от Веры, и будто невидимая леска протянулась между нами. Хорошо помню, как я подошел к двери и уже открыл ее, но оглянулся и не мог переступить порог. Все смотрел на Веру. И она смотрела на меня. С трудом я вышел, и с каждым шагом леска натягивалась сильней, а крючок глубже впивался в сердце. Я уже заводил мотор и все еще не мог прийти в себя. Хотелось бросить лодку, побежать назад и остаться в Подкаменной надолго...
Сейчас в этих завалах, среди злобной тайги, Вера вспоминается, как далекий мир, полный доброты и тепла. И все кругом делается еще бесприютней, резче, нелюдимей. Я сижу на свороченных, объеденных водой бревнах и тру коленку. Над головой капризно и резко вскрикивает кедровка. От ее одинокого голоса так одиноко... Я поднялся и полез по камням. Кедровка все кричала, и больше никого нигде.
Как смолол скалы, как сосны сжевал, как вымотал меня ручей...
Я смотрел только под ноги, только на руки, лишь на камни и бревна. А на гребне большого завала поглядел в сторону и увидел Ангару. Другой берег – черно-зеленый с белесыми проплешинами скал. На них лежат облака и шевелят рваной бахромой. День хмурится, и река серая, и густо-зеленая, и совсем пустая. Ни лодочки вдали.
Потом ручей выполз наружу. Камни сразу покрылись скользкой зеленью. Сапоги не держались на них.
...Вот как. Здесь забродный камень. Скалы с обеих сторон ручья подходили к самой реке. Их каменные полотнища ныряют под воду и растворяются в быстрине. Ручей вытекает словно из ворот. А мне из них не выйти.
Я постоял у скалы. Вода неслась безмолвно и напористо, подгладывая каменную стену. Скала дышала ледяной сыростью.
По берегу тут не пройдешь. Надо снова подниматься вверх, идти в обход... Я снял сапоги, лег на холодный песок. Все сжалось внутри. Песок холодил горевшие ноги и грудь. Я уткнул лицо в руки. В глазах плыли камни, завалы – весь мой путь, весь ненужный спуск сюда. Как нелепо и глупо я заблудился. Может, никто и не узнает, как... А узнает – будет смеяться. Да, просто анекдот, только не смешной. Митя с Николаем Нилычем ушли на съемку. Я занялся своим делом. Какое у меня дело? Я вроде подсобного рабочего в отряде – веду лодку, слежу за моторами, заливаю бензин в бачки, помогаю изыскателям, чем могу. Вот и в тот день я разбил палатку, разложил костер, пошел за водой к ручью. И совсем рядом увидел рябчика. Чем не жаркое! Бросил палку. Птица отлетела в сторону и снова села. Еще раз бросил. Опять отлетела. И так увела меня в тайгу, запутала в зарослях – обратной дороги найти не мог: все перемешалось в голове. Вот лежу измученный.
Но я встал и полез по камням назад. У меня не стало ни ног, ни рук, ни тела. Была только мысль, что надо обогнуть скалы и выбраться на берег. Он приведет к жилью.
В тот вечер я не дошел до реки. Когда стало смеркаться, лег в сосняке на хвою, укрылся, как мог, от комаров и полетел в какую-то горящую бездну. В ней были только угли, пылающие стволы и ни одного родничка воды.
1
Проснулся утром. Что-то случилось. Тайга трещала, гремела и выла. Я открыл глаза. Деревья стояли спокойно. Ветра не было. Грохотало небо. Это был вертолет. Я вскочил. Он мелькал за соснами, за густыми лапами кедров, за черными вершинами пихт. Он уходил и возвращался. Может быть, он искал меня. Сразу я не подумал об этом. Через такую гущину летчики не могли меня увидеть. Я побежал вслед за вертолетом: хотел найти полянку. Он еще раз прогремел над головой и застрекотал вдали. Я шел быстро. Я все время прислушивался. Он больше не приближался.
Я сразу устал. Ведь только утро, а я уже устал. Продрался через пихты и вышел на открытое место. Вертолета совсем не слышно. Зачем теперь мне открытое место! Да и какое оно открытое... Это гарь. Я сел на обугленный ствол. Выше головы тянулся кипрей. Яркие цветы резали взгляд. Стебли стояли плотно друг к другу, их заплели вьюны и всякая трава. Здесь затеряешься, как в лесу.
Идти было душно. У самого лица горящие свечи кипрея, из-за них ничего не видно. На каждом шагу обгорелые стволы и сучья. Руки и лицо в крови от мошки.
Кое-где в серое небо воткнулись черные изъеденные огнем стволы. Не верится, что когда-то они были деревьями. Один совсем плоский, с длинной дырой вдоль. Другой с бычьей головой на вершине. Только их я и вижу из зарослей. Они мне вместо вешек. Без них заблудишься, ведь трава у самых глаз – можно кружиться на одном месте и не заметишь этого.
А здесь, пожалуй, летчики меня увидели бы... И вертолет мог бы сесть на гарь. Я прислушался. Только комары звенят, и стучится по капюшону мошка.
На пути – поваленный ствол. Он как гладкая дорожка между стенами кипрея. Раньше на гарях я всегда бегал по стволам, чтоб скорей идти. А сейчас встал на угольную чешую – и закружилась голова. Не могу. Но дорожка уж очень хороша: не нужно раздвигать липкие стебли, выпутываться из зарослей... Тогда я пополз на коленях, придерживаясь руками за обугленные бока сосны.
Все чаще стали попадаться мертвые деревья и заросли осинника. Гарь кончалась.
В тишине мне померещилось рычание. Прислушался. Рычание доносилось откуда-то снизу, издалека. Это мог быть медведь. Но я не испугался. Мне было все равно.
Я пролез через кусты, через засохшие густые елки, и сразу открылась даль. Я стоял на обрыве. Внизу шумела речка. Я подумал, что это протока Ангары.
Иногда снизу доносилось рычание. Я стал высматривать, нет ли зверя. И тут, под самым обрывом – лодка! Уткнулась в кусты, видно лишь корму. Может, там есть и человек.
Обрыв очень крутой. Я не решился съехать. Пошел по краю, который снижался почти до воды.
Снова рычание. Но теперь я услышал еще и глухой стук. Значит, не медведь. Это вода тащит камни, и они глухо гремят и бормочут, а издали кажется, что рычание.
Я напился, вымыл руки и лицо. Разогнуть ноги было трудно. Я едва встал. Пошел по камням туда, где лодка, вверх по течению. Мне попались пу́чки – такая сочная трава с белыми зонтиками на концах. Она оказалась старой, но я жевал и жевал сладковатую мякоть, пронизанную жилами.
У лодки никого не было. Ее крепко заклинило в кустах и камнях. Наверно, оторвало где-то выше по течению и забросило сюда. Лодка совсем хорошая. Даже с веслами.
Я толкнул ее. Ни с места. Неужели не хватит сил... Влез. Перешел на корму. Теперь она покачнулась. Нос задвигался между камнями. Я оттолкнулся веслом. Поддалась!
Но весло вырвалось из рук. Течение подхватило лодку. Я попробовал править другим и его не удержал. Тоже унесло.
Я сел на скамейку. Качало и трясло. Вкус медвежьей травы во рту показался противным. Меня стало мутить. Я лег на дно.
За бортом грохотали валы, глухо рычали камни. Я лежал и смотрел, как плывут над головой горы. Они крутились вокруг лодки, заглядывали ко мне через мохнатые брови, грозили поднятыми кверху пальцами черных скал, топотали каменными ногами по воде, стараясь ударить о борт.
Раз они пустили в небо орла, и он долго висел надо мной. А я вспомнил вертолет. Наверное, они нарочно пустили орла, чтоб подразнить меня воспоминанием.
Иногда я засыпал, и казалось, что лежу в постели на высоком пружинном матраце. Открывал глаза – и снова толпящиеся вокруг горы. К их вершинам присосались облака. Они шевелят огромными губами и жуют черную тайгу.
Лодка пошла плавней. Лить изредка бил по днищу камень. Я приподнялся. Речка была узкая. Берег летел мимо так быстро, что сразу закружилась голова. Я лег.
Горы начали уходить в стороны. Шум воды смолк. Лишь мелко и звонко шлепала по борту зыбь.
Что-то назойливо затрещало. После грохота речки хотелось тишины, а тут все время что-то трещало. Я с трудом зажал уши и забылся.
Меня потрясли за плечо.
– Жив, парень?
Через борт ко мне свесился человек. Как давно я не видел людей. А это был человек. У него побелевшая брезентовая куртка, круглое лицо и большой рот.
– Экспедиторный ты? Да? – спросил рот.
Я хотел ответить, но почувствовал, что лишь невнятно хриплю.
Он прицепил мою лодку к своей и пустил мотор.
Это был бакенщик.
Он вел меня по берегу. Вечерело. Значит, меня вынесло на Ангару. Вот как. Берег показался знакомым. Да и катер тоже. Это ж наш катер.
– Это наш катер, – сказал я.
Придерживая за плечо, бакенщик вел меня по дорожке.
Наша изба светилась одним окном. Через марлю ничего не видно. Я поднялся по ступенькам и вошел в сени. Как сладко пахло домом. Как тихо и спокойно здесь. Бакенщик помог мне открыть дверь.
Оказалось, верно – за мной посылали вертолет, Николай Нилыч с Митей летали на нем и показывали летчикам, где искать. И не нашли.
Меня уложили на раскладушку, и я проспал всю ночь и весь день.
2
Как хорошо быть с людьми. Я смотрю на старика Привалихина. Все в нем спокойное, домашнее. Он похож немного на моего деда и на всех стариков, которых я видел. И не похож на них. Он совсем высох. Все у него сохлое – морщины, волоски в редкой бороде, руки с крутыми венами, тощие ноги. И голос слабый, точно из пересохшего горла.
Мы только познакомились. Я пошел к речке. Хотелось посмотреть на нее. Это она ведь меня спасла.
Здесь, на берегу, и стоял старик.
– Внука жду, – говорит. – Он животники́[24]24
Животники́ – снасть для ловли рыбы на живца.
[Закрыть] ставит. Видишь? Лодочка капелюшешна у него.
Как ласково он говорит о лодке. Никто еще так не говорил.
Я люблю расспрашивать стариков. Они как пришельцы из прошедшего. Слушать их – все равно что смотреть в бинокль на далекую вершину: кажется, рядом, а не возьмешь. Их память приносит лоскутья всеми забытых картин.
Дед Привалихин начал вытаскивать эти лоскутья сразу.
Был вечер. Небо, как шатер из синих туч. На западе, вниз по реке, тучи обрывались аркой, и за ней сияла совсем прозрачная синева.
Деревенька, и мы, и почти вся река, и тайга – все поместилось в шатре. А у входа таилось солнце. Оно иногда прокалывало плотную крышу. Красный луч протягивался к берегу в устье речки, и тогда плясали краски. На пихтах – фиолетовые, на березах – киноварь, на траве – желтизна, а на реке сплеталось черное, серое, желтое и красное.
Все шевелилось и жило в нашем шатре, хотя не было ветра и стояла тишина. Из-за намокших пихт поднимался пар. Он не отовсюду вставал, лишь из нескольких мест по склону горы. Там он сочился волокнами ввысь, между лапами деревьев, растекался у их вершин, и тогда вырастали облака – белые и розовые на фоне синих туч. Они были, как птицы. Они медленно отрывались от склона и уплывали. И все начиналось сначала.
Старик смотрел на них, а видел что-то другое. Он указывал согнутым пальцем на полянку под пихтами, вылавливал в памяти давнее, древнее. И в струях тумана не разберешь – куст ли стоит или чум тунгуса курится мокрым дымком. (Старик называл эвенков по-старинному еще – тунгусами.)
В те времена, когда дед старика был молодым, никого, кроме тунгуса, не видели эти пихты. Дед первым срубил тут зимовье и сдружился с тунгусом. А потом многим понравилось это место на стрелке речки и Ангары. Здесь стала деревня.
Раз утром чум тунгуса пропал. Дед больше никогда не видел своего друга. Весной он вместе с сыновьями раскорчевал на том месте деревья и много лет сеял пшеницу. Там, куда сейчас вновь подбирается тайга...
Небо гремело и бушевало закатным пламенем. Оно облило старика золотом, его истертый накомарник, закинутый на затылок, засветился, лицо стало совсем коричневым, словно сплетенным из высохших корневищ, и дрожащие неровные пальцы теребили бороду. Глаза его были далеко, и голос, тощий и тихий, звучал точно издали. Он волновался, но это волнение подернуто давней пылью, и почувствовать его можно, а услышать нельзя.
Он говорил уже какие-то сказки, доставшиеся его деду от тунгуса. Будто вся жизнь – река. В ее верховьях живут еще не родившиеся люди. Но она течет через горы, и вот здесь, на берегу, где мы стоим, живут и охотятся те, кто появился на свет. А когда они умирают, то переселяются в низовья реки. И так вечно идет жизнь, и вечно течет река, и вечно по ней плывут люди с верховья вниз.
Ангара молча слушала старика. К ее равнине овсяным зерном приросла лодочка. И там, в зерне, был внук, и здесь, на берегу, был дед. И между ними была река. Она разделяла и связывала их.
И еще он рассказал про тунгусскую девушку, которая родила двойню – медвежонка и мальчика. Они подросли, вышли из чума и стали бороться. И мальчик поборол своего брата. С тех пор всякий раз, когда тунгусы убивают медведя, свежевать зовут человека из другого рода. Чтоб не накликать на себя беду. Нельзя ведь с родственника снимать шкуру. И тот, пришлый, подступает к туше с осторожностью. Разрежет шкуру, начнет снимать, а сам успокаивает медведя: это, мол, не нож режет, а муравьи бегают и щекочут тебя. И тушу они разделывают по-своему. Никогда не перерубят кость, а старательно разберут все по суставам.
И вот, когда съедено мясо, кости по порядку складывают на ивовые прутья, свертывают снопом, связывают, и мальчик борется со связкой, и побеждает, и медведя хоронят.
Я стал расспрашивать старика об этой тунгуске. Но он повторял одно и то же. Он ничего больше не знал о ней. Да и что еще он мог знать? Сказка и есть сказка. Просто мне почудилось тут какое-то дальнее сходство с Верой. А и все сходство-то – двое ребят... А еще, может быть, в том сходство, что старик не знал, кто был мужем молодой тунгуски, а я не знал мужа Веры. Знал только, что зовут его Павел Галкин и работает он с изыскателями-бокситчиками. Вот и все, что Вера сказала мне о нем.
Мы очень мало о чем поговорили с ней. И меня она не выпытывала, и я ее не спрашивал. Удивительное это знакомство. Будто бы даже и не знакомство, а встреча давних знакомых. Точно мы познакомились когда-то раньше, а теперь встретились и сразу друг друга узнали. Так потянулась она ко мне, а я к ней.
Все было против этого. Она замужем, у меня – ни кола ни двора, одна энцефалитка, да и та казенная. Не надо бы нам вовсе и видеться. А вот увиделись – и не могли не видеться. Точно две росяные капли на одном листке – слились вместе и не различишь, где одна, где другая.
Здраво рассудить, – ну что я ей?.. Одни неприятности от меня. Знали мы. Учены оба. А пошли на такое безрассудство. Не задумываясь, пошли. Будто только ждали, когда наступит эта встреча.
И теперь, отделенные простором и временем, можем лишь вспоминать друг друга и ждать короткого осеннего свидания. Пройду в конце сезона у Подкаменной – увидимся, и до весны... А за зиму-то мало ли чего случится...
Вот куда завел меня старик со своей сказочной тунгуской, какие двери растворил в прошлое и в будущее. Неожиданно для меня. Да, все в жизни неожиданно. И сама жизнь неожиданна от начала до конца. Непостижимо, сколько может она вместить. И к концу человек сам становится, как жизнь. Он отпечаток ее со всеми изгибами, поворотами, он так же многолик, как она. И вся ее горечь, вся сладость оседает и отжимается в человеке.
3
Поправился я быстро. Но долго не отцветали в памяти трудные краски одиноких дней в тайге. Они выплывали неожиданно – стоило взять хлеб или войти в дом. Да еще под утро я просыпался от страха. Да еще разные пустяки зажигали в глазах то цветы кипрея, то завалы на ручье, то холодную стену скал.
Силы вернулись. Ноги и руки отошли. Но меня пока не брали в маршруты. Я вставал пораньше, наливал бензин в бачки и проверял моторы. Если было время, выплывал на середину Ангары. Мне нравилось тонуть в синей дымке, в светлом тумане, расстеленном вдоль реки. Я закреплял мотор прямо, вставал в лодке и правил, наклоняя ее на правый или левый борт. Когда так плывешь, кажется, что летишь в синеве. Не думаешь ни о моторе, ни о чем. Только правишь всем телом, как птица. И ветер путается в волосах, и голубизна заливает взгляд.
Так несколько дней.
И настало время уходить с этого насиженного места. Отряд с катером – вниз, а мы втроем – вверх по реке.
Ветрено и ясно вокруг. Шумит шивера[25]25
Шивера – порожистый участок реки.
[Закрыть], и волны шлепают по мокрым камням. Белыми барашками пестрит Ангара. Мы грузим в лодку все, что нужно для работы.
Привалихин стоит на берегу. С ним внук и собака Вихорь.
– Не бои́тесь, ребята. Главное – наперерез волны идите, поближе к берегу, – говорит старик.
Пусть его поучит. Я не хуже знаю, как нужно вести лодку в шторм.
Мы надеваем плащи. А волны сильно бьют о берег. А лодка сидит низко. А старик говорит: «В добрый час».
Я отталкиваюсь от берега. Бреду по воде. Потом прыгаю на корму. Лодка режет прозрачную волну, и видна ее зеленая подкладка. Капли белым веером вымахивают от бортов и стекают по лицу. Плащи раскоробились и сидят колом.
Радостно уходить в кочевую нашу жизнь и жаль деревеньки, притулившейся в устье речки. Привык за эти дни. И старика с его сказками покидать неохота. Оглянусь, а он все стоит, и внук с ним, и собака Вихорь.
А плыть нам за шиверу, к Аплинскому порогу. Там серые скалы острыми краями режут небо. У подножия громоздятся бревна, стволы и всякий деревянный мусор. Вершины скал точно дымом курятся: роятся стрижи. Птичьи крики сливаются в один пронзительный звук.
Пристали мы перед порогом. Привязали лодку к бревну. Рюкзаки на плечи – и наверх. Солнце жаркое. Тайга дышит сосновой смолой и горячим песком.
На скалах поверху тропка. Наверно, бурлаки еще в давние времена пробили ее – илимки[26]26
Илимка – большая лодка для перевозки грузов.
[Закрыть] тянули, пробираясь по вершинам. Внизу-то не пройти – забродный камень.
Добрались до места. Делаем, что надо. А внизу, в самой бездне порога, из-за скалы выплывают две резиновые лодки. Одна черная, другая красная. Катятся по воде. Вот-вот распорют о камни бока. Но никогда они не распорют. Резинка от любого камня отскочит. Перевернется вокруг себя – и дальше. На деревянной лодке опасней идти через порог. Геологи это, кому ж еще. Вот устроились, подлецы! Лежат себе, загорают. На середке их и мошка не берет. Лупят по течению. Один книжку читает, другой пишет что-то, третий с удочкой примостился.
Перевалили они порог, стали грести к берегу. Подальше нашей лодки пристали. Оделись. Тут не больно-то в трусах походишь – зажрут поуты да мошка.
– Федя, так вас растак! Сколько вам нужно кричать! Мечтаете, а у меня дело горит. Тащите живо пленку!
Это Николай Нилыч меня ругает. Деликатный он человек. Грубого слова никогда не скажет. «Так растак» – и все.
– Там геологи на резинках пристали, – говорю.
– Плевать мне на всех геологов! У меня пленка кончилась!
Работает он до изнеможения. Заберется на скалу, лазит по ней, крутится. Со всех сторон реку обснимет. Митя говорит – его картинки очень ценят в Москве. Они тем нужны, кто для гидростанций чертежи составляет. Конечно, заберись-ка на Анлинский порог. А то взял фотографию, и все видишь. Где камни, где мягкий берег, где быстрина, где заводь.
Мы работаем для Богучанской ГЭС. Станция будет сильней Братской. А где ее поставят, никто не знает пока. Есть несколько створов, и выбирают, какой лучше. Вот и приходится разведывать берега, шиверы и пороги, присматриваться ко всем повадкам реки, ко всем ее причудам и прихотям. Много их у Ангары. И никогда не знаешь, что придет ей на ум. Купаешься вечером в парной воде, видишь каждую песчинку на дне, как улитка ползет по сочной водоросли, как рыбешка играет в темных зарослях. Утром встанешь – вода почти к самым палаткам подобралась, мутная, с пеной, со щепками. Несет сверху сено, навоз, дрова и бревна. Где-то прошли дожди и вздуло реку от лишней воды.
Это все северные реки такие. Подкаменную ли Тунгуску взять или Нижнюю. Все норовистые и суровые.
В их бесприютности и дичи, в их каменном логовище так радостно встретить человека. Спускаешься со скал иссеченный ветром, избитый осколками, исколотый и искусанный тайгой, пробираешься долинкой ручья между корнями и камнями. И вдруг видишь за лапами сосны дымок и палатку. Видишь парня, лениво мешающего ложкой в котелке. Двое других покуривают, посиживая на бревне. И вот ты подходишь – и пахнет похлебкой, сигаретами и деготьком от сапог.
И с бревна поднимается крепкий жилистый парень со светлыми курчавыми волосами, с узким горбоносым лицом. Брезентовая куртка распахнута на груди, и там красной капелькой сидит комар. Парень протягивает руку и говорит, что его звать Борисом. А второй – Павел. А третий, у костра, – Кеша.
И все. Мы приваливаем рюкзаки к бревну, садимся, Вытягиваем ноги и молчим. Просто так. Хорошо здесь, и ребята свои. Видим их первый раз, но они свои ребята.
А потом уж помаленьку пойдет разговор. Я перегоню лодку поближе, мы поставим палатку, достанем свой припас, но ребята запретят нам его трогать. Только разве что хлеб, а остальное уже готово – и уха, и жареная рыба. Додумались же они взять сковороду, и жареная рыба у них.
Надо и нам в другой раз взять сковороду, так думаю я. А Митя с Борисом и Павлом уже толкуют о траппах. Это камень, из которого сложены почти все скалы на Ангаре. Серый он, черный и белесый. Еще его называют базальтом. Эти ребята-то специально занимаются траппами. Так и плывут по течению на резинках, чтоб лучше рассматривать скалы и берега и пристать, где надо.
Рабочий у них Кеша. Чудно даже, как расфранчен! В черном костюме, шелковой рубашке и остроносых ботинках. Сидит у костра, ворочает рыбу на сковороде.
– Чего это вырядился? На базар собрался? – спросил Николай Нилыч.
Парень надвинул кепку на глаза и ничего не сказал. Будто не расслышал.
– Почти что, – ответил за него Борис. – На танцах был. А нам рабочий нужен. В клуб зашли: «Кто с нами? Уходим сразу!» Кешка и вызвался: «Едем. Отпуск у меня. Скушно тут».
Так и толкуем. Ветер совсем притих. И солнце на заходе. Под скалами уж сумерки, а на другом берегу красными головешками светится тайга и медными змеями буровится в воде. Кричат стрижи – готовятся ко сну, и работает порог – перемалывает бревна да камни.
И разговор наш о северных этих местах. И слова его тянутся от заполярной Хантайки через Игарку по Енисею до Нижней Тунгуски, через Туруханск до Подкаменной, а через Енисейск до Верхней Тунгуски, до этих вот скал у Аплинского порога, до этого синего вечера с углями закатной тайги.
И так ясно видится мне все, о чем говорим.
Я вижу, как собирают в путь большой резиновый понтон. У таких же скал, перед порогом, ревущим вдали. Это на Нижней Тунгуске. Ребята притягивают веревками ящики и мешки, старательно вяжут узлы, крепкой сетью оплетают все снаряжение. Они натягивают брезент, проверяют мотор, пристроенный к понтону на кронштейне. Они осматривают берег – не забыто ли что, садятся в понтон и привязывают себя к его пухлым бортам. Потом отталкиваются тупыми баграми от камней, и река хватает их обеими руками, крутит, мнет. Ей дела нет до мотора. Надвигается вой и грохот порога, и валы начинают плясать среди скользких хмурых камней. И небо пропадает в брызгах, в клочьях пены, в тонкой водяной пыли. Кипящая холодная вода бесится, и понтон скрипит, словно детский шарик. Она перемахивает верхом, и люди сидят в ней по пояс. Только веревки спасают от ее мокрых лап, готовых затянуть в пучину...
Так мы говорим до густой темноты, до звезд. Остается лишь костер, такой незаметный днем и мохнатый, большой в ночи. Он вырывает из мрака пластовища скал, куски галечного берега, литую боковину воды и лодки и нас по очереди. Выхватит, поиграет и бросит. И память так же берет из прошлого, что ей понравится. К ночи воспоминания мрачней.








