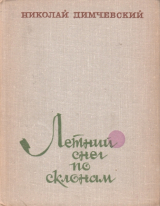
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
2
Тропы и дороги к тюменской нефти... Самая быстрая и прямая – по воздуху. Но посмотришь вниз, где поворачивается неохватный рыже-зеленый жернов болот, и ничего не остается от самолетного уюта...
Буровая на острове среди трясины. «Вот шест, – подает мастер, пригласивший прогуляться, – если провалитесь, пригодится...»
Мох по колено; колодцы черной воды; бороды лишайников, приросшие к худосочным сосенкам. Опираясь на шест, скачем по кочкам, прыгаем на рыжий островок – он прогибается, уходит из-под ног. Берег озера, вода вровень с берегами, дальние буровые отражаются в аспидной глади.
Чуть-чуть представляешь, как шли сюда первопроходцы, намечали, где тянуть лежневку. По их следу бревно к бревну укладывали на хляби, и протягивалась хоть и временная, но все ж твердая дорога. А шоссе тут строят так: вынимают торф до дна болота, получается траншея, в которую мог бы войти по крышу четырехэтажный дом, потом засыпают ее песком и уже поверху кладут бетонные плиты.
Кроме троп, лежневок и шоссе, нужна еще дорога поосновательней – железная. Видел ее начало – от Тюмени до Тобольска, и дальше прошел несколько километров по полотну, где рельсы еще не уложены. И мысленно рисовалась ее трасса на север, к Оби, где будет мост...
Слышал про этот мост и, едва добравшись до Сургута, на случайной машине махнул в поселок мостоотряда. Чистая беломошная тайга на песках. Порой кажется – между сосен – снег, так ярка белизна мхов, выстилающих невысокие увалы.
Палатки, вагончики, медово-желтые домики на поляне – старой гари, не заросшей лесом после древнего пожара. Осенние осины вспоминают его – листья, как пламя.
Теперь, когда пишу, – это уже история: первые подготовительные работы к строительству моста через Обь. Начальник мостоотряда, помнится, тогда посетовал на археологов, которые затягивают дело. Не сразу фраза его уложилась в голове. При чем тут археология?.. Сургут, Самотлор, Нижневартовский, железная дорога и... столь академическая ветвь науки. Оказалось, есть строгое правило – пока археологи не обследуют участок, нельзя начинать никакие работы. Здесь даже щитовые дома ставили с разрешения археологов...
Пустая комната в сборном доме; на полу – рюкзаки, спальные мешки. Небольшая лекция при свете свечного огарка.
Так получилось, что мост и дорога на нашем, правом, берегу Оби пройдут по древнейшему городищу... Свечку переносят в угол, где на поленьях лежит доска. Постепенно этот стол заполняется сокровищами: черепками, украшенными геометрическим орнаментом, каменными формами для литья, бронзовыми бляшками с изображениями зверей, отлитыми мастерами, жившими тут, предположительно, от двух тысяч до тысячи лет назад...
Странное, фантастическое чувство. Рукой, которой вчера трогал трубу, наполненную горячей самотлорской нефтью, берешь украшения, созданные неведомой цивилизацией, процветавшей здесь еще до возникновения государства Российского...
Потом, утром, совсем иными глазами смотришь вокруг. Оказывается, поляна, где поселок, вся сплошь усеяна неглубокими ямками – каждая вроде следа от большого таза, вмятого в песок; попадаются ямы и нескольких метров в диаметре, но все они устроены одинаково: круглые, с полого поднимающимися краями. Этих ям – сотни и тысячи на поляне и в окрестной тайге. Ученые не могли с уверенностью сказать, что это, предполагали ритуальные постройки. Открывшаяся культура была загадочна во всем – от времени возникновения до сущности обрядов и верований.
Бродя по тайге, мы часто натыкались потом на круглые ямки всюду. Раз увиденные, они узнавались без труда. И представлялись люди далекого племени, обжившего эти жестокие края, чудились неясные фигуры в оленьих малицах, тающие среди стволов вечерней тайги...
А сегодняшнюю историю делали мои новые знакомые. Мы вышли на берег и направились к барже-самоходке, снаряжавшейся на «ось моста» – тогда всего лишь мысленную линию, соединявшую берега...
Недавно по этому мосту прошел первый состав. Но в тот день будущий мост казался еще очень далеким. И запомнились люди, стоявшие у самого начала, и захотелось рассказать о них.
ОСЬ МОСТА И РАЗГОВОРЫ...
Пока шли от леса, видели только луг да штормистую ширь Оби. И даже не очень верили Микешину, что баржа тут, напротив. Не было ни тропинки, ни следа на траве – пусто, глухо кругом. Шли долго; принялся дождь, колюче ударил по спинам; тучу пронесло, солнце осветило пойму, река стала еще мутней и холодней, а они все шли...
Луг кончился неожиданно – его срезало обрывом. Баржа-самоходка стояла внизу, приткнувшись к узкой полосе песка. И сразу бросилось в глаза, что на палубе – детская коляска, верней, низ ее – рама с колесами без колыбельки. Сиротливо, бесприютно притулилась...
– Вот, собственно, мой дом, – несколько напыщенно сказал Микешин. – Прошу. – И заскользил по крутому спуску.
Там, внизу, он достал спрятанный в камнях багор; утопая штиблетами в мокром песке, зацепил и вытянул с носа баржи искусно скрытый конец веревки, а за него – узкую сходню.
– Видите ли, мера предосторожности – жена боится, чтоб не зашел кто-нибудь посторонний... Будто это не тайга, где все свои, а набережная в чужом городе. Женщина, одним словом. Приходится мириться, хоть ночью не очень удобно иной раз искать этот багор и конец... Но что поделаешь: мужская, как грится, доля...
Микешин прижал сходню ногой и подал руку Сидорину:
– Прошу, Степан Иваныч.
Сидорин, держась за доску и руку, с опаской устанавливал сапоги вдоль перекладин и карабкался наверх.
Пашин был ловчей, отвел шкиперскую руку и привычно в два шага очутился на палубе.
– Обратите внимание: содержу судно в полной чистоте. – Микешин толкнул коляску, поставил боком к поручням, чтоб незаметней. – На других баржах кавардак, грязь, а у меня все по-морскому: надстройка покрашена, палуба окачена, люки задраены. И это все в такой глуши, в тайге, когда иные и не помышляют об уставе службы...
– Ладно, ладно, – перебил его Пашин, – отчаливай, надо сегодня обернуться.
– Обернемся, Иван Петрович. Ось моста я знаю, как свои пять. Сейчас закручу машинку и проскочим в один момент. Прошу всех в рубку.
Он щелкнул дверцей и пропустил их вперед.
Позади штурвала стояла колыбелька от коляски; мокрая пеленка свешивалась на пол; резиновый заяц, пустышка, погремушка и целлулоидный кит разбросаны вокруг.
– Э-э-э-э... прошу извинить некоторый непорядок, – засуетился Микешин, сдвинул колыбельку в угол, туда же оттолкнул зайца и кита, пустышку сунул в карман.
Пашин поднял погремушку. Чудно и одиноко затрещала она в рубке. Он прислушался с какой-то странной полуулыбкой, с задумчивой отрешенностью и положил погремушку на столик для лоции. Потом глянул в окно.
По широкой протоке между островом и берегом несло острую злую волну. Пустая баржа отзывалась железным гулом. Ветер уныло выл наверху.
Пашин тихо вздохнул и обернулся.
– Запускай, запускай: времени же нет, не успеем до темноты.
– Иван Петрович, все будет в лучшем виде. На оси моста я – первый человек. Нет, серьезно, без похвальбы. Эта вот посудина, – он похлопал по переборке, – была здесь, когда еще и просеку не рубили. Сам Константин Палыч стоял вот, как вы, и показывал мне, куда рулить... Вышли на ось, он обнял меня и сказал: «Микешин, грит, исторический, грит, момент! Вот тут над Обью загремят составы!» Да я знаю эту ось, она у меня в печенках сидит, сто раз ходил, все начальство перевозил...
Пашин не слушал его, задумавшись о чем-то своем. Сидорин с любопытством осматривал рубку.
Шкипер снял пластиковый плащ, поправил капитанку и встал к штурвалу.
Что-то не заладилось у него – двигатель не включался. Сначала он не показывал вида, представляя, что все идет, как надо, потом стал суетиться, кружить по рубке, чертыхаться.
– Ну так идем или не идем? – проворчал Пашин.
– Дистанционное управление барахлит. Надо в машину спуститься.
Переставляя колыбельку, стоявшую на люке машинного отделения, Микешин прижал пеленку ногой, она выпала и протянулась по полу. Он скомкал пеленку и в сердцах хотел выбросить из рубки, но Пашин его удержал.
Открыли люк. Микешин спустился в холодную темноту, щелкал выключателем, чиркал спички, наконец, присвистнул:
– Мать честная... Аккумуляторы сели...
– Та-а-а-ак, – зло протянул Пашин. – Чего ж делать будем?
Шкипер вылез из люка и вдохновенно сказал:
– Иван Петрович, все в порядке! Это минутное дело. Тут на реке полно самоходок. Дам отмашку: «терплю бедствие». По морским законам никто не имеет права отказать. Подвалят, я протяну провод – это элементарно, – запущусь, и пошлепаем.
– Молодец! – зло сказал Пашин, посмотрел на часы, подвинул табуретку к столику, снял полевую сумку, достал какие-то бумаги и стал просматривать. Погремушка лежала среди листков, но он ее даже не отложил.
– Ей-богу, Иван Петрович, сейчас мигом... У меня аккумуляторы сели за лето первый раз. У других каждую неделю, а у меня первый раз. Верно вам говорю. Это какакая-то загадка природы. Как назло.
– Не мешай работать, я жду.
Микешин взял флаг и вышел на палубу; Сидорин за ним – покурить. Штормило все сильней. Микешин опустил ремешок капитанки под подбородок и, придерживая козырек, всматривался в суровый простор.
– А что, рыбешка тут еще водится? – сплюнул Сидорин за борт и неудачно – попал себе на плащ.
– Ого! Еще как водится! – ухватился за вопрос Микешин – ему страх как было тошно всматриваться в пустоту реки. – Вон там, за островом – если сеткой – в р‑р-р-раз возьмешь мешок! Переметом тоже хорошо. Некоторые самолов ставят, но я не уважаю. Лучше всего сеткой... Да, господи, я сам и редко ловлю, чего мне ловить? Привезу сверху мешок картошки – мне за картошку любой рыбак во рыбы даст! Чего с ней чикаться, ноги мочить, ревматизьм зарабатывать, верно?
– Это так, конечно, – уныло согласился Сидорин. – Но на спиннинг – это, скажу я вам, удовольствие!..
Тут за мыском показался буксирный катер – он шел далеко, по другой стороне протоки.
Микешин сорвался с места, взлетел на рубку и замахал бело-красным флагом – «терплю бедствие».
Катер по-прежнему спокойно шел вдоль острова. Может, не заметили?..
Вот он напротив. Видно, что из рубки выглядывает человек. Лица не разобрать, по смотрит явно сюда.
Шкипер расправил флаг, растянул руками, чтоб лучше было заметно издали, потом опять замахал и закричал, будто кто-то мог услышать через такой ветрище.
Катер, шел, не меняя курса, и скрылся за высоким берегом.
– Сволочь! Чтоб я тебе помог когда! Утони рядом с бортом – багор не протяну! Захлебываться станешь – плюну тебе в хлебалку, гад!
Микешин свертывал флаг и срывающимся голосом перебирал угрозы. Потом спрыгнул вниз, искоса заглянул в окно рубки. Инженер читал свои бумаги и, вероятно, не заметил неприятного происшествия с катером.
– А что, капитан, подбросили бы меня как-нибудь в воскресенье на рыбалку, – продолжал свою мысль Сидорин. Он вроде бы тоже не придал никакого значения случившемуся, и это подбодрило Микешина.
– Степан Иваныч! Об чем речь! Я, как пионер, всегда готов. Места знаю такие – закачаетесь. Сетка есть, шлюпка тоже – заведем за милую душу.
– Это, пожалуй, слишком. Я любитель спиннинга, удочек – так, понемножку, для развлечения.
– Думаете, рыбнадзор?! Да его тут слыхом не слыхано. Вон Обища-то какая! Лови чем хочешь, никто не увидит. Да сюда кит зайдет – поймаете, на уху изварите, и никто не заметит – все одно тайга кругом.
Микешин случайно глянул в окно рубки, встретился со взглядом инженера и подчеркнуто-резко отвернулся. Чего смотрит? Сам бы попробовал запустить машинку, когда аккумуляторы сели. Это тебе не «газик» – покрутил ручку и пошел.
– Так в это воскресенье, лады? – закреплял договор Сидорин.
– Как в аптеке! Микстура ваша – болезнь наша.
– Микстуру найдем, не простудитесь, – довольно потянулся Сидорин, сплюнул окурок за борт и снова попал себе на плащ.
Микешин подобрал окурок и ловким щелчком пустил по ветру.
С час ждали у моря погоды. Река была пустынна. Микешин слонялся по барже, не решаясь заглянуть в рубку. Это была пытка.
И вдруг из-за мыса выскочила самоходка – шла под берегом вверх по течению. На некоторое время у Микешина от радости отшибло всякое соображение. Он глядел на баржу и никак не мог увериться, что это не видение, а везение.
Наконец, кинулся в рубку, схватил мегафон.
– Алё, на барже!
Там из двери высунулась голова, и едва Микешин увидел эту голову, как истошно заорал – не надо и мегафона:
– Пахомыч! Кореш! Выручай!
Баржа свернула, пошла по заливчику. Застопорилась машина.
– Чево ты? – спросил Пахомыч, зевая.
– Дай прикурить, друг дорогой, век помнить буду!
– Тяни провод.
Микешин полез в машину. Баржа тем временем подвалила к левому борту.
– Чалку прими! – крикнул Пахомыч Сидорину.
Тот схватил канат, засуетился, не зная, что делать дальше.
– За кнехт вяжи! – орал Пахомыч.
Сидорин совсем растерялся, его тянуло вдоль борта вслед за баржей.
Пашин выскочил из рубки, вырвал чалку из рук Степана Иваныча, захлестнул за кнехт, подождал, отпуская понемногу, подтянул, потом закрепил – все молча – и ушел назад в рубку, где опять занялся бумагами.
С кормы из иллюминатора высунулась рука с проводом. Пахомыч свесился через борт, поймал конец, потянул к себе в машину.
Вскоре запустили двигатель, распрощались со спасителем и собрались в путь.
– Я ж говорил: помочь никто не откажет. У нас на реке железная организация. – Микешин поправил капитанку, осмотрел свой китель. – А видели, какая баржа у Пахомыча? Смех. Рубка ржавая, не крашена с прошлой навигации, на палубе опилки, хлам. И у самого видик: не проспавшийся, обросший, тельник рваный...
Тут вышли из-под берега, и резанул такой ветер, что баржа оторопело приостановилась, а потом завалилась на левый борт и, как норовистая кобылица, потянула, закусив удила.
Микешин остервенело закрутил штурвал – боялся напороться на песчаную косу. Он побледнел, губы пересохли, нос и подбородок вытянулись вперед.
Глядя на него, Сидорин несколько перетрухнул и шарил глазами по рубке: где-то должны лежать спасательные жилеты. Наверное, в этом рундуке у задней переборки... Больше вроде бы негде... Черт дернул в такую погоду ехать на ось моста! Можно бы и завтра, и еще позже... Пашину не терпится, а ему-то зачем лезть в пекло? Дело у него не спешное, и вообще к оси можно подойти по берегу... Действительно, как не додумался – в хороший день пройтись по лесу, по лугам – одно удовольствие... «Спиннинг, удочки, – издевался над собой Сидорин, – детская забава... И на берегу договорился бы с этим чудаком Микешиным, зачем было тащиться сюда в дождь... Нет, как же – надо составить компанию Пашину! Подхалим несчастный!» Сидорин назвал себя еще размазней и вовсе расстроился.
Над косой плясали белые гребешки. Баржу тянуло к самому острию переката. Корпус гремел теперь, как пустая железная бочка, скачущая под уклон.
Пашин оторвался от бумаг, смотрел на реку и словно бы ничего не видел – куда-то дальше убегал взгляд. Он один здесь был непричастен к происходящему. Или привык ко всему? Или так занят мыслями, что не замечает окружающего?
Погремушка на столе чуть слышно тараторила в такт машине и волнам, и он не убирал ее. Она как-то прижилась тут, среди бумаг и карт. Он иногда посматривал на нее, и тогда лицо его совсем застывало, делалось каменным, лишенным всякого выражения.
Шкипер, надсадно дыша, выкручивал штурвал: выжал все обороты из машины, и теперь надежда была только на резкий маневр.
Будто назло, именно тут, в самом опасном месте, хлестанул этот шквал! Буруны над косой метались совсем рядом, и баржу несло к ним. И эти минуты тянулись нескончаемо. Белая полоса кипени бурлила чуть левей носа, и баржа стояла, раздумывая, врезаться сейчас или мгновеньем позже... Видеть такую нерешительность было выше сил.
Сидорин отвернулся от окна, он не мог больше смотреть ни на реку, ни на шкипера, ни на Пашина, который совсем одеревенел.
И тогда раздался странный, нелепый, словно бы пришедший из иного мира звук. В первый миг невозможно было понять, что это и откуда.
Заплакал ребенок, заплакал сразу надрывно, на самой высокой ноте, будто ему зажимали рот, а потом отпустили. Крик был громче ветра, сильней железного звона бортов и дрожи двигателя. Ребенок плакал за переборкой в каюте, и голос его легко прошивал насквозь железо и дерево.
Пашин обернулся, лицо передернулось, он сдержал какие-то слова, поерзал на табурете, уперся локтями в стол и сжал голову.
Самоходка вытащила нос за буруны, потом коса пошла мимо борта. Когда пена осталась за кормой, шквал, как и положено по закону подлости, ослаб, подул обычный, ровный, напористый ветер. Пронесло!
Плач перестал, как выключился на той же высокой ноте.
– Это надо же: чудо природы! В дышло ее, в бога... – радостно выругался Микешин.
Он сразу оживился, нос и подбородок вернулись на прежнее место. Оставив левую руку на штурвале, правой он полез в карман за папиросами, зацепился за подкладку, рванул. Пустышка вывалилась на пол. Не замечая, он наступил. Чуть слышно хрустнуло колечко.
– Началось с небольшого приключения, – сказал он игриво. – Ну что ж, это дело перекурим как-нибудь. – Сдвинул капитанку на затылок, прижал штурвал грудью и зажег спичку. – В нашей жизни, как грится, всякое бывает – надо только уметь вырулить. А чтобы вырулить, надо что? – Микешин прикурил, затянулся и сам себе ответил: – Морское чутье. Клянусь: был бы на моем месте Пахомыч – загорали бы мы на мели. Да! Он ветра не понимает. Сейчас раскрыл бы лоцию и стал пальцем мусолить, где проход между косой и берегом? А я реку печенкой чую, мне ветер – брат. У меня лоция вот – на папиросах напечатана: «Беломорканал». Гляжу на пачку и вижу: ага – тут Балтийское море, тут Обь, вот и наша протока... и знаю, куда идти. Конечно, шутка. Я эти места знаю наизусть.
Пашин выпрямился, мельком посмотрел на реку и опять занялся своим.
Сидорин с облегчением шагнул к окну и наступил на резинового зайца, тот пискнул, он отодвинул игрушку ногой к сторонке.
– Сколько тут до оси ходу? – спросил Пашин, не отрываясь от карты.
– Да вот она, ось – под боком, вот за островом по излучине, через пески. Покажу в лучшем...
– Степан Иванович, – перебил его Пашин, обращаясь к Сидорину, – приглядитесь к правому берегу – там будем ставить земснаряд, это по вашей части. – И Микешину: – Как близко можно подойти к пескам с реки?
– Да хоть высажу вас на них, я тут все подходы знаю, я...
– Все подходы не нужны. С северной стороны можно подойти? Вот здесь, – Пашин поднял карту и показал место.
– Здесь нельзя, надо к коренному берегу пристать и оттуда пешком с полкилометра.
– Так... – Пашин повертел карандаш, посмотрел на часы. – Что, Степан Иваныч, сходим?
– Конечно, конечно, – кисловато согласился Сидорин.
Возвращались уже под вечер. Шторм стихал. Пашин стоял на носу и осматривал берег. Настроение у него, видно, так и не исправилось. Микешин волей-неволей смотрел на него и эту его нелюдимость толковал на свой счет, понимая, что промашки не забыты.
Уставший Сидорин снял мокрый плащ, сидел в рубке у столика и вертел в руках погремушку. Он отдыхал и радовался, что все кончается благополучно.
– Притомились, Степан Иваныч?
Тот в ответ только вздохнул.
Микешин сочувственно закивал. Ему хотелось сказать еще что-то очень приятное для своего спутника. Сидорин видел: он так и порывается, но почему-то сдерживается, и эта сдержанность противоречила всей его натуре, и, видно, ему было очень трудно. Микешин топтался около штурвала, не находил места, принимался что-то насвистывать, напевать и осекался, наткнувшись взглядом на Пашина, который, закинув голову, строго и сосредоточенно разглядывал правобережье.
Наконец Микешин не стерпел.
– Степан Иваныч, вот какое дело... Не попросите ли начальника постоять у штурвала две минуты. Я только рыбки принесу. Хочется вас угостить. У меня муксун соленый, очень вкусный. Позовите его, скажите – перекусить, мол, а я уж сам договорюсь.
Сидорин встрепенулся:
– Конечно, сейчас же позову. – Вышел из рубки, постоял рядом с Пашиным, сказал что-то. Пашин обернулся, и жесткая сосредоточенность на его лице сменилась улыбкой.
Настороженно следивший за ним Микешин облегченно опустил плечи. Он был почему-то уверен, что начальник отвергнет его хлебосольство и это будет означать, что он не собирается забывать неполадки на барже, и кто знает, чем это может запахнуть впоследствии... А поскольку он к угощению отнесся одобрительно, – иначе не улыбался бы, – значит, у Микешина появляется небольшой, но козырь.
Панин шагнул в рубку, и было заметно, что он в ожидании, хоть ничего прямо и не говорит. И Микешин без обиняков к нему обратился:
– Иван Петрович, подержите колесо. Хочу вас рыбкой угостить. Недавнего посола муксун. Один рыбак для себя готовил, мне по дружбе отдал. Такого муксуна вы нигде не попробуете!
– Чего ж ты молчал! – весело сказал Пашин. – Неси его сюда – проголодались, как черти! Давай штурвал.
– Тут по бакенам дорога хорошая...
– Неси, неси муксуна, – нетерпеливо перебил его Пашин, вставая к штурвалу.
Баржа даже не почуяла смены рулевого – продолжала пороть мелкие, стихающие к вечеру волны. Обь здесь была непомерно широкой, и остров у протоки, к которой шли, виднелся зеленой кочкой с краю мутно-белесой водяной равнины.
Микешин хлопнул дверью и побежал на нос, сунул голову под брезент, развязал там что-то, покопался, опять укрыл, увязал и бегом промчался мимо рубки с большой рыбиной в руках.
– По такой погоде да с устатку не мешало бы и по баночке... – мечтательно сказал Сидорин.
Пашин проглотил голодную слюну:
– Не подзадоривайте, Степан Иванович.
На этой шири казалось, что баржа стоит – берега виднелись зелеными полосками, даль развертывалась до горизонта. Но Пашин чувствовал, как упорно пробивается она через неохватность реки – штурвал упруго жало к ладоням, бортовой ветер напористо сносил ее правей бакена, и приходилось постоянно выправлять курс.
Грохнула дверь, появился улыбающийся шкипер. В руках глубокая миска с горой сочащихся жиром кусков. Они грубо, наспех напаханы ножом вместе с чешуей и от этого выглядят еще аппетитней.
– Вот, как грится, скромное угощенье. Чем богаты, тем и рады. Конечно, к такой закуске надо бы пузырек чего покрепче, но... – Микешин горестно схватился за подбородок, – извините, нет даже хлеба…
Не слушая ненужных извинений, Сидорин и Пашин взяли из миски по куску и впились в сочную мякоть.
Продолжая левой рукой держать штурвал, правой и зубами Пашин расправлялся с рыбой. В голодном увлечении ему как-то не приходило в голову передать штурвал хозяину. Только сейчас он понял, насколько проголодался, и удивился, что, совсем не расчитывая на угощение, ничего не взял из лагеря. Хлеба-то мог бы прихватить...
А шкипер, столь удачно выполнив свой замысел, что-то скис. Присев на корточки у колыбельки, вяло чистил большой кусок; он словно бы забыл про штурвал и не замечал, как трудно Пашину одной рукой вести баржу. Оторвал зубами чуток, пожевал, отложил рыбу, стал вздыхать, глядя в пол. И начал изливать душу.
– Попросил у жены каши вместо хлеба – прогнала. Разговаривать не хочет. А чего я сделал? Пришли из рейса, привез рыбы этой. Надо же людей угостить? Пошел в отряд – тому, другому... Вы еще не прилетели – и вас бы угостил. Ну, а под рыбу, сами знаете, – с тем поговори, с другим выпей по маленькой. Не успел оглянуться, ночь настала, дождь припустил. Чего тащиться через тайгу в непогоду? Верно ведь? Ну, утром и пришел. Жене ведь тут полная безопасность – сами видели: трап на борту, кругом ни души. Чего бояться-то? Нет, испилила всего: «почему дома не ночевал?» Если б я по бабам ходил, а то ведь по делу – нужных людей угостить. И вот тебе. Прогнала. Два дня прошло, все гонит, не забывает и не прощает. И сейчас у себя в дому не могу принять дорогих гостей. Сижу на полу – ни тарелки, ни вилки... А в каюте все есть, даже рюмочки хрустальные, хоть и нечего в них налить. Это порядок между супругами? Я не говорю о бутылке. Чего уж – каши попросил для гостей, не для себя, и той не дала. Вот утром пойдем в поселок, припру хлеба для всего отряда – ешь, не хочу. Сейчас нет хлеба, верно. Так дай каши...
Он долго еще мусолил эту тему. Пашин и Сидорин слушали его, молча глотая необыкновенно вкусную, хоть и слегка пересоленную рыбу.
Съев первый кусок, Пашин сообразил все же передать штурвал шкиперу и с остервенением принялся за второй. Хлеба, конечно, не хватало, но рыба была несравненна. А то, что нет хлеба здесь, на барже у Микешина, воспринималось теперь как нечто вполне естественное. Спутники уже привыкали к здешним нелепостям. Так и до́лжно: если надо в рейс – аккумуляторы сели, если появилась деликатесная рыба – хлеба просто не может существовать.
Насытившись и съев еще сверх сил, Пашин и Сидорин отдыхали, молча, наслаждаясь покоем, теплом и чувством выполненной работы.
Правда, Сидорин вскоре захотел пить. Шкипер кивнул на ведро, стоявшее у трюма, и объяснил, что воду нужно зачерпнуть из-за борта. Кружка у жены в каюте, но туда лучше не заглядывать, поэтому посоветовал пить прямо из ведра.
Сидорин ушел на корму, поближе к воде и долго не возвращался.
Пашин вытирал руки вырванным из блокнота листком. Он опять задумался, замкнулся. Берег и бумаги его больше не интересовали, он смотрел в окно безразличным взглядом, обдумывая что-то глубинное, нелегкое. И даже Микешин не решался с ним заговорить.
И когда в тишине прозвучал вдруг голос Ивана Петровича, шкипер, не поняв еще, о чем речь, несколько перетрухнул. Пашин заговорил, ни к кому не обращаясь, словно бы с самим собой.
– ...Не умеем ценить жизнь. Не умеем. Сегодняшнюю, каждый день, этот вот миг... – Он быстро взглянул на Микешина, увидел недоумение на его лице и продолжал уже понятнее: – Вот сейчас в каюте, рядом – твоя жена, ребенок, здесь – игрушки... Это ж самое дорогое, что случается в жизни, – быть так вот вместе, всей семьей... Баржа, тайга, неудобства... Ничего – вместе ведь, вместе вы. Понимаешь? Погремушка, заяц... И голосок этот... – Пашин помолчал, скомкал бумажку, поискал, куда бросить и сунул в карман. – У тебя кто, мальчик или девочка?
– Девочка, – сдавленно ответил шкипер. Он не ожидал такого разговора и чувствовал себя неуверенно, и побаивался.
Пашин вздохнул, обхватил коленку руками, покачался на табуретке.
– Знаешь, что я тебе скажу? Молод ты для ребенка, не выстрадал его. Недостоин еще ты его – вот и получается ералаш.
Иван Петрович пристально и строго посмотрел на Микешина, потом тихо усмехнулся:
– Хотя что значит: «достоин», «недостоин»? Кто это определит? Все не то... Я о себе говорю. – Он повернулся к шкиперу. – У меня вот не было и не будет детей. Никогда не будет. Никогда. Ты не поймешь, что это значит – и очень хорошо, что не поймешь – я это не тебе говорю, а для себя. – Пашин помолчал. – Это значит... это значит в чем-то очень важном умереть еще при жизни. Это – жить без будущего. А жить без будущего – все равно что с каждым днем умирать... Кто растит ребенка, тот все глубже уходит в будущее, а человек вроде меня – просто близится к концу и в последний свой день исчезнет без следа, испарится напрочь с земли, не останется от него ни крошки... – Он болезненно поморщился и отвернулся и продолжал говорить: – Конечно, можно находить утешение: вот после меня останется мост. Верно, останется. Мост простоит сто лет. А я все равно слышу, как уходят годы и сгладывают меня, и внутри все больше пустоты, все меньше земной тяжести, корней, слабею, слабею... Тоска эта... Невозможность заглянуть в глаза, которые, когда тебя не станет, посмотрят на твой мост... Мы ведь не для себя уже строим – для них. Это твоя дочка будет ездить через Обь – ей строим, ей, Микешин. И я ей строю, и другим – не себе... Но как хочется, чтоб и моя частичка живого осталась на земле! Если б я знал, что мой сын хоть раз проедет по этому мосту – мне больше ничего б не надо. Я бы как игрушку его строил... Я бы весело, празднично бы... Как мне хотелось ребенка, Микешин, не представляешь. Не повезло в жизни. Вроде бы просто – родить. Сколько людей не чают, как избавиться. А тут: нет тебе – и конец, и живи один. Страшно одному, Микешин. Человек без ребенка – один. Женат, не женат – все равно один. С женой без детей – одиночество, бессмыслица. Видеть не могу бездетных, которые воркуют с супругой! Что-то в них отталкивающее, не знаю что, но что-то жалкое, фальшивое, ненужное что-то, бутафорское – вроде торта, слепленного из папье-маше... Дом, достаток, обстановка, машина – все пустышка, если нет детей. Я боюсь бесплодных женщин. То есть тех, что сами себя обесплодили. Они мне кажутся мертвыми куклами. Чем красивей и эффектней, тем больше мертвого и кукольного... Законный брак с такой куклой и есть разврат.
...Это все с годами приходит, накапливается и понимается, когда уже поздно, когда всё... Я вот на пенсию уйду... Со страхом об этом думаю – не за горами ведь. Один останусь. Всю жизнь строил мосты, но ведь с мостами на старости лет жить не станешь.
Пашин говорил невнятно, запинаясь, не разбирая слов, говорил для себя, выговаривался, пользуясь неожиданно подвернувшимся случаем. Он понимал, что слишком откровенен и что, может быть, не надо откровенничать о таком больном и тягостном, и все-таки говорил. И потом спохватился, что говорит не только себе, но и Микешину, и надо яснее для него определить свое отношение.
– Я тебя не сужу. Как живется, живи. Только помни: хватишься когда-нибудь, да будет поздно. Это я тебе от сердца говорю. О жене заботься, не обижай, прощай, даже если кажется, что не можешь простить. Она сейчас не для себя живет и не для тебя – она для дочери живет... Хлеба не принес... Есть же в отряде хлеб, неужто не мог взять? Кто бы тебе отказал?
Микешин мялся, с излишней внимательностью вглядываясь вдаль.
– Как-то позабыл, Иван Петрович... – нехотя ответил он. Но тут же переменил тон и заговорил напористей: – Только жену я не обижаю. Она сама обижается. Как дочка родилась, такая обидчивая стала, ну невозможно. Когда гуляли, девушка была что надо. Мне все ребята завидовали. Идем по городу, бывало, – все оглядываются, только на нас и смотрят. Веселая была, одевалась по-модному. А как родила – обрезало... Ворчит, пилит: то не так, это не этак, «на барже боюсь», «хлеба нет»! Так ведь жила на барже раньше-то со мной, когда миловались-целовались, и очень нравилось, и ничего не боялась. Бывало, запру в каюте – сам за продуктами – сидела по целому дню, ничего. А теперь все плохо: и я плох, и баржа плоха. Хлеба вот нет, и вы меня ругаете. Так что ж – не нарочно ведь. Не принес, виноват. Признаю, что виноват. Завтра будет свежий хлеб – оставлю ей целый мешок нарочно, чтоб не было разговору. Это ж разве вопрос? Зато рыбы кто достал? Картошки кто достал? Ящик сгущенки кто достал? Это все не в счет. Этого вовсе вроде бы и нет. Сварила каши и ест, как несчастная, запивает сливками, плачет... Меня ругает...








