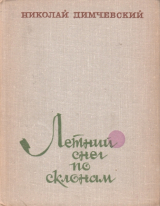
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
За угощеньем растворилась, отошла поначальная скованность. Тетя Поля и Николай Михалыч свободней, проще стали к Мите, вернулась к ним всегдашняя простота, откровенность в обращении. Природная их искренность взяла свое, и отступило, ушло все, что смущало и занозило Митю.
Вспоминали былое – разное, что придется. И во всем, даже в веселом, сквозила едва уловимая грусть, сладкой болью входившая в грудь.
И словно издалека, из детства звучал голос Николая Михалыча.
– ...Вы, значит, Дмитрий Сергеич, сидите тут – кушаете картошку с моими ребятами. А я в окно вижу: вышла Семеновна, ваша мама, собирается вас кликнуть, да не видит – нигде вас нет. Я – на крыльцо. Машу ей: подойди, мол. Подошла. Спрашиваю ее: «Семеновна, чего ж ты свово малова до сыти не кормишь? Голодный, грю, он у тебя ходит». – «Как, грит, не кормлю? Он же ток пообедал». – «А ты погляди-ко: вон как он с моими ребятами картошку наворачивает – ток за ушами трещит». Провел ее в сени да в дверь указал потихоньку. А вы, Дмитрий Сергеич, спиной к двери сидели, как нынче вот, и не видели ее. Ну, посмеялись мы – оголодал, выходит, малый – после домашнего обеда надо к нам посылать, чтоб наедался досыти. Теперь вспоминаем с ней всякий раз...
Пустяковины такие выплывали из прошлого, неторопливо наслаивались одна на другую, принося отраду и успокоенье.
Недавнее военное, горькое и грозное, не рассыпалось еще на такие же притчи и случаи, оно лежало глыбой, которую надо брать всю разом или вовсе не трогать. Наверное, поэтому разговор о недавнем угасал, не успевая начаться.
Митя знал, что Федор был танкистом. Больше ничего не знал. И вот спросил было его о войне. Тот вздохнул, посмотрел на друга с невыразимостью, сжал стакан, легонько постукивал им по столу. Мол, что было – было, как тут расскажешь? И все ж неумело, сбивчиво попробовал. Вспомнил вдруг кадушки во дворе, когда Русак задвинул их ушатом. В танке, сказал, вроде того случалось. Задвинут наглухо ты. И танк горит, и сдвинуть крышку никто не придет. И кругом огонь – земля горит. И кто рядом – все погибли. И на душе испуг, как тогда в кадушках. Похоже. И понимаешь: спастись должен сам. И открываешь люк, из железного костра вываливаешься в огненную пургу... Это все слова не те. Тут сказать нельзя. Если только сам побывал...
И такое везение выпало Федору – ни разу не царапнуло его, не ранило, не ушибло. Прошел от Курской дуги до Праги. В четырех танках горел и выходил невредим, и товарищей выносил, когда оставались живы.
Вот и все. Ничего больше о войне Федор не рассказывал. И орденов никогда не надевал, ни по каким праздникам. И ничего от военного в нем не было. Даже удивительно, что он расшибал немецкие танки и дошел до Праги.
8
После той встречи Митя изредка наведывался в село к тетке, которая, схоронив деда, жила одна в большом пустом доме. С Федором виделись все скупей и мимолетней. Тот был так занят шоферским своим делом, колесной жизнью разъездной, что не оставалось его на встречи и разговоры.
Отрывочно помнился летний день. Митя шел со станции налегке, с одним портфелем (взял кое-какую работу и угощенья для тетки). Издали еще, из-за речки заметил, что соседский дом разобран – лежит там гора бревен, кирпича и железа. В те годы люди только начали приходить в себя после войны, строились еще немногие, поэтому всякая новостройка была событием. И Митя порадовался, что такое событие случилось у соседей.
На улице его обогнал грузовик с прицепом, груженный бревнами. Когда Митя подошел, Федор уже поставил машину, куда надо, и выпрыгнул из кабины. Был он запыленный – брови словно в муке и с рубахи осыпалось. Отряхнулся, шагнул навстречу, оглядывая друга и улыбаясь.
– Здорово, Димитрий. Все в очках ходишь? Да вот хочу отцу дом переложить: венцы сменить, фундамент поставить настоящий вместо завалины. Ну, и попросторней чтоб...
Осенью из письма тетки Митя узнал, что Федор женился. Потом несколько лет не приезжал в село. А когда приехал, увидел на пустыре, рядом с домом Николая Михалыча, новый сруб.
Федор помогал плотникам ставить стропила.
– Вот, Димитрий, своим углом обзавожусь! – радостно крикнул он сверху, не оставляя топора.
Был он чудной, пестрый: лицо, шея и кисти пропечены загаром, а грудь и руки ярко-белые. Он точно в перчатках и маске. Плотники, тоже голые по пояс – черней негров, а Федор – снятое молоко. Митя вспомнил, что он и в детстве никогда не загорал – считалось зазорным ходить без рубахи. Видно, сильно увлекла его работа, коль скинул одёжу.
Митя смотрел, как ловко и споро подгоняет Федор стропило, как дельно, коротко говорит с плотниками, и вдруг с болью почувствовал свою жизнь худосочной, бледной, отрешенной от простых ощутимых забот. И собственная работа – диссертация, статьи, брошюра – показалась тут чем-то посторонним, далеким и странным. Затосковалось по такому вот вескому делу, пахнущему смолой, потом, требующему бугристых мышц, хватких пальцев, ножевого глаза...
И, помнится, тогда же, сгоряча, Митя вызвался помочь. Постучал немного топором, почувствовал боль в сердце и оставил...
Не скоро он увидел, какой получился дом. А как увидел – не мог пройти мимо. Пожалуй, красивей на улице испокон века не строились. Резные наличники сделал Федор, резное кружево по карнизу, конская голова на коньке крыши. Но больше всего тронуло Митю крыльцо. Такое же точно крыльцо, как у старого отцовского дома. Федор не стал городить веранду (сейчас у всех обязательно застекленные веранды. И у Николая Михалыча тоже). Он построил высокое крыльцо. И столбы по рисунку такие же, как когда-то. И перила, и барьерчик с узорчатыми пропилами, и широкие ступеньки... Даже плоский розоватый камень, лежавший у отцовского крыльца, Федор перенес сюда.
Митя взялся за столбы и представил, как мальчишка встает босыми ногами на перильце, лезет под самую крышу и видит оттуда Селезнёво.
Был вечер. Окна светились изнутри блеклым телевизорным светом. В темных сенях Митя нащупал дверь и постучал. Женский голос крикнул, пересиливая приемник: «Заходите!»
Миновав прихожую, Митя отстранил плюшевую портьеру и заглянул в горницу. У телевизора спиной к двери сидела большая женщина с квадратными плечами и косой, уложенной на затылке. Коса при такой фигуре казалась неуместной. Рядом с женщиной – плотный паренек лет шестнадцати. Не отрываясь, они смотрели на экран, где разведчик в кожане эсэсовца ловко выдавал себя за кого хотел.
– Федор дома? – спросил Митя и понял, что сказал слишком тихо – женщина не расслышала и не обернулась.
– Дома Федор Николаич? – крикнул он, чувствуя раздражение и непонятно почему возникшую неприязнь к этой женщине, которую никогда не видел в лицо.
Ответили не сразу – момент был слишком драматичный: разведчик, сопровождаемый музыкой, сотрясавшей окна, вскрывал сейф под носом у генерала.
– Черти его носят! Нету его! – закричала, наконец, хозяйка, так и не обернувшись.
В стекле серванта дрожал призрачный свет, отчеркивая силуэты двух спин, сквозь которые виднелись чашки, рюмки, бумажные цветы...
Митя прикрыл дверь, постоял на крыльце, пересиливая обиду, прислушиваясь к стрельбе и взрывам, доносившимся из избы.
На улице его тихонько окликнули. Николай Михалыч стоял у калитки. В черной рубахе, заросший щетиной, он почти сливался с вечерним сумраком. Здороваясь, как-то странно всхлипнул, глотнул воздух, отвернулся и сказал сдавленно:
– Зашел бы, Сергеич...
По кромешной тьме сеней ощупью пробрались в кухню. Он зажег свет, нагнулся к шкафчику, достал початую поллитровку, стаканчики, коробку консервов.
– Не подумай, что я пьяный, Сергеич... Так, немного выпимши... Тяжело на душе за Федора мово... Сказать не могу... – Сдержал всхлип, нашарил на полке луковицу. – Погибает малый... – Дрожащей рукой очистил кожуру, вздохнул и уже спокойней продолжал: – Со стороны поглядеть – всего вдосталь: дом новый, обстановка городская, телевизор, сад, корова... А жизни нет ему... Одно мученье... И все из-за жены... Попаласъ... туды ее... – У него опять перехватило дыхание.
– ...Раньше говорили: кулацкая жила. Во! По-другому не скажешь... И как у них получилось – не пойму... В придорожной чайной нашел ее – была буфетчицей. Приглянулась ему... А может, он ей. Не знаю. Не замужняя она с сыном. Федор, конечно, ее сына сразу усыновил. Он такой – делать, так делать до конца... Дом наш перестроил – ты знаешь. Ну, пока у нас жили, вроде бы ничего она: и по хозяйству, и щи там, и капусты заквасить... И малый ее вроде уважительный... Жадна, правда, это сразу видать – прижимистая баба. Дружков его быстро отвадила. Всякую копейку – в счет, копила на дом. Чего ж – свой-то дом дело хорошее. Можно лишний раз и без вина обойтись, будь оно неладно. Мы с матерью жадность ее прощали – для дома чего ж не поприжаться.
Ну, а построили, переехали в новую избу – как подменили бабу. Почуяла себя хозяйкой. И ты послушай меня, Сергеич, Федор ей стал вроде батрака. Давай-давай, вези, купляй. Все ей мало – еще вези, еще давай. Он сначала не разобрал – думал, для семьи чего ж не заработать, что не привезти. А после видит: нет. Сам-то остается вроде и ни при чем. В праздник не погуляй, друзей не пригласи, только давай-давай. Для чего ж тогда новый дом? Убранство зачем? Спину-то гнуть для чего? Ну, скажи, Сергеич?.. Мы-то, мать родная и я, отец, перестали к ним ходить, хоть рядом живем. Душа не лежит ее видеть. Да и приглашенья, по правде сказать, не было от нее никакого.
И за Федора исстрадались. Сам посуди, Сергеич, из поездки вернется ночью, холодных щей похлебает да спать в чулан. К себе пускать перестала. И это жись, Сергеич, в своем новом-то дому, на своем горбу построенном?..
Он разлил еще по стаканчику. Руки тряслись, голос срывался на шепот. Хотел закурить – спички ломались, папироска разлезлась – кинул под стол, махом выпил водку.
– Об этом, Сергеич, никому ни-ни-ни, конешно... Одному тебе говорю по-соседски и по старой памяти... – Николай Михалыч все-таки закурил, отмахнул дым к окну. – Так, Сергеич, его эта жись скрутила – почти от дома отказался. Почитай и не бывает дома вовсе. По неделям в поездках. Пить стал сильно. Всегда пьяный приходит.
Опустил голову, всхлипнул, жевал погасшую папироску, глядя в угол.
– ...Тут и говорить не могу... Ты вот, Сергеич, ученый человек, можешь понять такую жись: она его вместе с малым своим, с Федоровым сыном, усыновленным по закону, стала бить, избивать стала... Понимаешь, Сергеич, стала бить мово Федора...
Он запнулся, чиркнул спичку, но жеваная папироска не раскуривалась.
– ...Федор с поездки всегда пьяный, слабый. А она что кобыла с пащенком своим. И бьют его, Федора-то, твово друга детства-то... Во как... Первый раз избили осенью, вытолкали под дождь. Вроде сам он затеял драку – спьяну, мол. Он ко мне пришел. Подрались, говорит. Не скажет ведь, что избила баба с пасынком: неудобно ему, мужику-то. Я и не подумал тогда, первый раз-то. А ему каково: пожалиться не пожалишься и пожалеть никто не пожалеет. Во как.
А после зачастили бить его... Ну скажи, какая в том радость – избивать слабого человека? Злодейство одно, неуваженье и дикость. Волчица и та волка не грызет. С синяками стал ходить. Я скоро все понял. К себе его зову. Он из поездки потихоньку – к нам ночевать. Да не вышло. Она с парнем приходит – волочет Федора домой. Он пьяный, слабый всякий раз, бьют его чем попадя. Сначала втихомолку били. Потом разошлись – на всю улицу орет: «Убью!» Во как – убью. За что? Что полну избу добра ей навез? За что, Сергеич, убивать-то его? Его немцы, фашисты проклятые, и то не убили, а тут жена: убью да убью...
Ни один мужик не стерпел бы такого позору. А Федор терпел. Рука не поднималась на женщину. И мне говорил: «опомнится», говорит... Жди, опомнится... Не нужон он ей. Набрала добра, и не нужон стал.
Дак вот слушай, Сергеич, как дале было. Написала она заявление в милицию. Жалится – муж, мол, ее избивает и сулит, мол, убить. Во как вывернула! Это надо ж, Сергеич, такое придумать! Вызвали Федора в район, к начальнику милиции, стали расспрашивать. А он слова не может сказать. Язык не ворочается от обиды, от стыда. Благо милиционеры все почти из нашего села, все знали его, как мы с тобой. Стали за него рассказывать. Федор только поддакивал. Так милиционеры хором начальнику и рассказали эту историю.
А начальник слушал, слушал, заявление кинул и давай Федора-то ругать. «Как же ты, танкист, грит, «тигров» подбивал, из огня выходил, а с бабой, грит, не справишься! Это, грит, ты, значит, должен мне на нее жаловаться, я тебя должен от нее спасать? Ну, пиши, грит, ты теперь на нее заявление – вызовем, разбираться станем, кто с кем у печки не поладил».
Вернулся Федор из района, и с тех пор у них тихо. Драться она перестала. А живут плохо, Сергеич. И разве после всего будет согласие?.. Врозь пошла жись – назад не поворотишь... Для чужих он дом построил и добра навез не для себя... Я так думаю: сгубить она его хочет, чтоб себе все прибрать. Кулацкая жила и есть кулацкая жила.
9
Федора Митя встретил лишь через год, осенью. Вдоль улицы напористо бил ветер, обдирая с ветел последние листья. Посеревшие от недавних дождей дома прижались к земле. В опустевших палисадниках тоще и бесприютно топорщились ветки.
Федор стоял у колодца, ждал, когда подойдет Митя. Даже издали было видно, что он постарел, ссутулился, плечи опустились. Одинокая фигура его на пустой улице вызывала тревожную жалость. От одного вида цинковых ведер, полных ледяной воды, бросало в озноб. Казалось, никакое тепло не сможет согреть в этой резкой синеве, продутой северным ветром. Чем ближе подходил Митя, тем острей становилась жалость. Грудь перехватывало от необъяснимой безнадежности, вызванной даже не видом Федора, а всей этой осенней картиной, последним днем перед обложными облаками, продолжением дождей и скорыми заморозками.
Да, Федор постарел. Тогда, после фронта, морщины не старили его – в них отложилась трудность пережитого – и только. Нерастраченные силы брали верх, и морщины замечались как что-то незначительное. Тогда лицо его полнилось желанием жить. Сейчас оно стало другим. Виной была даже не седина, обильно проступившая на висках, – самое выражение стало скорбным. Усталая мудрость затопила глаза. И улыбка сделалась такой, словно губы растягивались через силу. Ничего в ней не осталось от всегдашней доброй, неумелой какой-то его улыбки. И шутка его всегдашняя показалась усталой.
– Все в очках ходишь, Димитрий... – И добавил, запахивая полушубок: – Что-то нынче холода наступили рано...
Разговор не вязался. Федор как будто и хотел поговорить, да слово не шло. Это было мучительно. Митя тоже не знал, с чего начать. Ворошить тяжелое, что слышал от Николая Михалыча, не хотелось, радоваться тоже особенно было нечему... Хотя где-то в глубине зажегся фитилек давнишнего тепла. Еще мгновенье назад Митя не знал, что он зажжется, а он зажегся. И в груди поплыли даже не образы прошлого – какие-то смутные отражения, словно встрепенулась память чувств. Мелькнула радость ясного утра, беззаботности, смущение и тонкая сладость от впервые понятой поэзии, замирание сердца от высоты и далей, от первого зова пространств. Все это ожило вместе, разом, повернулось большим и теплым клубком. И все это не вязалось с огрузшей фигурой человека, стоявшего рядом. А ведь в сущности все было совсем недавно...
Странно, что за эти годы Митя не почувствовал себя пожилым, не устал от жизни. Больше того, ему часто казалось, что жизнь лишь начинается, что сделаны только первые шаги, что впереди еще много-много лет. Встречи, как сегодняшняя, все ставили на место, приходила трезвость, и годы заполняли свои ячейки без пропусков, их вереница выстраивалась в длинный ряд.
– А у тебя, Димитрий, лицо совсем молодое, ни одной морщинки. Только вот поседел... – вяло прервал, наконец, молчание Федор. Не хотел он этим ни похвалить, ни попрекнуть, и зависти не было в его словах. Скорей, он просто сравнивал себя с Митей, вспоминая прожитое.
Но Митю слова его пронизали до костей. Он весь внутренне сжался от вспыхнувшего вдруг осознанья слишком легкой собственной жизни. Легкой. Да, легкой, потому что ее трудности были необязательными. По сути, он сам назначал себе трудные задачи, которые мог решать, а мог и не решать, и ничего особенно в ходе его дней от этого не изменилось бы. Он только что защитил докторскую диссертацию. А мог бы не защищать, обойтись кандидатской, как очень многие обходятся. Он издал три книги по своей теме. А мог бы ограничиться статьями. Его знали в научных кругах. А могли бы и просто слышать о нем. И он спокойно был бы таким, как он есть, никто и не подумал бы ни в чем его упрекнуть. Он никогда не сталкивался с препятствиями, нагроможденными жизнью, вставшими, как неожиданный завал на дороге. Он заранее знал, когда будет трудность и когда он ее преодолеет. С какого-то времени жизнь сделалась ему ясной до самого конца. И он все чаще с горечью, подчас с ужасом думал, что за эту жизнь свою не увидел, не узнал и не понял чего-то очень важного, главного, такого, что Федор вкусил в полной мере. Митя не мог бы коротко определить, что это, но понимал: узнай он это главное, совсем иная цена была бы и его диссертации, и его книгам, и его профессорству (теперь он имел звание профессора). Но так уж соткалась его судьба, так сплелась – снова не переткешь, не переплетешь. Годы минули, и ничего в них не изменишь. Начинать сначала – поздно. Он крепко прирос к своему делу, к людям, с которыми работал много лет, к институту, к библиотеке... И только редкие мимолетные встречи с Федором, дни, проведенные в деревне, говорили ему, что жизнь начиналась здесь и могла пойти совсем по-другому. Но как по-другому? Митя не представлял. Да и могла ли она пойти по-другому? Если не пошла, значит, не могла. И у Федора тоже.
И вот они, пожилые люди, стоят у колодца, у ведер, полных осенней синевы, ежатся от северного ветра. Они достигли, чего могли. Желтые листья летят над головой.
Митя провожает Федора до калитки. Тот прощается, не приглашая в дом. Он ни разу не пригласил Митю в этот дом.
Что-то изменилось и в облике дома... Митя смотрит сквозь жерди забора вслед другу, несущему ведра...
Нет крыльца! Вместо крыльца большая застекленная веранда.
Митя идет по улице и мучительно думает, что надо бы пригласить Федора к себе – посидеть спокойно за столом в тепле, поговорить. Он решает на обратном пути от знакомых зайти и пригласить Федора на коньяк.
На обратном пути он не зашел.
10
В работе над новой книгой миновала зима. Книга давалась трудно, Митя весь растворился в ее ткани и не видел ничего кроме. Только иногда вдруг ни с чего вспоминал, что тогда, осенью, не зашел к Федору и не пригласил его. От этой мысли тревожно и остро вставал в памяти синий день, колодец, огрузлая фигура друга. Не относящееся к делу воспоминание это волновало и начисто обрывало ход рассуждений. Митя успокаивался тем, что в который раз обещал себе: как приедет в деревню, тотчас пригласит Федора. Бутылка коньяку так и осталась нераспитой, запрятанная в подполе теткиного дома...
Была весна, солнечное утро и первая капель, ударившая в подоконник.
Митя подошел к письменному столу с тайной надеждой закончить сегодня книгу. Все сроки истекли, рукопись надо сдать не позже понедельника. Сегодня суббота. За два дня он вполне мог написать последний, самый важный раздел, без которого нет книги. Собственно, для выводов, заключенных в этом небольшом разделе, и затевалась вся рукопись. Но именно с этой частью своей работы Митя безбожно тянул.
Он устал, как всегда уставал к весне, а тут еще прибавилась угнетенность от постоянной заботы, что надо кончить рукопись, от ожидания надвигающихся сроков, нервозность от звонков из издательства и, наконец, официального письма с предупреждением... И все-таки, живя «в этом аду», как часто говаривал Митя, он по странной медлительности оттягивал и оттягивал завершение.
И даже сегодня, чувствуя внутреннюю уверенность, что все закончит – к ночи или к утру, но обязательно закончит – даже сегодня, сев за машинку, он не мог поднять руку и отстучать первое слово: «Итак...»
Солнце припекало голову, мысль вязла в остатках сна, и никаким усилием невозможно ее взбодрить...
«Итак, суммируя полученные результаты, следует...» Фраза была готова давно, Митя знал, что начнет с нее, и все же не мог начать. Не давался первый удар по клавише. И, что самое удручающее, за фразой этой зияла фиолетовая, переливающаяся пустота... Митя прекрасно представлял себе, что должно последовать за «следует», но здесь-то и обрывались слова, кончалось живое биение мысли, все погружалось в сонливость и вялость...
Митя потянулся и некоторое время сидел с закинутыми на затылок руками в дремотной тишине своей большой квартиры. Потом он вспомнил, что еще не взял почту и поэтому не может приняться за работу – он привык с утра читать газеты, а сегодня эта дурацкая сонливость перепутала весь порядок. Надо встряхнуться, войти в привычный ритм, начать все по заведенному... Обрадованный этим простым решением, он оторвался от машинки, встал и, шлепая туфлями, пошел за почтой.
Вместе с газетами, толстым журналом и гранками статьи в ящике оказалось письмо от тетки из деревни. Письма от нее приходили не часто, Митя очень их любил, а сейчас, ко всему прочему, это был хороший повод еще на несколько минут оттянуть начало работы...
Он уселся в низкое кресло у окна и прежде всего распечатал конверт.
...Пчелы перезимовали хорошо, в ульях еще остался мед...
И по комнате почти явственно поплыл запах воска, пчелиного яда и клея, пропитавших бревна теткиного дома... И усталость начала отпускать, смываемая этим запахом.
Все, что он читал дальше, было так же просто, ощутимо и трогательно в своей первозданности... Соленых огурцов и капусты много в нынешнем году, не испортились бы к теплу. Приезжай доедать, не то придется раздать соседям, чтоб не пропало. Куры начали нестись – пригревает солнышко, изжарила бы тебе глазунью... Болела гриппом, теперь поправилась. Читали твою статью в журнале да ничего не поняли, хоть и разбирали со словарем...
Но вот в конце... В конце письма приписка сбоку мелкими буквами. Митя перечитал несколько раз, и слова скользили мимо, он никак не мог их понять...
Сонливая одурь, не отпускавшая все утро, сразу испарилась. А слова все-таки не понятны, ни с чем не вяжутся они, никуда не подходят...
Федюшка, твой друг детства, лежит в больнице при смерти. Доктора говорят, мало надежды, что поправится. Никогда не болел, а тут навалились все болезни...
Лучи солнца, совсем горячие, греют ногу сквозь туфлю. Газеты упали на пол. В подполе, присыпанная землей, лежит бутылка коньяку. А Митя не зашел тогда на обратном пути, не пригласил Федора к себе... Федор уходил по дорожке с ведрами в озябших руках, с ведрами, полными ледяной воды. И тогда они распрощались навсегда?.. В то самое мгновенье – навсегда... Он был в полушубке, черном, потертом. На завернутых рукавах торчала вытертая овчина. Кирзовые сапоги с ляпками глины...
И это все, что запомнилось? Все, что осталось в памяти? И никогда не будешь знать, какое мгновенье последнее и что от него остается...
Но почему ж последнее? Федор жив, он есть.
Митя смотрел на стену перед собой. Ломило глаза. Слез не было, но глаза ломило и разъедало. Митя вспомнил, что не плакал уже двадцать лет, после смерти отца...
И вслед за этой ломотой в груди открывалась пугающая пустота, провал... И казалось, провал этот не перейти, на нем кончается лучшая полоса жизни, а дальше – что-то осеннее, серое... Митя почувствовал себя так, словно в доме, где долгие годы все было на месте, все прочно, привычно, из фундамента вдруг вывернулся угловой камень, и дом дрогнул, покосился, и неоткуда взять камень на замену. Пока он стоял, его не замечал, опирался на него, сам того не сознавая. А когда он покачнулся, мир оскудел и зябко стало на земле.
Почему так? Ведь неразлучны они были только в раннем детстве. После не виделись годами и ничего один о другом не знали. Жизнь разъединила их, разрознила во всем, и они, пожалуй, мало уже понимали друг друга. Но сейчас, когда угрожала потеря, Митя осознал до конца, как много значил для него Федор. Он не мог бы сказать, что значил, в чем, для чего... Он ощущал лишь эту пустоту, угрожающую душе, провал, который, он знал, никогда не затянется, не зарастет.
Утрата... Утрата... Но почему ж утрата?.. Митя еще раз перечитал приписку в письме. При смерти – еще не смерть, еще не все потеряно... Ему плохо, но он жив... Надо вот что... Надо сейчас же, тотчас...
Митя поднялся, позвонил в справочную насчет поезда. Время еще было, и он стал переодеваться.
Взгляд упал на письменный стол... Рукопись... Последний раздел... Все показалось далеким, прошлогодним, пыльным каким-то... Странное чувство. Митя испугался его и еще глубже понял, что жизнь надломилась, трещит, оседает и надо удержаться и удержать ее своды...
Он торопливо надевал свитер, зашнуровывал ботинки на толстой подошве – те самые, в которых был осенью там, у колодца...
И пролетали в памяти случайные обрывки из детства, зрелости, недавнего... Вспомнилось вдруг крыльцо, и он, Митя, впервые забравшийся на перила с помощью друга, и круглое веснушчатое лицо Федюшки, нетерпеливо дергающего Митю за ногу...








