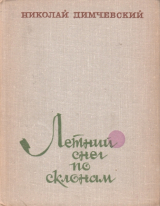
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Галя принялась за дела и прокрутилась, не замечая времени, до тех пор, пока баржа не ткнулась в берег. Она подумала, что сейчас Саша придет, и, несмотря на то, что ожесточения в душе уже не было, все же приготовилась к тяжелой встрече. Она не собиралась мириться и твердо решила еще несколько дней пожучить мужа, считая такую выволочку полезной для дальнейшей их жизни.
Однако Саша вместе с начальством сошел на берег. Развешивая пеленки, Галя видела, что те двое отправились на пески, а он побрел в заросли лозняка. Она сразу поняла: боится и почувствовала горькую сладость победы.
...Это уж на обратном пути случилось. Галя достала кашу, томившуюся под ватником. Ей захотелось со сметаной – сливки прокисли, и теперь в бидоне была сметана, такая крутая, что не лилась через край и на горячей каше неохотно плавилась, как масло.
И не успела она начать – вошел Саша. Словно ничего не случилось, улыбается, в руках – соленая рыба, но голос робкий.
– Галочка, дай каши – начальство угостить. Вместо хлеба...
Сразу она не нашлась даже, что ответить. Прежнее ожесточение пропало, но отказываться от решения «отбрить» она не могла. Прожевав кашу, Галя собралась, сжалась, сделала неприступное лицо и без всякого выражения (так было задумано) деревянно сказала:
– Пошел вон.
Саша переминался с ноги на ногу у трапа, рыба трясла мертвым хвостом. Галя холодно повторила:
– Пошел вон.
Он принял эти слова как должное; вздохнул, опустил голову и почти уж повернулся, но передумал и робко попросил миску и нож.
Галя молча прикрыла кастрюлю ватником, взяла тарелку и удалилась в каюту. Она слышала, как муж поспешно кромсал рыбу. Ей захотелось соленого. Молча, с каменным лицом, она вернулась, не обращая внимания на замершего мужа, разворошила куски, сваленные в миску, выбрала лучший и унесла к себе.
«Дай каши – начальство угостить» – вспомнила она униженные, робкие слова и пожалела, что не посоветовала: «Покорми начальство своими прибаутками».
Она доела кашу, но до рыбы не дотронулась – пришлось менять ползунки...
И Галя пожалела, что не показала Саше дочку в новом наряде. И, подумав так, вспомнила, что прогнала его и у них разлад. Но желание поделиться радостью пересиливало, она решила при первой возможности показать мужу девочку в ползунках. Кроме него, никто здесь не мог оценить этого события.
Вечером, когда пристали к знакомому берегу, те двое собрались уходить. Галя занималась своими делами, но все прислушивалась, поглядывала, тревожилась: не уйдет ли с ними Саша. Она понимала теперь, что слишком круто его одергивала в эти дни и он может от отчаяния сбежать в лагерь и загулять. Чувства превосходства и победы над ним, которые совсем недавно тешили ее, сейчас вселяли опасения и даже страх... Она вспомнила одинокую ночь, услышала свист ветра, шлепки волн и представила, как страшно усилятся эти звуки с темнотой...
А в рубке уже прощались. Обостренно-четко услышала Галя, как незнакомцы благодарили мужа, и ей показалось, что он, хоть и невнятно, напрашивается проводить их через тайгу.
Девочка, угадав смятение матери, заскулила, заметалась, заплакала потихоньку. Галя разрывалась – успокаивала ее, убеждала себя не обращать внимания на разговор в рубке, напряженно прислушивалась к каждому шороху и не знала – побежать ли наверх или укачивать дочку... И эта собственная нерешительность была невыносимо-мучительна.
А наверху уже топотали по палубе, уже стукнула дверь – Саша вышел последним (он по-своему отрывисто, коротко хлопал дверью, Галя отличила бы его от сотни людей, пройди они через рубку).
Этот удар двери довел ее смятение почти до истерики. Она знала, что остаются последние мгновения, и все еще не могла решить: выдержать ли характер и дать мужу самому выбирать между семьей и берегом или предпринять что-то решительное – она еще не представляла себе, что. В полубеспамятстве, ничего уже не соображая, Галя закутала плачущего ребенка в одеяльце и метнулась наверх.
Она выскочила, едва не ударив дверью пожилого человека, и в каком-то ослеплении пожалела, что не ударила. Она хотела бросить ему резкие и грубые слова, но ничего подходящего от горячки не шло на память, и это злило ее еще больше.
Человек, видимо, не догадываясь ни о чем, посторонился, снял кепку и слегка поклонился. Что-то было в этом приветствии старомодное, неожиданно-тихое и приятное. И лицо у него было грустное, и удивленное, и очень доброе.
Галя уже нашла свои слова, она хотела закричать прежде всего мужу: «Назад, подлец! Не пущу!», хотела разреветься, а потом отругать инженеров, которые тащили его в лагерь. А тут сразу опомнилась, поняла ненужность задуманного, растерялась, судорожно вздохнула и почувствовала отвратительную слабость. Голова закружилась, ноги подгибались – едва не выронила девочку.
– Что с вами? – глуховато спросил пожилой, осторожно и крепко поддержал ее за локоть, властно кивнул Саше. Тот открыл рубку и пожилой провел Галю внутрь, усадил на табуретку.
– Воды. Быстро, – жестко приказал Саше.
Плыло перед глазами, Галя удивленно осмотрелась, радуясь, что сидит, и не веря еще, что такой приступ ярости и слабости приключился с ней.
– Ничего, не беспокойтесь... Зачем же... – бормотала она, превозмогая дрожь. Ей подумалось: этот человек догадывается о ее намерении всех изругать, и сделалось неловко, стыдно, и она никак не могла себя переубедить – откуда ему знать? Галя не решалась посмотреть на незнакомца, но чувствовала неожиданно и странно прорезавшуюся к нему симпатию. И разум, еще не успокоившийся после взрыва, не мирился с тем, что открывало сердце, и грудь теснило от противоречий. Куда глаза девать?..
В рубку вошел второй, которого она лишь смутно заметила в давешнем порыве, и сейчас, отвернувшись от пожилого инженера, смотрела на него, даже радуясь немного, что есть повод отвести взгляд. Этот ей сразу не понравился. Галя не могла сообразить, почему же... Ведь он помоложе и внешне даже симпатичный вроде... Ах да, вот почему – он, как все. Она поймала его раздевающий взгляд. Как все... А что ж пожилой – не как все?..
Галя с удивлением, не поняла даже, а почувствовала, что именно он – не как все; и мысленно не соглашалась она с таким выводом, не могла согласиться, а где-то внутри крепла уверенность, что встреча эта необычная, сулящая непонятную, добрую радость...
Второй стоял у двери, загородив проход, и Саша кружку с водой передал ему. Гале не хотелось брать кружку из его рук. И тотчас пожилой инженер уверенным отстраняющим движением взял у того кружку и с чудноватой старомодной почтительностью, слегка склонившись, протянул ей. Это было даже страшновато – будто чтение мыслей, и влекло, притягивало странной силой, необыкновенным светом, в который никак не верилось.
Прижимая девочку, Галя отпила несколько глотков. Пожилой инженер, безошибочно определив, что вода больше не нужна, осторожно взял у нее кружку. И в этой малости, что он точно угадал и ни мгновенья не дал ей держать ненужную кружку, тоже было нечто страшноватое, но сильное, уверенное и приятное.
Галя показалась себе заплаканной девчонкой, которую обласкал отец. Пожалуй, она никогда больше и не встречала чистой мужской внимательности и ласки, кроме как у отца, дома. Ему можно было даже на маму пожаловаться, он все понимал... Какое невозможное, сказочное совпадение. Галя давно уверилась, что такое осталось лишь там дома. И вдруг здесь, незнакомый человек... Нет, нет – обман, он не такой, лишь кажется таким, думала она и не верила этим мыслям, и радовалась минуте, пусть обманной, но принесшей неожиданную перемену в примелькавшейся ее жизни.
И Галя заметила вдруг, что остров освещен красным – лозняки будто костер, и свет так ярок, что холодная река теряется во мраке – видится лишь это пыланье.
Малышка испуганно смотрела на незнакомых людей, губки ее кривились, она уже собиралась разреветься. Галя загородила ее личико своим лицом – дочь показалась большой, знающей нечто сокровенное и желающей вмешаться в дела взрослых. Галя поняла ее гримаску как неодобрение и уже застыдилась своей неожиданной радости.
И тут затарахтела погремушка, и рука пожилого инженера, на этот раз неумело, с опаской, протянулась к ребенку. Девочка узнала игрушку, закряхтела, выпрастывая ручки из одеяла. Галя ей помогла, и она потянулась, шевеля крохотными пальчиками, и сразу же сунула погремушку в рот, и успокоилась.
Это был хороший знак, и Гале захотелось, чтоб этот человек побыл у них в гостях. Где-то в глубине, в душе, все крепло чувство, что внимательность его совсем иная, чем та, которую она в обилии встречала у мужчин во время девичества и после.
Внимательность его была уважением к ее материнству, к ее беспомощности, к ее поглощенности заботами, ко всей ее нынешней жизни... Галя свыклась уже с голодными, голыми взглядами, которые видели в ней лишь то, чего хотели, которым дела не было до ее состояния, до ее новых переживаний. И вдруг – такой необычный, деликатный, уважительный человек.
Правда, в мыслях еще крутились и для него самые обидные, отталкивающие слова, которые всегда теперь назначались мужчинам, но душой она уже твердо знала, что слова эти не подходят к нему и не нужны; и то, что они отскакивали от него, не приставая, подтверждало правоту ее первого порыва. Сердце сладко и безвольно поддавалось его уважительности и твердило, что это не личина, а подлинное мужское обхождение, которого достойна мать, держащая на руках ребенка.
Саша растерялся, он не знал, как себя держать: видел, что тут нет ухаживания в том смысле, как он его понимал, но чувствовал, что Пашин решительно и сразу взял верх, отстранил его от Гали и завладел ее вниманием. Это было так странно и чудно, что Саша, совершенно обескураженный, бочком вошел в рубку и встал рядом с Сидориным, ожидая дальнейших приказаний. Он уже знал, что станет безропотно выполнять распоряжения Ивана Петровича. Он словно в чем-то провинился перед ним и теперь, искупая вину, должен был стать мальчиком на побегушках. И, странно, роль эта ничуть его не оскорбляла и даже не коробила. Случись на месте Пашина любой другой, он запетушился бы, закукарекал, задрался... Он и сейчас рассудком понимал, что надо запетушиться, но чувствовал, какая из этого получилась бы нелепость, и поэтому пальцем не шевельнул, стоял около Сидорина.
Тот с едва заметной улыбочкой наблюдал за Иваном Петровичем. Никому до его улыбочки не было дела; сам же он вкладывал в нее мысль, рожденную собственным житейским опытом: «Запрячь тебя, холостячок, в эту коляску, посмотрел бы я, как ты подавал бы водичку да погремушечки». Но и он, вопреки этой выстраданной мысли, каким-то нетронутым уголком сердца понимал чистоту, искренность происходящего. Понимал и удивлялся, что понимает, и открещивался от понимания, как от наважденья, и все-таки понимал.
Убедившись, что девочка успокоилась и занялась игрушкой, Галя подумала пригласить инженеров на чай. Но сделать это оказалось нелегко. Она не могла найти слов; просто так бухнуть ни с того ни с сего – все испортишь, а начать издалека и подвести к приглашению – не получалось. Она даже перетрухнула слегка от своей нерешительности. Раньше разве могло с ней случиться такое – никогда за словом в карман не лезла – мигом сообразила бы, как пригласить.
Время шло, и Галя чувствовала – они вот-вот начнут собираться. Представила себе дорогу через сырую вечернюю тайгу... Им только добраться до лагеря... Какой уж тут чай. И совсем расстроилась, и чужим каким-то, молящим голосом неожиданно для себя сказала:
– Вы меня извините, пожалуйста... – и осеклась, испугалась, но отступать было поздно. Пожилой инженер уже внимательно слушал ее. – Я... мы с мужем хотели вам предложить... Оставайтесь чай пить...
Так трудно выдавились эти слова, и отчего-то стало так стыдно, неизвестно чего стыдно – хоть провалиться. Ах, вот почему стыдно: она знала, что они откажутся – какой интерес ночью на барже чай пить? По такой погоде мужикам двух бутылок не хватит, а тут обрадовала – чай... И она сама себе показалась жалкой, беспомощной и ненужной. Сейчас они вежливо поблагодарят, сошлются на дальний путь... Ах, выслушивать это просто невозможно... Лучше б обругали – чтоб сразу ясно и грубо. Галя сжалась, нагнулась к дочке, ожидая удара.
– С удовольствием! От чайка не откажемся.
Неужели это он говорит? Галя не поверила, но тут же подумала: а почему бы им не согласиться. Да ведь он и согласился! Сама же слышала. Согласился, согласился! Нахлынула радость, и опять она испугалась, что радуется такому простому и незначительному событию. Но тут же поправила себя: простому и незначительному – в той, прежней ее жизни, а в этой – неожиданному празднику! И в голове каруселью полетели радостные соображения о предстоящих хлопотах, и всплыла картина семейного чая с гостями, и это уже был праздник.
Она лишь взглянула на мужа, тот сразу все понял и побежал вниз.
– Мы здесь... в рубке... если не возражаете... – полным, срывающимся от радости голосом сказала Галя.
– Какие возражения? Прекрасно! – поддержал ее пожилой.
Ах, как хорошо и складно все получается! Галя распрямилась, расцвела, она чувствовала, что ее радость радует пожилого инженера, и теперь уже с удивлением вспоминала только что мелькнувшие унизительные ожидания.
– Сейчас я покормлю дочку, спать уложу и побуду с вами спокойно, – почти пропела она, совсем уверившись, что пожилой остается искренне, от души.
– Ради бога! – сиплым шепотом сказал Сидорин. Галя даже забыла о нем и сейчас удивленно подняла глаза. Он вызывал у нее стесненность – она не знала, как с ним вести себя. Но он теперь тоже был ее гостем, и ей стало неловко за свою невнимательность.
Сидорин хоть и напился воды из-за борта, горячий чай тем не менее очень его соблазнял после соленой рыбы. Правда, солнце зашло и быстро смеркалось: тащиться ночью по тайге не слишком-то приятно... Однако, с другой стороны, вечер в лагере – штука тоже не из веселых – в душном балке́[1]1
Бало́к – передвижной домик.
[Закрыть] или в холодной палатке... Да, пожалуй, попить чайку здесь, на реке, неплохо. Найдется ли вот только приличная заварка... У этого шкипера все навыворот...
Тут Пашин спохватился, что на чай они приглашены, а до сих пор не знакомы. Представил Сидорина, потом себя, опять по-старинному чинно, торжественно, однако на этот раз несколько шутливо, словно бы извиняясь за свою несовременность, слегка подшучивая над тем, что превращает в ритуал столь простое дело.
Галя не заметила этой тонкой шутливости, а почувствовала лишь, что настроение у всех отменное и впереди нежданно интересный вечер, выходящий из ряда теперешних ее вечеров. Она поправила одеяльце и уже собиралась идти в каюту, когда Пашин нагнулся к девочке и сказал:
– А с этой дамой вы нас еще не познакомили. Как ее зовут?
Галя помедлила, то ли раздумывая, то ли не решаясь почему-то ответить, но потом даже с некоторым нажимом, если не с вызовом произнесла:
– Лолита, – и потише, почти прижав губы к теплой щечке: – Лолочка.
Пашин был вроде как-то озадачен ответом – словно ждал одного, а вышло совсем другое, к чему он не готовился. Эта растерянность его не ускользнула от Гали, и она немного огорчилась.
Где-то в глубине у нее самой таилось сомнение насчет имени, но она не признавалась себе в этом. Отношение окружающих, которое она улавливала с болезненной тонкостью, подтверждало собственное сомнение, тем беспощадней она его отметала, стараясь внушить себе, что ничего не замечает. А в памяти уже стояли врубившиеся туда слова из маминого письма: «Не люблю я эти киношные имена, они вроде искусственных цветов. Ну да назвала, так пусть будет Лолита. Главное, что дочка растет...»
Поплотней завернула одеяльце, прикрыла уголком лобик, встала, не решаясь взглянуть на Пашина, и, как бы убеждая себя самое, еще раз повторила имя:
– Лолиточка, пойдем дядям чай готовить.
– Только не торопитесь, пожалуйста, и не утруждайтесь, – попросил Иван Петрович мягким и добрым своим голосом, и Галя заставила себя подумать, что ей лишь показалось, будто он не принял имени. И на душе опять сделалось безоблачно.
Пашин открыл дверь, проводил ее до каюты, и в эти несколько шагов по палубе успел повиниться, что утопил ведро, и стал сокрушаться – чем же теперь набрать воды для чая. И то, что он чувствовал себя виноватым перед ней, и не знал, как набрать воды, и сочувствовал ей в этой трудности, еще больше расположило Галю.
Именно участия не хватало ей, участия, пришедшего извне; и чем нежданней проявилось это участие, тем сильней оно ее захватило. Она давно уверилась, что муж равнодушен к ее переживаниям, и как бы он ни старался, переубедить ее было невозможно. Она давно ждала свежего человека: приезда матери или задушевной подруги. Мысленно она часто разговаривала с ними, встречая (в мыслях же своих) полное их сочувствие, поддержку, признание своей правоты во всем. И сегодняшняя неожиданная участливость и внимательность незнакомого человека были наградой за долгое ожидание.
Она и к мужу сразу изменилась. Положив Лолиточку на рундук, подошла к нему – он растопил печку и ставил чайник, обняла сзади, прижалась щекой и с радостью заметила, как он замер, не решаясь пошевелиться, отпугнуть ее своим движением. А потом, уверившись, что она не отойдет, обернулся, схватил, сжал до хруста, и душная тяжесть желания навалилась на них.
– Потом, – громко шепнула Галя, отстраняя мужа. – Да ну же, Сашка, уйди! Посмотри, что я покажу.
Это было примирением, и Микешин, никак не ожидавший, что разлад их так просто и хорошо кончится, едва по плясал от радости.
Галя подтолкнула его к дочке и быстро развернула одеяльце. Девочка обрадованно засучила ножками в ползунках.
– Ой, Галка! Ох, ты! – разбросив руки, обнял жену Микешин и присел к рундуку. – Ну, Лолитка – молоток, невеста совсем! Прямо брючный костюм! Ну дает! Когда ты ее обрядила-то? А взяла-то где? Я ползунков не покупал... В поселке, что ль, смоталась в магазин? И в магазине их не было... Их тут нигде нет...
Галя наслаждалась его недоумением.
– Нравится? Бабушка прислала. Я тебе нарочно не показывала – ждала, как наденем. Вот какие мы взрослые! – подхватила девочку, закружилась по каюте, держа на вытянутых руках. И, заранее ожидая одобрения, спросила: – Ничего, что я оставила твоих начальников?
– Да что ты, Галчонок, потрясно придумала! Этот седой на меня, как пес, накинулся: «то не так, сё не эдак». Я уж его рыбой задобрял, задобрял – обожрался, отошел вроде. Чай теперь в самый раз. Отопьется чаем – наш будет. А то я боялся – не накапал бы Егорову. Второй-то попроще, свойский в общем. А седой больно воображает из себя. Все учил меня, как жить. Что я ванька ему – учить меня! Самого бы заставить запуститься без аккумуляторов, да в штормягу такую вырулить у косы! Запрыгал бы по-другому! Ученый мне нашелся! Да я таких уче...
– Знаешь, Сашок, – не слушая, перебила его Галя, – давай достанем наш сервиз! – Она представила вдруг просторный стол, накрытый ослепительной скатертью, и темно-синие с золотом чашки, и серебряные ложечки... – Достань. Хорошо? И ложечки из чемодана.
– Во! Это идея! Это да! Утыкнем старого сыча! Думает, в тайге, так лаптем щи хлебаем, нас учить надо, как жить. А мы сейчас стол сообразим – закачается! Эх, жаль бутылки нет! Мы бы хрустальные поставили! Погляди, как речники живут, сапог береговой!..
Приготовившись к кормлению, она слушала его болтовню и подумала, что просторный стол – всего лишь воображение. В рубке – игрушечная откидушка для лоции, и четверо никак за нее не усядутся, и чашки поместятся, как на подносе... И расстроилась, но тут же пришла в себя. Все-таки сервиз есть сервиз.
– Скатерть достань из чемодана. Сложишь вчетверо и застели столик в рубке. И накрой, как следует: сахар – в сахарницу, сгущенку в кувшинчик налей, в сервизный, варенье в вазочке поставь, – перечисляла она уже шепотом, чтоб не спугнуть Лолиточку, взявшую грудь.
...Когда она вошла, рубку не узнала: пол блестел, резкий свет лампочки смягчен абажурчиком из зеленой бумаги, синие чашки уютно поблескивали на топорщившейся скатерти и в воздухе плавал праздничный аромат индийского чая.
Иван Петрович встал, за ним – Сидорин и Саша. Своим свободным и приветливым жестом Пашин указал на табуретку возле столика.
– Просим, просим хозяюшку!
Галя заспорила, уступая место гостям, но противиться долго не смогла. Она была в центре внимания; впервые за многие месяцы почувствовала себя хозяйкой дома. Чайник и чашки представились ей сейчас чем-то очень значительным и важным. Никогда не подумала бы, что разливанье чая может принести столько радости. И мужчины притихли, наблюдая за ее руками, будто на столе вершилось нечто необыкновенное.
И ведь не говорили ни о чем особенном, просто сидели, отдыхали, попивая, а как хорошо было, как спокойно и уютно.
Пашин сидел рядом с Галей у столика, но чашку вместе с блюдечком держал в руке. Так ласково это у него получалось. Слегка наклонившись, он поднимал чашку, отпивал глоток и ставил на блюдечко, тихо беседуя о пустяках. И никак он не поучал, ничего не навязывал – зря Саша на него обижался. Тихая домашняя беседа. И Галя в ней опять-таки оказалась в центре, каждое ее слово принималось со вниманием, а мнение ценилось выше любого другого.
Сидорин и Саша блюдечки оставили на столе и чай тянули, словно пиво у ларька, таская варенье через всю рубку. А Иван Петрович положил немного на край блюдца и черпал кончиком ложечки. Ну что, кажется, за важность – чай пить, а тоже надо уметь. И разница эта не ускользнула от Гали, и она старалась не смотреть на мужа и Сидорина. Одного Пашина видела и разговаривала только с ним.
Просто как во сне этот чай... Встретился же такой человек. Галя посматривала на Ивана Петровича, и странное чувство ее наполняло. Она себя так чувствовала, словно многие эти месяцы все бежала, спешила, гналась, и дни мелькали, ноги-руки гудели, в голове крутилось колесо, и уже привыклась такая жизнь, и казалось, так будет всегда... И вот круговерть остановилась, и Галя сидит за праздничным тихим столом. На плечах – новая шерстяная кофта, а не застиранный, опостылевитий, но привычный, как собственная кожа, халат. Приятно в лаковых туфлях (ноги давно отвыкли от строгости хорошей обуви в разболтанных и разбитых как блин шлепанцах). И чулки крепко охватывают икры, и юбка стягивает бедра. И эта непривычность одежды настраивает на необычный тон.
Галя впервые за многие месяцы распрямилась, откинула голову, огляделась вокруг, с высоты сегодняшнего спокойствия и тишины посмотрела на себя, на мужа, на странное, хоть и родное уже плавучее их жилье, на дочку, спящую в железных недрах баржи... Она как птица, отпущенная из клетки, никак не могла охватить простор и осознать возможность лететь, куда хочешь...
И вот взлетела. Взлетом для нее была мысль, осенившая ее сейчас зрелой и глубокой силой, простая мысль о том, что девочка здорова и подрастает. И это было главным. Галя поняла, только вот, сию минуту поняла, что нескончаемая работа и неотрывность от девочки наградили ее тем, что дочка выросла. И очевидная эта истина, открывшаяся ей, поразила и обрадовала ее. Затем Галя осознала вдруг, что сейчас, сию минуту, нужно разобраться еще в чем-то важном, иначе потом опять будет некогда, опять завертится каждодневное колесо. Что же важное? Что еще может быть важным?..
Саша! Вот что. Вымытый пол в рубке, скатерть на аккуратно накрытом столике... И память потащила чередой, как лента транспортера, когда разгружают трюм: ящик сгущенки, бидон сливок, рыбу, картошку, чурки, напиленные для печки... Он же заботится о ней и о дочери. Конечно же заботится! Без него ничего бы не было в их плавучем доме. Он болтун, конечно, и выпить любит, и погулять, но семью не забывает, и никогда не сказал Гале ни одного грубого слова. И еще она вспомнила недавние объятия, и всем телом поняла, что только от него приходила к ней полная радость. В памяти мелькнули давние, полустершиеся и более яркие лица мужчин, которых она знала, и ни один из них никогда не мог дать ей того, что желалось. Только Саша сразу захватил ее. Она оглядывалась со своей высоты и, кроме него, никого не видела вокруг. Она нарочно припомнила того, лысоватого, которому недоставало одного птичьего молока. С ним был бы полный достаток и городской покой. Но у него не только птичьего молока не было... И Галя без малейшего сожаления откинула его и перенеслась обратно на баржу.
Вот эти-то две мысли – о дочери и о муже – поднялись в душе, и мгновенья, когда они появились и засветились, показались Гале необычайно важными и сладостно-долгими.
Она очнулась, поймав себя на том, что перелила чай в чью-то чашку и он уже почти заполнил блюдечко – вот-вот выльется на скатерть... Кому ж она так полно?.. Галя огляделась... Да это ж ее чашка! Она засмеялась над собой, услышала свой смех и подумала, что давно так не смеялась, и обрадовалась своему смеху, и увидела, что Иван Петрович улыбается, а Саша просто светится, и даже Сидорин, хоть не без кисловатости, тоже разделяет прилив хорошего настроения.








