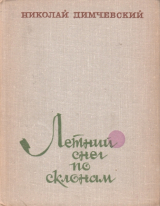
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
11
С годами все чаще влекут путешествия по времени, хотя поездки по стране тоже продолжаются. В потоке современной жизни начинаешь различать струи, которые идут издалека, и понимаешь, что сам уже причастен к некоторым истокам. В памяти, как раковины на дне ручья, поблескивают давние дни, не тускнеющие с годами. Этот отсев совершен временем, поглотившим все второстепенное и побуждающим сохранить, собрать вместе, сложить в узор свои раковины. И возвращаешься в детство: пытаешься проследить движения судеб твоих сверстников, закрепить навсегда ушедшее.
В зрелости вдруг открываешь, что нынешние, очень важные для тебя собственные черты зародились давно и сложились не без помощи давних друзей. Был мальчик, одноклассник – Костя Кондрацкий, болезненный до того, что в школу ходил едва ли полгода в году. И он, лежа в постели, пережив почти обморочную боль, начинал мечтать о путешествиях. Волга, Урал и даже Сибирь... Я сидел у изголовья и понимал – все это фантазия. Но он с такой энергией и так искренне говорил, что и у меня иногда мелькала мысль: а ведь и правда, почему бы не отправиться в путешествие...
И этот болезненный юноша, вскоре после войны, еще истощенный голодными годами, едва оправившийся после очередного сердечного приступа, ворвался ко мне однажды, взволнованный и ослепленный невиданной удачей: прочитал объявление, что в экспедицию требуются рабочие, тут же пошел, тотчас оформился и через два дня уезжает в Башкирию! Это было потрясение. Я увидел, убедился, понял, что о путешествиях можно не только мечтать... Он уехал, проработал сезон и вернулся окрепший (ни одного приступа в самых трудных маршрутах!), наполненный красками и рассказами, ветром дальних дорог. Оттуда, из той далекой осени, начинается отсчет и моих странствий, ибо я понял тогда, что мы можем выходить в простор. Понимание это, уверенность и есть основа, без которой не совершить начального шага. И свою первую книжку («Калитка в синеву»), привезенную с Ангары, я посвятил памяти школьного друга, который прошел мало, но показал мне пример. И то, с чем я вас познакомлю сейчас, в сущности о том же – как детские годы и привязанности отсвечивают на зрелости, как дружба остается до конца и незримо связывает совсем разных людей.
КРЫЛЬЦО
Их крыльцо было самым высоким. Нигде никогда за следующие сорок лет жизни Митя не встречал такого крыльца.
...Влезаешь на скользкую лавку (ее серые доски вылощены ребятишками и сидевшими тут по вечерам взрослыми), хватаешься за шероховатые бока пузатых столбов, вырезанных из березовых брусьев, потемневших и потрескавшихся от непогоды и солнца... (Теперь зрелость говорила Мите, что столбы эти – заурядное творение местного плотника. Они похожи на длинные четырехгранные кегли, толстые внизу, бегущие вверх все уменьшающейся волной. Таких тысячи по нашим селам. Но зрелость и знания бессильны перед детским восторгом. Это были единственные, неповторимые крылечные столбы. Даже сейчас, через сорок лет, Митя видел каждую загогулину, каждую трещину и мельчайшие чешуйки лишайника, росшего наверху, куда не доставали ребячьи руки.) Вцепившись пальцами в неохватные, слегка мохнатые на спиле грани, неуверенной ногой переступаешь с лавки на перило... Выпрямляешь коленки... Отрываешь глаза от своей босой ступни, от земли, от столбов... И замираешь, охваченный высотой и простором. Ты словно бы летишь – ты выше загородки дедовского сада, раскинувшегося напротив, за дорогой, выше молодых слив, столпившихся в саду, выше даже самого дедовского дома! Одним взглядом охватывается столько, что не поверить, будто все это глаз может вместить разом. Отсюда видны ряды яблонь и фиолетовые полосы цветущей картошки, протянутые невесть куда – до конца огорода, до речки. Видны молодые ветлы, выросшие из кольев ограды и отделяющие сад от прочего мира.
Виден и этот прочий мир: луговина за скрытой в обрывах речкой, склон долины, поросший темной травой, песчаная проплешина, едва подернутая тощей рожью, там, наверху. И белая нитка тропинки, и дома соседней деревни, проглядывающие сквозь незнакомые сады. И еще дальше видно что-то расплывчато-синее, слепящее в яркости солнца, удаленное и недоступное.
Так мог бы простоять весь день, разглядывая просторы, проникая в пространства. Но едва взобрался – уж знаешь: не долга эта радость, успевай глотнуть даль, прислушаться, как зазвенит от нее в ушах...
Митю уже дергает за ногу Федюшка. Ему тоже хочется взлететь повыше. Ему не откажешь – это его крыльцо, и дом его, и все чудеса его. Осторожно повернувшись, чувствуя, как от опаски отсырели ладони и екнуло сердце, Митя нерешительно смотрит на друга сверху. Федюшка задрал голову и не отпускает дрожащую Митину ногу – слезай, и все. У него совсем круглое, красное от загара лицо в густых крапинках веснушек. Наверное, за веснушки его дразнят «рыжим», хотя волосы у него как у всех – белые, выгоревшие на солнце.
Боязливо перехватив запотевшими ладонями столбы, Митя сгибает коленки, отрывает от перила ногу и протягивает в пустоту. Долго-долго нога не находит опоры. Становится страшно. И тут он чувствует, как Федюшка берет его ступню и ставит на лавку. Теперь слезть просто. Митя снимает с перила вторую ногу, садится, согнув коленки, поворачивается на скользкой лавке и спрыгивает на крыльцо.
А Федюшка уже стоит между столбами. Он ловчей и смелей Мити в сто раз. Митя знает это и завидует, и на сердце хорошо от того, что есть друг, который может, чего никто не умеет. Федюшка не останавливается на том месте, где был Митя. Обхватив столб, он лезет вверх. Его пятки, похожие на картошки, печенные в золе, цепко и верно выбирают загогулины. Добравшись до последней, он отпускает руки и мгновенье держится на одних ногах.
От боязливого восхищенья Митя встает на цыпочки, высовывает кончик языка и смотрит не шевелясь. А Федюшка, приноровившись, по-кошачьи хватается за карниз крылечной крыши, почти отпускает ноги, подтягивается на руках и осматривается, вытянув шею.
Так высоко никто не лазил. Митя даже не завидует, потому что этого не повторить не только ему – никому. Он лишь предвкушает, как расскажет бабушке и маме и они, испуганные, станут осуждать Федюшку, наказывая Мите никогда не лазить по крылечному столбу. Но Митя самим своим рассказом приобщится к подвигу друга, переживет страшное и гордое мгновенье, когда поднимаешься выше всех.
Пока Митя, размечтавшись, стоит с полуоткрытым ртом, Федюшка соскальзывает вниз. Он прыгает с лавки, подтягивает выцветшие, редкие на коленках портки и говорит, что видел Селезнёво. Без похвальбы, без задаванья говорит. Просто видел – и все.
Митя знает – это очень далеко. Из всех людей там бывал только дед. А Федюшка видел Селезнёво отсюда, с крыльца, видел сейчас. У него и глаза-то цветом как даль – серо-синие.
1
Сейчас, через сорок лет, Митя вспоминал разные случаи из детства и удивлялся, как они сохранились. Словно нашел старую рукопись и выцветающие строки шепчут о живых красках. Он не помнил уже, что было раньше, что позже – времена смещались и сливались, мелкое разрасталось, большое сглаживалось... Но душа и не хотела точности. Изогнутое зеркало памяти выхватывало что придется, и в этом беспорядке был свой смысл.
...Как-то раз Федюшка позвал его к себе во двор. Не сказал зачем – позвал, и они пошли мимо пыльных зарослей крапивы, душно и пряно пахшей в жарком безветрии, мимо коровьих лепешек, из которых выползали новенькие, только что отполированные навозные жуки, мимо кучи мусора, заросшей лебедой и чернобыльником, где иногда удавалось отыскать какую-нибудь диковину – синюю стекляшку или медную бляху от конской сбруи.
Ворота оказались припертыми изнутри, но Федюшка ловко раздвинул створки, пропустил Митю в узкую щель, а потом влез сам.
Такого Митя не видел никогда. Сумрак двора был заполнен, заставлен, забит бочками, бадьями, ушатами... Они лежали на земле в навозной жиже, стояли друг на друге, башнями громоздились к стропилам под соломенную крышу. Несколько пыльных лучей просекали двор. Свежеструганный дуб светился и играл в них каждым волоконцем, каждым изгибом древесного рисунка.
Ни слова не сказав, Федюшка шмыгнул к огромной бочке, похожей на круглый дом. Он схватился за край, потянулся всем телом так, что из-под рубахи завиднелась спина, закинул ногу, с кряхтеньем перевалился и пропал в темной утробе. Гулко, странно зазвенел его голос, зовущий Митю вослед.
Тот даже испугался сначала. Испугался, что не сможет. Но крикнуть «не могу» было еще трудней. Митя прошел по доске, заляпанной навозом, остановился и, удивляясь собственной смелости, взялся за край. Он встал на обруч, скользя по округлому боку, неловко несколько раз пытался закинуть ногу. От напряжения все тело пронизала дрожь. Митя почти отчаялся, пока зацепился, наконец, ногой. Немного отдохнул, улегшись животом на острый край, потом перекинулся вниз, в темноту, едва не ударившись головой о дно – Федюшка вовремя подхватил.
В бочке было совсем темно и душно. Кисло пах свежий дуб, непроницаемо сдвинулась боковина, жестко лежало под ногами гладкое днище. На миг Мите померещилось, что они так и останутся тут во тьме. Этот мир, ограниченный дубовыми стенками, повергал в отчаянье. Митя почувствовал себя так, словно предстоит всю жизнь прожить в этом кислом мраке. Незнакомый медленный ужас подкатывался к горлу, лишая воли и дара речи. Лишь спокойное сопенье друга и голос его, странно искаженный круглой стенкой, не давали отчаянью совсем захватить сердце.
Постепенно испуг прошел. Митя привык к сумраку и увидел блеклый ровный свет, в котором отчетливо проступили дощечки, плотно подогнанные одна к другой, загадочное лицо Федюшки с потемневшими глазами, его худые плечи, показавшиеся по-взрослому широкими.
И вовсе привык Митя к бочке, когда Федюшка стал громко петь, свистеть и плясать. Топот его босых ног со звоном летел под крышу. Мите сделалось весело и легко, он осмелел и принялся вторить: топотать, стучать ладонью по стенке, кричать. Бочка гудела и ухала от их голосов. Особенно им удавалось визжанье. Они визжали вместе. От пронзительно-острого пульсирующего звука ломило уши. Казалось, бочка не выдержит – лопнет, распираемая неслыханным визгом. После визжанья снова плясали. Вспотев и угомившись, сели отдохнуть.
Теперь бочка показалась Мите самым интересным местом на свете, хотелось остаться в ней навсегда. Так вот и жить здесь, и спать, и чтоб еду приносили сюда...
Размечтавшись, Митя не сразу сообразил, почему Федюшка сжался в комок, приник к днищу и замер. Он тоже лег на дно и только тогда услышал чьи-то шаги во дворе.
– Это Русак... – прошептал Федюшка, сжимаясь еще теснее.
Митя никогда не видел Русака, не знал даже, как его зовут по-настоящему, знал только это уличное прозвище и еще слышал, что он вернулся из тюрьмы, где долго сидел за воровство. Об этом человеке все говорили плохо, все его боялись. Вот и Федюшка испугался... У Мити что-то сжалось в животе, задрожали губы.
Грубые шаги раздались совсем рядом. Навозная жижа хлюпала под сапогами, доски, брошенные через двор, ухали и шлепали по мокрой земле. Раздался звон покатившейся бадьи, глухой удар сапога по ушату, грохот тяжелых посудин. Русак бормотал про себя непонятное, ругался, пинал ногами бочки.
И тут Федюшка заплакал. Его плечо, прижатое к Митиному, мелко затряслось, а щека, прижатая к Митиной, сделалась мокрой. Это испугало Митю больше всякого шума. Он понял: начинается страшное. Но странно, слез не было, он не знал еще, чего бояться.
Вот тогда Русак подошел к их бочке, заглянул, молча, с недоумением рассматривал ребятишек. Митя поднял голову и увидел большое лицо, заросшее черной щетиной, черный рот, черные провалы глаз. Митя не мог отвернуться – так и замер. Сверху потянулась черная мохнатая рука, раздалось бормотанье, хрип, рычанье – не разобрать что. От рези в животе, от испуга Митя завыл.
Русак не мог достать мальчишек. Сначала это удивило и рассмешило его. Он тянул руку и шевелил короткими пальцами. Потом стал злиться, пихать бочку ногой, стараясь свернуть и опрокинуть, но она всосалась в навоз. Бросив эту затею, Русак отошел и тотчас вернулся с широким ушатом. Не глядя на мальчишек, он грохнул ушат и прикрыл их словно крышкой.
– Буэте з-з-знать, кэ-эк в тюрме... Буэте... бога душу. Пирясята... Во кэк в тюрме тёмно... Туды вашу...
В бочке сделался мрак – ушат почти закрыл ее, лишь сбоку оставалась узкая щелка.
Федюшка заревел в полный голос, Митя выл уныло и однотонно. Страх и безнадежность давили их. Плач, дыхание и слезы заполнили бочку до краев. Мальчишки стали задыхаться, биться в стенки, метаться в кромешной тьме. Они не пытались поднять дубовый ушат, они знали, что останутся тут навсегда, задохнутся и никто не найдет их. Ужас обреченности впервые охватил их души. Отчаянный вопль оглушил их самих.
Обессилев, они затихли, сели на корточки, хлюпали носами, прижав лица к коленкам.
Чьи-то голоса раздались над головой. Они уже не могли разобрать чьи, они не ждали спасенья.
Ушат сдвинулся и, проскрежетав по краю, глухо чавкнул в навозной жиже. Ребята подняли глаза. На них смотрел отец Федюшки Николай Михалыч и мать тетя Поля.
– Ирод проклятый, напугал ребят-то! – распевно сказала тетя Поля в глубину двора.
– Давай руку, – нагнулся к Мите Николай Михалыч и легко вынул его, потом Федюшку.
Митя запомнил навсегда это чудо избавленья, простор двора, показавшегося светлым и высоким, ласточку, мелькнувшую в солнечном луче, добрые лица знакомых людей, звонкий шлепок, доставшийся Федюшке... Все вызвало ликованье, радость.
Николай Михалыч взял Митю на руки и понес в избу. Он улыбался, от него сладко пахло водкой, огурцами и мочалом. Запах мочала в их доме был самым сильным и привычным – вся семья ткала из липового мочала рогожи.
Посреди избы стоял Русак. На свету он еще черней, чем там, у бочек. Черное лицо, черные глаза без зрачков, черная косоворотка с разорванным воротом, черные волосы на груди, черные руки. Не верилось, что он родной брат доброго Николая Михалыча. И Митя никогда в это не верил, хотя знал, что он его брат. Здесь, среди знакомых людей, он не казался уже таким страшным, как там, на дворе. Здесь он был лишний какой-то, чужой и потому не страшный. Но Митя все-таки убрался подальше – к печке.
– Пошел, пошел отсель, идол! Ишь ребятишек напугал! Пошел! – пропела тетя Поля.
Русак зашевелил короткими пальцами, сжал огромные кулаки, пробормотал что-то несуразное и грохнул дверью.
Николай Михалыч убрал со стола пустые бутылки, тетя Поля смахнула огрызки огурцов и луковых перьев, кликнула детей. Вошли три девчонки, уселись на лавке у окна. Митю усадили на вихлючую табуретку рядом с Федюшкой.
Тетя Поля вывалила из чугунка на стол горку па́рных, сахарно-лопнувших картошек. На газете разложили запашистую соленую рыбу, тоже вареную, но не потерявшую вкуса живой соли. Стрелки зеленого лука и чашка белого кваса – в дополнение ко всему.
– На-ко, покушай, – говорит Николай Михалыч и подает Мите очищенную картошку. Митя берет и тут же роняет – так она горяча, катает по столу, сдувает вкусный пар. Ему хорошо и радостно от того, что страшное миновало и опять они с Федюшкой в добром мире знакомых людей. Николай Михалыч отламывает пласт рыбы и кладет рядом с Митиной картошкой.
И сейчас, через сорок лет, Митя ощущает на языке крупчатую сладость той картошки и резкий душок пересоленной рыбы...
Он помнил их избу всегда заваленной мочалом, наполненной густым маслянистым запахом вымоченной липовой коры. Все семейство было связано этим мочалом. Придет позвать Федюшку на улицу, а тот сидит, вдевает мочалины в дырочки бёрда – приспособления, похожего на огромную гребенку, – готовит основу для рогожи. Это называлось «сучить бёрда». Сестры тоже сидят с бёрдами или выбирают длинные мочалины из кучи, делают связки. Столько дырочек в бёрде, столько нужно мочалин – никак не дождешься Федюшку. И сам он хмуроватый, неразговорчивый, как будто взрослый.
Однажды Митя захотел помочь ему, чтоб поскорей покончить с бёрдом. И не смог. Работа быстро утомила – мочало не слушалось, пальцы щипало от мелких заноз, да и сучил Митя очень медленно. А Федюшка просиживал над бёрдом по многу часов. Пальцы его загрубели – горячую картошку он не бросал на стол.
Во время работы Федюшка отдалялся от Мити, уходил в неинтересный и трудный мир взрослых. Митя оставался один. Без Федюшки ему становилось одиноко и пусто. На крыльце не хотелось лезть по столбам, улица казалась унылой, на речку и в лес не тянуло. Он слонялся без дела, ожидая, когда освободится друг.
2
Лучшим из дней было воскресенье. В воскресенье никто не сучил бёрда и не ткал...
Память возвращала Митю в одно давнишнее утро. А может, это было и не одно утро. Через столько лет несколько дней могли слиться в один.
Митя помнил выскобленные полы и лавки. От сырых еще, пахнущих мокрой сосной половиц слепяще отражается солнце. У каждого окна – горячая глыба света. Федюшка в красной кумачовой рубашке, в новых штанах – синих с белой полоской – стоит у окна. От его рубашки солнце еще горячей. Он светится и горит в яром пламени, в радости воскресного утра. Митя смотрит на него и с необъяснимым волнением ждет чего-то необычайного, светлого, что должно случиться. Он не знает, чего ждет, что случится, но чувствует, как солнечная радость хочет принести еще больше радости.
И вдруг незнакомым поющим голосом Федюшка начинает читать стихи. Строчки остаются в Митиной памяти, словно записанные солнечным лучом.
...Что за песни, за звуки польются
День-деньской от зари до зари...
Ни раньше, ни потом Федюшка никогда не читал вслух стихов. Только раз, только в то утро. До этого Митя не понимал и не любил стихи. А тут впервые почувствовал, как тонкое жало входит в сердце вместе со словами. И хочется плакать, и неловко чего-то, и хочется убежать, и не можешь не слушать. Ликующий незнакомый Федюшкин голос наполняет избу чем-то неведомым, огромным, будит пугающие и притягательные предчувствия.
Митя никогда еще не слышал такой обнаженной сердечной радости, вылитой в слове, в голосе, повергающей в смятенье, в неловкость, вспыхнувшую неизвестно перед кем, наверное, перед самим собой. Да, это были радость и неловкость вместе. Неловкость из-за беспредельной доверчивости, с какой Федюшка высказал всего себя в чтении незнакомых Мите стихов. Митя не понимал еще, но почувствовал, что теперь и сам станет читать стихи, что надо читать стихи, надо проникать туда, где так свободно живет его друг.
И какой-то глубинный голос шептал ему, что эти мгновенья – чудо, что никогда, нигде не повторится это пение утренней птицы, это солнце на медовом полу, этот громкий кумач на плечах друга, эти слова, пахнущие луговым простором, этот огромный день, сулящий радость.
Потом они шли босиком по солнечной улице, по теплой пыли дороги, по холодящей траве. Их обгоняли двухколесные телеги – одры, везущие на базар что-то закрытое рогожами, дерюгами, спрятанное до поры от глаз. Их обгоняли бабы в белоснежных с красной оторочкой накидках, в синих панёвах, в свежих платках, еще хранящих складку, в новых лаптях или сверкающих калошах. Мужики в ярких рубахах, в жилетках, в черных картузах с высокой тульей и узким козырьком.
Все сегодня празднично особенно. Митя и не мог подумать, что такая праздничность сделается из-за стихов, прочитанных Федюшкой, из-за нового чувства, вошедшего в грудь. И сам Федюшка сегодня не такой, как всегда. Он не нарвал репьев и не бросал тайно в проходящих баб и в Митю. Митя тоже не стал рвать репьи. Удивительно – рука не поднималась бросаться репьями. А ведь по пороге на базар это было всегдашним их развлечением.
Пестрота и гул базарной площади видны и слышны издалека. Голоса людей, лошажье ржанье, мычанье коров, блеянье овец, шамканье шарманки – все соединяется в один столб, вознесенный в безоблачное небо. Это и есть праздник. Издали он еще приметней, отсюда его можно охватить разом, вобрать целиком.
И еще один звук входит в базарное разноголосье – Федюшка хлопает себя по штанине, и раздается звон монет. Он говорит, что отец дал ему сегодня полтинник. Сумма неслыханная. Это тоже праздник. Митя чувствует даже легкую усталость от такой густоты праздничных неожиданностей. Он завидует Федюшке. Хотя, чего ж тут завидовать? У того отец работает в кооперации. Бочки тогда у них во дворе были кооператорские. Если столько бочек, то и денег не меньше. Не удивительно, что Николай Михалыч дал сыну полтинник. У Мити никогда не бывало столько денег. Его отец инженер и кроме листов с чертежами ничего домой не приносит. Будь он кооператором, тоже дал бы не меньше. Но он инженер, и каждый раз, как они собираются на лето в деревню к деду, отец Мити сетует на безденежье.
На базарной площади одры стоят рядами. Рогожи и дерюги с них сняты. В соломе и сене круглятся яблоки. Самые сладкие – терентьевки – в красных полосках, бордовые аниски, прозрачный от сока белый налив, желтые вязкие китайки. Рядом – бурые, дынно-оранжевые перезрелые огурцы, пряно пахнущие снопы укропа, тугие стрелки лука, из которых получаются свистульки, поющие, как соловей. В соседнем ряду – горшки, глетчики, махотки, миски, кринки, глиняные свистушки, лошадки, расписанные пестро...
Всем этим друзей не удивишь. Они даже не берут с воза по яблоку «на пробу», что разрешено обычаем, которым всегда пользуются мальчишки. Брать на пробу не возбраняется никому, хотя продавец знает, что кроме этой пробы ты ничего не можешь. Главное было в другом. И Федюшка пошел прямо туда, минуя мелкие соблазны.
Он повел Митю к ларькам, где под брезентовыми тентами пылали полосы шелковых лент и горело разноцветье материй, где зеркала дробили мир на пестрые куски, где надсадно дудели «уйди-уди» – свистульки с резиновым шаром в виде головы чертика, где торговец разложил на крышке чемодана пугачи и пачки пробок, грохавших, как выстрел из настоящего ружья, где цыгане хвалили свои подковы, серпы и таганки, где неведомой нации человек торговал медовыми ломтями сушеной дыни...
Где в окошке зеленой палатки висели и лежали невиданно-длинные, перевитые цветными ленточками конфеты... Таких конфет мальчишки не видели никогда. Пугачи, зеркальца, уйди-уди – все влекло, но было знакомо. А конфеты в локоть длиной...
Они остановились. Митя всегда робел в рядах палаток и лотков. Мать давала в воскресенье гроши или вовсе ничего, поэтому вид базарного изобилия вызывал у него некую отрешенность. Он бродил среди торговцев и смотрел на прилавки, как на сон, привидевшийся наяву. Таким сном были и удивительные конфеты, похожие на палки в обертке с махрами на концах. Одной конфеты, наверное, хватило бы на целый день сосать и мусолить понемножку.
Федюшка стоял, сунув руку в карман. Он не мог побороть изумленья, но в фигуре его не было отрешенности, как у Мити. После недолгого раздумья он смело подошел к палатке, сказал что-то продавцу (Митя не мог понять что, ибо это было невероятно) и достал деньги...
Продавец подал две конфеты – яркие, как жар-птицы. Федюшка взял их за махристые хвосты, поднял ко лбу и повернулся к Мите. Он смотрел на Митю сквозь их пестроту, глаза его полнились радостью, лицо пело, рука отбивала такт неслышной песни. Он протянул Мите конфету.
3
И еще одно раннее утро помнил Митя. Он бежал через луговинку от дедова дома. На ледяной росе оставались мокро-зеленые следы, ноги ломило, путь до соседнего крыльца казался нескончаемым. Митя держал перед собой шахматную доску, в которой постукивали лаковые фигуры – подарок отца, приехавшего вчера вечером в отпуск. Отец успел научить его переставлять коней, королей и даже научил одной хитрости. Митя плохо спал ночью – так хотелось показать игру Федюшке.
И вот он на крыльце. Ступеньки, пригретые солнцем, горячи, как плита. Федюшка, сонный, со слипающимися глазами, в мятой рубахе сидит на приступке. Через перила переброшена перина. Душно пахнет мочой и теплым пухом. Это всегдашние запахи солнечного утра.
Митя достает шахматы. Федюшка никогда не видел такой игры. Глаза раскрываются, сон проходит. Он перебирает фигуры, каждую рассматривает, ставит на пол. Особенно нравятся головы лошадей желтой и вороной масти. У них оскалены рты – сейчас заржут... Митя говорит, что лошадей зовут «кони», точеные резные катушки – туры, замысловатые, как шары у кровати, – король и королева. Он расставляет их по доске – каждую в свой квадратик.
Тетя Поля кричит из избы, чтоб Федюшка нащипал лучины для самовара. Но он не может оторваться от доски, заставленной блестящими фигурками, – смотрит, как ходит пешка, офицер, тура... А конь-то как скачет! Вбок. Это верно – лошади они такие, норовистые... Федюшка враз упомнил все ходы, и нетерпелось ему сразиться с Митей в игре, но прежде все-таки пришлось нащипать лучины: мать выглянула из двери и сказала «идола».
Зато до завтрака, после которого принимались сучить бёрда, время было свободно. Уселись на ступеньки, начали играть. Митя сразу применил единственный известный ему хитрый прием, показанный отцом – мат после первых же шагов. Федюшка попался в ловушку, проиграл и понял, наконец, что значит «мат» (до этого слово это напоминало только ругательства и никак не вязалось с такой красивой игрой). Второй кон Митя начал прежней хитростью, был уверен в победе и громко насвистывал. К его досаде Федюшка выставил вперед пешку, разрушив коварство западни. Не умея ничего поправить, Митя огорчился и нахохлился. Федюшка съел у него почти все фигуры, загнал одинокого короля в угол и поставил мат. Потом он еще раз выиграл. И еще раз. И еще. И после сколько ни играли, никогда Мите не везло.
4
Вечером ребята со всей улицы собирались на лугу около речки пасти коров после дойки. В сумерках шапками и кепками мальчишки ловили жуков, собирали в спичечные коробки, слушали, как они скребутся и пищат, сжимали в потных кулаках, берегли. Потом пускали девчонкам за шиворот и в волосы – начинался визг, смех, слезы и свалка. Попозже, когда совсем темнело, утихали. На луг вместе с туманом опускалась умиротворенность и тишина. Лишь устало вздыхали коровы да слышался их сочный хруп.
Ребятишки садились у обрыва, говорили вполголоса разные истории и сказки. Смешного не рассказывали в такое время – только серьезное и страшное. Однажды размечтались, кто кем станет. Каждый хотел необычайного – видел себя моряком, летчиком, танкистом, на худой конец – начальником станции в красной фуражке, передающим жезл на проходящие поезда. Каждый отстаивал свое, ссылаясь на кино, на теткина мужа или просто на картинку, висевшую в избе: моряк в бескозырке с винтовкой у плеча улыбается ясной улыбкой «Всегда на страже рубежей!».
Очередь дошла до Мити, он быстро ответил, что хочет в моряки, хотя, по правде, не задумывался еще о далеких временах, когда придется кем-то быть.
Потом был черед Федюшки. Тот сидел, надвинув на лоб треух, закутавшись в драный отцовский пиджак. Он словно уснул – ничего не говорил. Его стали тормошить, приставать. Тогда он твердо, но вроде бы нехотя ответил: «Я в конюха пойду». И ребята притихли сразу. Поняли – он один по-настоящему знает, кем станет, у остальных же пока одни слова.
Он любил лошадей – это видели все. С лихостью, с радостью, с восторгом вскакивал он на мышатого кооператорского мерина, дергал за уздечку и гнал к речке на водопой. Его высоко подкидывало на холке, и казалось – Федюшка летит в надувшейся пузырем рубахе. Из ребятишек лишь ему доверяли поить лошадей.
Он знал всех жеребцов, меринов, кобыл и жеребят в селе, знал имя и норов каждого, был близок к колхозному конюху и даже помогал ему запрягать. Сбрую Федюшка знал наизусть: хомут, супонь, дуга, чересседельник, подпруги, уздечка, удила... Он не мог еще сам закинуть дугу, затянуть супонь, но мог подать запрягающему всякую часть сбруи.
И еще. Он мастерски плел кнуты. Плел из мочала, из пеньки, из сыромятной кожи. Плел короткие кнуты на длинной ореховой или вишневой ручке – погонять лошадь с телеги. Плел пастушеские кнуты – длинные с короткой ручкой, с волосяным «подхвостником» на конце. Кнут оживал у него в руках – вился змеей, бежал волной, кольцом крутился над головой, хлопал так, что в ушах звенело – громче выстрела из пугача. По хлопанью кнутом никто не мог спорить с Федюшкой. Сам пастух сказал, что он хлопает громче всех.
5
А это много позже, в юности уже... Митя не помнил в каком году. В памяти его не было лет, не было дат... Было чувство, тепло души, были встречи, которые, не тускнея, оставались всегда...
Виделся хмуроватый летний день, па́рный после теплых дождей. Митя шел босиком по лужам, по сырой сочащейся траве, шел вдоль дождевого ручья к низкой луговине, полной мутной воды. Там хорошо бродить среди озер и заводей, открывая незнакомый мир, сотворенный ливнями, лугом и воображением.
Два дня непогода не выпускала из дома. И вот – влажный простор, теплая земля, высокие отдушины в облаках, за которыми – доброе солнце. И так радостно и так тревожно... Радость и тревога часто теперь сходились вместе. Вдруг застучит сердце, перехватит дыхание, темные пятна заволокут взор... И хочется идти, идти, искать что-то манящее, открывать неведомое в мире и в людях.
И все чаще летняя жара, парные непогодные дни и душные ночи будили сладкие и стыдные желания, и от них не избавиться... Митя тайком засматривался на женщин, которых жара вынуждала одеваться легко, и сам себя стыдился, и немел, и не мог унять удушающего волнения. Приходило оно неожиданно, неуместно и странно сплеталось с окружающим... Пробираясь по скользкой тропинке, он смотрел на ручей, и в изгибах струй чудилось что-то округлое, плавное, изгибающееся, влекущее... Он отводил глаза, но те, помимо воли, сами возвращались к бегущей воде и находили, чего хотели, и наползала сильными толчками черная пелена, и желание казалось осуществимым. И было невыразимо-стыдно перед всем миром: перед ручьем, травой и небом, и хотелось, чтоб кто-то избавил от этой стыдной муки.
И тогда сквозь туман, полубред, он услышал чавканье копыт за спиной и обрадовался, что сейчас отвлечется от тяжелого волнения и нечистых мыслей.
Обернулся и отрезвел: прямо на него шла большая белая лошадь. Ее вел за уздечку Федюшка...
После приезда в деревню Митя еще ни разу не видел его, не зашел, не справился даже... И ведь собирался да все откладывал, оттягивал беспричинно. И увиделись, наконец, и удивительно, и досадно на себя, на ужасные свои желания и эту гадкую игру с ручьем...
Но Федюшка не выказал ни обиды, ни осуждения. Он смотрел из-под козырька надвинутой на лоб кепки, слегка закинув голову и улыбаясь.








