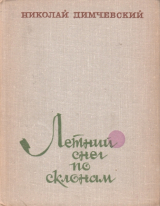
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
3
Издавна завидовал речникам. Не тем, что на белоснежных пароходах, а тем, что на баржах. Сядешь на обрыв и смотришь, как медленно тащится по Оке «воз» белян и гусян с запряженным в него мазутным буксиром. Вдоль борта висит белье, мать на корме стирает, рядом – бесштанные детишки, – все буднично, просто, как в избе или во дворе. Но вокруг – простор реки, высокие облака, луговые дали, теплый ветер, пропитанный запахами водорослей и рыбы. И от всего этого простая стирка приобретает таинственность некоего вселенского действа. Не хочешь верить, что там все, как дома – там все иначе, удивительней, выше и чище. И хотелось пройтись с ними по реке – хоть немножко, пожить в этой бродячей и такой оседлой семье, кочующей вместе с домом средь синих далей.
Не скоро желание осуществилось. Миновало, пожалуй, лет двадцать... Занимая в одном учреждении неплохую должность, я начал постепенно замечать, что становлюсь чем-то вроде заводного паровозика: повернут ключик, и он бежит по круговому пути от будочки до станции...
Дорога от дома до учреждения, и дела внутри учреждения, и путь от учреждения домой настолько примелькались, что стало возможным все совершать с закрытыми глазами – круг повторялся за кругом, год за годом, мир исчез...
И тогда вспомнилась река, баржи, луговой простор, чья-то жизнь и работа в речном раздолье. И рука, прорывая привычный круг, сама потянулась написать заявление об уходе и заявление о приеме в отряд инженерно-геологической съемки, отправлявшийся на Ангару...
И стою уже на высоком берегу Енисея, и внизу – баржа-самоходка. Наша баржа! Мы грузим ящики, мешки, рюкзаки, устраиваемся на крыше рубки, последний взмах руки: прощай, база! Минуем кусок широчайшего Енисея, у поселка Стрелка входим в устье Ангары, поднимаемся вверх через пороги и шиверы. Жизнь на барже и впрямь оказалась необычайной и самые прозаичные житейские дела, вроде стирки, сна и обеда, среди простора на фоне синих скал и тайги обретали какой-то иной, глубокий смысл.
После того сезона захотелось получше увидеть Енисей, и удалось пройти его с рефрижератором до Дудинки и назад до Красноярска. Потом Лена, потом Иртыш и Обь... Светлые ночи в рубках, жаркие дни на палубе, снег по берегам в июле, незаходящее солнце, рассказы капитанов о причудах реки, легенды о речных радетелях и оратаях, судьбы, в каждой из которых – золотая крупица (не приходилось встречать на реке человека неинтересного, скучного, пресного) – все вбиралось, запоминалось, откладывалось. И одним из первых отстоялся рассказ о человеке робком и незаметном, но по-своему сильном, увиденном в рейсе по Енисею.
ДВЕ СИГАРЕТЫ
Как подошли к Полярному кругу, сразу похолодало. По стеклу иллюминатора поползли капли, и тысячу раз повторялся в них затянутый мутью Енисей, черные волны и блеклая зелень плоского берега. Ольга Кузьминична мельком взглянула на реку, зевнула и поежилась под платком; она мерзла и поэтому почти целый день провела в каюте на койке, укрывшись одеялом, но сейчас поднялась, чтоб посмотреть Курейку – поселок на левом берегу.
Не видно. Значит, прошли. Да, прошли – повариха Маша стучит в дверь:
– Обедать идите! Бесплатный нынче обед! Обедать!
В Заполярье команде прибавляют к зарплате на еду. Выходит, прошли Курейку... И чего вспомнилась Курейка? Старость, что ль, подошла?..
Ольга Кузьминична не любила воспоминаний, потому что они были такими же холодными и мутными, как сегодняшняя погода, от них становилось зябко.
А ведь тогда в Курейке был солнечный день. И Енисей был синий. Но еще синей глаза у Павла Петровича, синей и резче. Страшно и захватисто было смотреть на него. Как мигом вскинул он бак, обросший едким пламенем бензина, и швырнул за борт! И все были спасены. Только правая рука Павла Петровича вспыхнула, и он взмахнул ею, как крылом, и огненные перья падали в воду. Только в воду – ни одна искра не угодила в катер, где стояла бочка с бензином и сидели люди.
Вечером Ольга Кузьминична склонилась над кроватью и, как могла, успокаивала Павла Петровича. Единственный раз ей удалось так близко побыть возле него. Если б хозяйка не уехала в Туруханск – никогда она даже не дотронулась бы до этого человека, так и смотрела бы на него издали. А тут вот какое счастье – она гладит его левую, дрожащую в ознобе руку. Даже не руку, а одеяло, прикрывающее Павла Петровича. Но все равно – это счастье. Она наклонилась к его лицу, совсем близко, слышит дыхание. Он открывает глаза, смотрит непонимающе...
– Обедать! – стучит Маша в дверь. – Обед бесплатный простынет!
Ольга Кузьминична кутается в платок и стоит, не решаясь выйти из каюты. Наконец отбрасывает воспоминание и идет. Она садится в уголке, у стола, который слева от входа. Кроме нее, здесь никого. Команда маленькая, и все помещаются за столом справа, напротив окошечка, из которого Маша подает тарелки с супом.
Ольга Кузьминична изредка незаметно посматривает в ту сторону. Костя-радист, курчавый парень в тельняшке, рассказывал анекдоты, но замолк, когда она вошла. За столом команды всегда смолкали при ее появлении. Она привыкла к этому. Она здесь человек чужой. Сопровождает груз, и только, Никакого дела здесь у нее до самой Дудинки не будет, поэтому ни с кем близко она и не знакомится. Да если б и захотела, ничего у нее не вышло бы. Здесь все мужчины, а у них она никакого интереса не вызывает – Ольга Кузьминична знает это. И все-таки изредка потихоньку посматривает на Костю. Он ей нравится.
Не проходит рейса, чтоб она не влюбилась в кого-нибудь. Сильней или легче, а обязательно влюбится. Она привыкла к этому, но все равно всякий раз мучилась от неразделенности чувства и больше всего от того, что знала – никто ее не полюбит. И еще безнадежность давила ее, когда она видела детей...
Одиночество окружало Ольгу Кузьминичну всюду, от него не было избавленья. Она знала: навязчивым поводырем оно пойдет рядом до конца. Ночами и в дожди, в холодных каютах, в портовых сторожках и общежитиях, когда ветер сыро и хлипко бьет по железу, приходило страшное чувство пустоты и бесцельности жизни. Ольга Кузьминична куталась в платок, закрывала глаза. Оцепенение охватывало плечи, прижимало подбородок к груди, пронизывало холодной дрожью руки.
И только минуты безнадежной влюбленности отчаянно и горько кружили голову.
Ольга Кузьминична проглотила две ложки лапши, пожевала хлеб... И вдруг с неожиданной для самой себя смелостью посмотрела на Костю. Они встретились глазами. Радист обсасывал кость, губы его лоснились, к загорелой щеке прилипла крошка. Он подмигнул Ольге Кузьминичне, отложил кость и вытер тыльной стороной ладони рот.
– Маруся, что на второе? Опять вермишель! Ох-хо-хо... Воротит... Ну, положи побольше.
Когда он принялся есть, Ольга Кузьминична подумала, что забыт не только этот взгляд ее, но и самое ее существование для Кости безразлично. Она поднялась и ушла в каюту.
Полутьма давила. Один вид холодной койки вызывал озноб. А в иллюминаторе все плыли и плыли умноженные тысячью капель низкие тучи и белые барашки на волне.
Енисей, дождь, берега – все было знакомо до мелочей. Вся жизнь до самого конца тоже была заранее известна. От этого охватывало отчаянье и на мгновенье останавливалось сердце. Разум не хотел знать будущего, душа желала неизвестности, неожиданного чуда, небывалого изменения судьбы. Но даже самое это желание поднимало в сердце такую горечь, что вынести ее, казалось, нет сил.
Ольга Кузьминична представила себе порт Дудинку, разгрузку, контору, потом аэродром в Норильске, возвращение в Красноярск... И снова Енисей, и опять самолет. И так все лето.
В Дудинку пришли вечером, встали на рейде ниже порта. Ольга Кузьминична вышла на мостик. Ветер пробивал платок и сводил холодом руки. Незаходящее солнце изредка пронизывало тучи, и от одинокого луча, упавшего на серую реку, округа казалась еще более темной, а волны ледяными. Несколько теплоходов виднелись в ненастном сумраке.
Опять придется ждать очереди под разгрузку. Суток трое.
Ольга Кузьминична поежилась под брезентовым плащом, накинула капюшон и с опаской спустилась по крутому трапу на палубу, сплошь заставленную грузами. Потом, пригибаясь от ветра и придерживаясь за мокрый поручень, пошла к носу. Там громоздился штабель ящиков с консервами, их-то она и сопровождала.
Ветер круто надул тяжелый брезент, он парусил над штабелем. Один конец отвязался и трепыхал, шлепал по ящикам, иногда его задирало вверх, и он летел под облака. Ольге Кузьминичне удалось схватить угол, но она не смогла его удержать – сырой ворс выползал из рук, брезент был как живой. Во второй раз она уцепилась пальцами за кольцо, вправленное с угла в материал. Порывом ветра ее бросило на ящики, она оцарапала колено. Наконец, удалось подвязать к кольцу веревку и укрепить на поручнях.
Ольга Кузьминична прислонилась к лебедке. Руки дрожали от напряжения. Сердце тоже дрожало. И губы дрожали.
Здесь в эту пору никто не мог ее увидеть, и она заплакала. Мелкий дождь бил в лицо, капли мешались со слезами, смутные очертания берега совсем расплылись.
Ольга Кузьминична присела на палубу, бросила руки на цепь, уткнулась в рукав и разрыдалась. Стало немного легче. Дрожь прошла. Но она так и осталась сидеть на железной палубе, не поднимая лица.
Ей казалось, что она не одна. Шагов она не слышала, только почудилось, что кто-то смотрит в спину. Ольга Кузьминична обернулась. Рядом стоял Костя-радист.
– Мы подумали: не упали бы за борт. Скользко... – смущенно сказал он. – И времени много, как вы ушли. Вот меня и послал капитан...
Костя был в рубашке с закатанными рукавами, на бровях и волосах – капельки измороси. Он высок ростом, а сейчас показался Ольге Кузьминичне совсем великаном: волосы загребали облака, плечи – выше мачты.
Так недоступен этот человек, так далек... Ольга Кузьминична почувствовала, как теплые струйки опять поползли от глаз к подбородку. Слезы мешали, но она глядела на Костю не отрываясь.
Он растерянно и недоуменно постоял под ее взглядом. Ей показалось, что он сейчас уйдет. Но Костя подошел вплотную к ней, достал сигареты и протянул пачку.
Дрожащими пальцами Ольга Кузьминична хотела взять сигарету, но та все выскальзывала. Это длилось до неловкости долго, Ольге Кузьминичне стало жарко, а сигарета не давалась в руки. Без Костиной помощи она, наверное, так и не смогла бы ее достать.
Костя присел на корточки рядом, подал укрытую в ладонях горящую спичку.
Ольга Кузьминична затянулась дымом. Ей не стало легче от того, что Костя был рядом, ничуть не стало ей легче. Видеть его лицо, его глаза, принимать из его рук сигарету и огонь – все это причиняло нестерпимую боль. Боль безнадежности, боль от случайности происходящего, от сознания того, что ее пожалели и Костю послал капитан, а не сам он, не от души пришел сюда...
Радист сидел на корточках, прислонившись спиной к ящикам, и курил. Бисеринки дождя в его волосах делались все крупней. Он словно седел от измороси.
Ольга Кузьминична подумала, что в каждой капельке сейчас отражается ее лицо, постаревшее, в платке, в капюшоне, надвинутом до бровей; отражаются ящики, низкие облака и черные волны с разорванными гребешками холодной пены. И каждая капля – это день ее жизни, день, похожий на другие дни, и если бы они слились все вместе, по щеке Кости протянулась бы тонкая струйка холодной воды. Протянулась бы и упала на палубу мутными шариками, беззвучными и ненужными в этом море сырости и тумана.
Так они сидели молча. Но молчание, странно, не рождало неловкости. Они курили, и это словно было каким-то общим делом, избавляющим от необходимости говорить.
Ольга Кузьминична прижалась к мокрому железу лебедки и не замечала холода. И когда она поняла, что не замечает холода, ей сразу стало тепло и спокойно. Боль безнадежности пропала. Впервые за многие месяцы перестало давить сердце, оно расправилось, развернулось в груди, заполнив спокойным теплом все тело. Да, просто спокойствие, отдых и благодушие сошли к ней.
Но совсем ненадолго. Сигарета кончалась. Ольга Кузьминична стала делать самые маленькие затяжки, стараясь продлить эти минуты спокойствия и мира в своей душе. А сигарета уже обжигала пальцы, и боль напоминала о всегдашней боли, которая чуть отошла и опять должна вернуться.
У Кости тоже кончалась сигарета, он пригасил окурок в лужице и поднялся.
Ольга Кузьминична закрыла глаза, чтоб не видеть, как он уйдет. И вдруг он сказал:
– Закурим по второй? Хотите?
И улыбнулся. Улыбнулся всем лицом – глазами, губами, мокрым лбом, капельками в волосах, весь улыбнулся.
Робкая радость и удивление колыхнулись в груди Ольги Кузьминичны. Она села поудобней и откинула капюшон. Почудилось ей, померещилось ли, показалось... В голосе Кости была нежность. Нежность. Не жалость, не снисхождение, а нежность. И если даже почудилось, все равно это было удивительно.
Ольга Кузьминична спрятала в рукав зажженную сигарету и забыла про нее. Она подумала вдруг, что совсем ведь не стара еще. Тридцать четыре. Совсем не старость. Эта мысль обрадовала, Ольга Кузьминична повторяла ее на разные лады, повторяла и радовалась. И Костя стоял рядом. И ветер наотмашь бил его по щеке, сметая волосы в сторону.
И как тогда, в Курейке, все показалось возможным и простым. Только протянуть руку и наткнешься на счастье... Даже если будет не все счастье, то хоть частица его. Как в детстве, когда достается сладость.
Горечь, копившаяся долгие годы, осела на дно. Засветились родники, которые казались иссякшими. Ольга Кузьминична боялась пошевелиться, чтоб не разрушить спокойной радости, так неожиданно пришедшей в эту безрадостную пору. Это было мгновенье отдыха, секунды, краткость которых осознается потом. Пока они длятся, жизнь нескончаема и широка.
Дождь усилился. Костя поежился – рубаха намокла и прилипла к плечам. Он должен сейчас уйти. Он уйдет...
Да, он собрался уходить. Но прежде нагнулся к Ольге Кузьминичне и протянул зажженную спичку, ловко запрятанную в ладонях.
– У вас сигарета погасла – прикурите.
Она потянулась и слегка дотронулась пальцами до его руки. И все. Костя ушел.
Ольга Кузьминична надвинула капюшон на глаза, докурила сигарету, посидела еще немного и пошла к себе.
Перед тем, как подняться по трапу, она посмотрелась в окно, занавешенное изнутри, и мгновенье не могла поверить, что горбатая женщина, отраженная стеклом, – она сама.
4
Жизнь пастухов-оленеводов манила, обещая неведомую внутреннюю слитность с природой, с простором тундры и ее обитателями. Тут было в чем-то сходство со стремлением к океану – так же зналось, но не верилось в реальность далекой стороны. Чужие описания увлекали, но убеждали не больше, чем фантастика про марсиан... Надо увидеть самому, почувствовать, вжиться – только тогда придет уверенность и возможность взяться за тему.
Первая встреча была вовсе мимолетной, однако она и укрепила желание проникнуть в неизведанные пределы.
На Лене, где-то за устьем Олёкмы... Ранним утром поднялся в рубку. Баржу вел молодо выглядевший, но не мало проживший и повидавший штурвальный. Он кутался в тулуп и посматривал на правый берег; в лице сквозило ожидание и непонятное, скрытое волнение.
По прибрежным тальникам слоился туман, дальние горы чуть мутнелись в дымке. И вот средь невысоких увалов вывернулось из утренней кисеи странное для этих мест строение – что-то вроде бревенчатой башни или каланчи, пристроенной к просторному сараю или дому – не разобрать.
Рулевой застенчиво улыбался про себя и смотрел, смотрел... И вдруг встрепенулся, тронул меня за плечо: «Гляди – олешки!»
Тут я впервые увидел оленей на воле. Небольшое стадо паслось на луговине перед сараем. Красавцы с тяжелыми коронами рогов, они казались чем-то сказочным, невозможным. Штурвальный почуял мое удивление и протянул бинокль. Оленей было девять, и каждого я рассмотрел, как мог, подробно, и не хотелось расставаться с ними. А баржа быстро бежала по течению...
Он сказал: сарай на берегу сейчас заброшен, а был когда-то перевалочной базой. С алданских золотых приисков добирались сюда или отсюда, с Лены, шли на Алдан – все через эту базу. Он вспомнил, как сам с матушкой приехал сюда на оленях и тогда впервые увидел Лену... Так, чуть упомянул об упряжке знакомого якута, их везшего, и о матушке, но в словах и в глазах было тепло и радость воспоминания.
Встреча эта осталась в душе. В конце концов мне все ж удалось пожить в оленьих стадах. На Полярном Урале присоединился я к ветеринарам, собиравшимся в тундру. От станции Елец на оленьих упряжках двинулись мы в глубину болотистых равнин; жили в чумах возле круглых озер и ледяных речушек, передвигались вдоль предгорий... На обратном пути со мной случилось несчастье, и меня, больного, вывезли из тундры на оленях к железной дороге. Но лишь через много лет написал я о подобном случае, хоть и не частом, но типичном для тех, кто передвигается на нартах.
ПРИГОРШНЯ МОРОШКИ
Когда Савельев уже наклонился, чтоб сесть, – олени рванули, нарты выскочили из-под рук и полетели по луговине...
Словно не замечая оставленного седока, Прохор со свистом и верещаньем погнал упряжку в ночную тундру.
И шевельнулась недобрая тревога – Савельев смутно почувствовал, что с Прохором ему не повезет, но прислушиваться к предчувствиям было некогда – он побежал за нартами, прыгая через кочки, с хлюпом вырывая сапоги из мокрого мха; догнать упряжку не мог, а бежал упорно, тяжело бежал. Он не понимал – забыл про него Прохор или просто решил подшутить. Впрочем, и то и другое неуместно, не нужно, нелепо. Не такая поездка, чтоб забывать или шутить. Савельев не давал обиде разгореться, понимая, что сейчас не время для обил, но обида и досада были, и от них теперь не убежать.
– Прохор! Эй, Прохор! – крикнул он таким голосом, что упряжка приостановилась.
Он подбежал, упал на нарты, и Прохор опять погнал – казалось, нарты вырвутся из-под седоков. Но Савельева теперь силой не оторвешь – впился руками в сиденье – плечи заныли. Потом выпрямился, поставил правую ногу на полоз, а левую все еще держал согнутой под собой и жестко проворчал:
– Рано гонки устраиваешь. Праздник оленевода не скоро.
Прохор мельком обернулся, засмеялся, забормотал что-то; в узких глазах радость, бешенство, неистовство, и все это он вымещает на оленях. Крутой вал ветра бьет навстречу, ломая и глотая слова, разрывая крик.
Савельев пожалел, что согласился ехать с ним, и еще ощутимей колыхнулась тревога. Он знал: Прохор спешит к невесте и обезумел от радости, может выкинуть что угодно. Только из-за свидания и согласился ехать в третью бригаду. Вечером, как сказали везти ветеринаров, он яростно отказался. Не отговаривался, не искал оправданий, а сразу – чуть заикнулись – наотрез, не спрашивая, куда везти. Но когда Кузьмин упомянул про третью, Прохор с такой же яростью, только радостной, рвущейся, согласился и готов был ехать тотчас, не дожидаясь ночи; схватил аркан, собрался ловить ездовых оленей – еле уговорили обождать. Он лучше всякого понимал, что ночью легче охать – комаров меньше, но ему было уже не до комаров и не до чего – заметался по чуму, выскочил наружу, стал править нарты, осматривать упряжь, петь, разговаривать с самим собой...
Кузьмин тогда и сказал, что у Прохора невеста в третьей бригаде. Савельев пропустил эти слова мимо ушей – своих забот хватало: увязать мешки с химикатами, аптечку, пристроить баллон с новым препаратом от гнуса, уложить насос для опрыскивания стада – целые нарты набрались. Главная забота и нетерпенье – новый препарат, который Савельеву предстояло испытать. Уже третий год после института занимался он оводом, комаром, мошко́й – всей этой тундровой нечистью, собирался написать статью, а после, если получится, и книжку. Испытания нового препарата сулили самые неожиданные наблюдения – все было интересно: и удача, и неудача. Вообще-то для Савельева в этом деле неудач не существовало, все годилось. Если бы он сумел показать, что препарат никудышный – вышла бы удача, а окажись препарат хорошим средством – это был бы настоящий праздник для него, для оленеводов и для изобретателей. Поэтому Савельев почти с дрожью нетерпения собирался в стада, где гнус особенно свирепствовал.
И вот перед самым отъездом, в последний момент, выяснилось, что ехать ему с Прохором, больше не с кем – все упряжки заполнены. Хотел присоединиться к Кузьмину, да у того нарты старые, могут не выдержать двоих.
Так и оказался во власти этого неистового влюбленного.
Прохор гнал остервенело, в забытьи, захлестнутый своей необузданной радостью, желаньем скорей перебороть дорогу. Они перелетели луговину, пропороли кусты, прочавкали по болотцу – все в мгновенье. Гонка эта была никчемной – аргиш[2]2
Аргиш – несколько оленьих упряжек.
[Закрыть] только тронулся, и остальные упряжки виднелись по бокам, они еще не собрались вместе, и отрываться от них все равно нельзя. Но Прохор уже не мог рассуждать, в него вселился бес нетерпенья, он не ехал, а шаманствовал, исступленно терзая оленей.
За болотцем выгнулся небольшой подъем, поросший карликовой березкой; дальше начинался овраг, Прохор встал на сиденье и загоготал, завыл, замахал хореем[3]3
Хорей – длинный шест, которым погоняют оленей.
[Закрыть]. Олени в испуге прянули на дыбы и побежали так, что от ветра заслезились глаза.
Сквозь эту муть Савельев увидел, что их выбросило на крутой склон оврага. Внизу, в глубине, корячились кусты. Он вытянул ноги вдоль нарт – хоть неудобно сидеть, зато будут целы...
– Нарты ломал! Иэ-э-эх! Не жалел! – не то в шутку, не то всерьез заорал Прохор.
Упряжка полетела вниз по склону. Савельев на какое-то мгновенье повис в воздухе, держась за сиденье одними руками. Вот дьявол, бес, наважденье!.. Он знал, что Прохору нет прока ломать нарты – кричит он от избытка страсти, но кто знает – может, олени понесли, перестали слушаться...
Савельев не боялся скорости – пугало безумие Прохора, куражливость его, пугало то, что они вовсе друг друга не понимают, и поэтому Савельев не может быстро управлять самим собой, как надо, как велит скорость и дорога.
Если олени понесли – нужно падать с нарт в кусты – это лучшее спасенье. Если Прохор куражится, надо накрепко прилепиться к сиденью. Но разбери, что тут творится, когда они очертя голову свистят в пустоте...
Нарты, конечно же, не сломались; Прохор при всем вихре и гоне стоял на них, словно привязанный – ни пошатнулся, ни на миг не потерял равновесия.
Тревога и неуверенность Савельева не удержали его от восхищения и зависти: никогда сам он не встанет так вот на нарты, не погонит напролом, куда сердце рвется, куда глаза глядят... До конца дней быть ему в стадах с оленеводами, и ничего другого не хочет он, и все ж до глубин, до сокровенности никогда не проникнет в древнюю эту профессию, в ее дух, в ее душу, в то неуловимое, что передается кровью и судьбами поколений. Он знает об оленях несравнимо больше Прохора и и узнает еще больше, но никогда не испытать ему вот этой безумной власти, неистового, жутковатого слияния с ними, когда пастух и упряжка, в одинаковом исступлении, не замечая земли, рвутся через простор.
Слетели вниз и, не сбавляя хода, скользнули по кустам, по дну оврага, почти не касаясь травы, почти по воздуху. Но теперь скорость уже безразлична, – Савельев с облегчением ослабил мышщы, распрямился – склон миновали, тут дорога простая – как ни гони, все по ровному.
От напряжения руки гудели, а ноги совсем затекли; он с удовольствием подогнул левую под себя, а правую поставил на полоз. И пробудилось даже что-то сходное настроению Прохора – тоже хотелось скорей добраться до третьей бригады, не терпелось начать испытания. Еще и в другом было сходство...
В прошлом году препарат этот привезла сюда, на Полярный Урал, Люда Тимофеева... Савельев встретил ее в управлении и ничего понять не мог. Не верилось, что так отдалились институтские годы, незаметно растерялись друзья, притупилась память о них... И вдруг оттуда, из прошлого – Люда Тимофеева. Стоит в коридоре и удивленно, обрадованно смотрит.
И вспомнился один день на пятом курсе. Один день, который мог решить судьбу, но ничего не решил.
После экзамена с десяток однокурсников поехали на реку, и там Савельев будто впервые увидел Люду, и она тоже что-то открыла в нем, и они потянулись друг к другу, и это было неожиданно и удивительно. Так случается только вначале, в юности. И запомнилось от того дня не много, но навсегда. Запомнилось, как, наплававшись, они отогревались на песке и Люда положила голову ему на грудь. Ее волосы щекотали руку и подбородок, и было радостно, и ждалось еще более радостное. До самого вечера они не расставались, и каждое касанье было как праздник. И поехали на заимку к однокурснику, недалеко от города. Там оказалась пустая изба. И Савельев с необычайной четкостью навсегда запомнил, как перед рассветом они с Людой очутились в маленькой комнатушке, и было холодно, и они легли на полу, и укрылись каким-то брезентом, и грелись, прижавшись, и тепло было сладким, и волосы пахли смолой, и ничего, кроме этого тепла, не желалось – они даже не поцеловались ни разу, и мысли не пришло о большей близости, и ничего кроме не хотелось – так чиста и воздушна была радость. И они уснули. А утром уже не верилось во вчерашнее – словно синий дымок их окутал и улетел – появилась стесненность, условности. Потом экзамены. Потом разъехались в разные концы.
И вдруг через два года – Люда! Мало изменилась. Только бледновата. Сказала, здоровье неважное. Это заметно. Привезла новый препарат для борьбы с гнусом...
И ведь осталось что-то в сердце от того дня. Осталось. Ни словом не вспомнили тот день, говорили о делах, о предстоящей поездке ее в тундру, но где-то за словами разумелся тот день.
Люда уехала в стада, Савельев чуть пораньше – на Ямал, и больше они не виделись. Только через месяц он узнал, что Люду в тяжелом состоянии вывезли из тундры – сердце не выдержало разреженного воздуха... Она, слава богу, поправилась и прислала письмо уже из дома. Но препарат в то лето так и не испытали. Теперь Савельев взялся за него. И не только потому взялся, что сам работал по гнусу. Была в этом тоненькая паутинка, протянутая в далекий смолистый день, паутинка, связывавшая его с прошлым вопреки всему. И один вид алюминиевого баллона, привезенного Людой, заставлял сердце сжиматься. И Савельев даже перед самим собой стеснялся этих несколько сентиментальных чувств, и ловил себя на том, что старательно закутывает баллон в кусок брезента, укрывая от посторонних глаз...
Вот почему начинал он понимать Прохора, находить какое-то сходство...
Упряжка все летела вдоль оврага, Прохор верещал, пугая оленей, хорей метался над ними, подстегивая и добавляя испугу, земля мелькала, слившись в зеленую полосу.
И тут случилось... Савельев сначала даже не понял. Правую ногу легонько подхватило и затянуло под нарты. Он спокойно вынул ее – подумалось: пустяк, чуть задело. Хотел снова поставить на полоз, но ступня не послушалась. Он посмотрел: ступня вывернута, загнута назад... И никакой боли еще нет.
– Стой, Прохор! Стой! Нога! – криунул Савельев так громко, что сам испугался.
Прохор обернулся – весь радость, порыв, страсть, непонимающе огляделся... Наконец увидел беспомощно отставленную ногу. Узкие глаза вспыхнули и погасли. Сдержал оленей, остановил, спрыгнул с нарт.
И когда Савельев увидел испуг Прохора, понял, что произошло не шуточное.
– Шевели нога... – упавшим голосом, сипло сказал Прохор.
Савельев побоялся пошевелить, хоть боли все еще не чувствовал. Рукой повернул ступню на место, и ему показалось, будто она наливается, заполняет сапог.
– Сымай, сымай! – сказал Прохор все тем же сдавленным голосом.
Савельев уселся поудобней и, к удивлению, довольно легко стащил сапог, носки... Нога чуть припухла в суставе – больше ничего. Он быстро натянул все обратно и встал с нарт. Сильная боль повалила его на бок.
Вот как. Испортил ногу. Он еще не совсем принимал случившееся, надеялся – пройдет, немного повредил... Но где-то вглуби шевелилось: «вот оно, вот чего ждал, что предчувствовал». И две эти мысли – надежда на неопасность произошедшего и темное, тяжелое предчувствие – скрутились вместе, сжали сердце.
Нога то принималась ныть, то совсем переставала. Но все явственней наливалась она в сапоге, распухала, и ничего доброго это не сулило.
Прохор суетился вокруг – заглядывал в лицо, причитал, сочувствовал, ругал себя, ругал Савельева, ругал оленей. Потом принялся успокаивать:
– Ничево, харош! Мой брат камень нога ломал, сильно ломал, кость вылезал, кровь... Полгода больница лежал. Сичас о‑хо! За олешком бегает – не догонишь! Ты не сильно ушиб, кровь нет, кость не лазил. Харош!
– Ладно, ладно... – отмахнулся Савельев. – «Харош», да не очень. Надо Кузьмину крикнуть, остановить аргиш.
– Садись, поедем.
Савельев осторожно двумя руками поднял ногу, положил вдоль нарты. Нога ныла, не находилось ей удобного места.
Прохор тронул оленей. Поехали вдоль оврага, выбрались на пологий склон, откуда завиднелись другие упряжки.
Вскочив на нарты, Прохор закричал по-хантыйски.
И тут Савельев впервые подумал, что испытания препарата, и все замыслы, и работа, которую они должны сделать вместе с Кузьминым, – все под угрозой. Он прислушивался к боли в ноге, то нарастающей, то стихающей, и с досадой ругал Прохора и себя самого, и понимал, как это бессмысленно, и ничего лучшего не мог придумать. Потом стал перебирать возможные диагнозы, и все получалось скверно – от перелома до сильного растяжения связок... Впрочем, растяжение было бы лучшим выходом. И он стал себя успокаивать, что у него именно растяжение и есть, а это значило, что можно отлежаться в третьей бригаде и даже работать, сидя на нартах...
Прохор от утешающих слов перешел к ворчанью и упрекам, принялся стыдить: оленей лечишь, нас учишь, а ногу ставить на полоз не научился. Так и брюзжал, всматриваясь в тундру.
Скоро затрещали кусты под полозьями, запыхтели упряжки. Подъехал Кузьмин, попросил снять сапог, покачал головой и сказал, что без хирурга и рентгена самим ничего решать нельзя. Нахлобучил капюшон суконного гуся[4]4
Гусь – суконный балахон с капюшоном.
[Закрыть], задумался, потемнел, черной глыбой встал перед Савельевым – загородил всю тундру. Прав он, конечно, прав... Не «оленьим докторам» лечить человечьи несчастья.
– Значит, так, – твердо сказал Кузьмин, – отвезем тебя до станции, тут рядом – тридцать километров. Остановишься у Канева, а потом – в поселок на поезде.
Достал трубку, набил махоркой, захрипел мундштуком, раскуривая.
– Боль острая? Может, новокаин вкатить? У нас есть новокаин.
Савельев отказался, попросил махорки. Скрутил козью ножку, хоть вообще-то не курил, но тут захотелось закурить. Пахнуло чем-то давним, детским – переездами, тесными станциями, бесприютностью суровых пространств... Да, именно бесприютностью пах махорочный дым. Запах этот тревожил сейчас, вселял жалость к себе самому.








