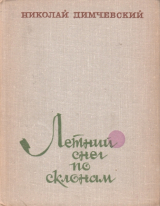
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
10
Там, в оленьих стадах на Полярном Урале, все само складывалось, как повесть. Покосившиеся кресты на маленьком кладбище в тундре, новейший препарат против гнуса в баллоне, притороченном к нартам, долгий путь по бездорожью, невозмутимые пастухи, скользящие за упряжками будто по воздуху, конусы чумов на горизонте, запах тальникового дыма, словно откровение диких пространств. И потом поездки по стадам, вечерние разговоры у домашнего костерка, лица людей, вдвоем пасущих трехтысячное стадо, знающих этот край до побережья Карского моря, их заботы и нужды... Само собой получилось так, что прежде написалась статья в газету – как раз с целью помочь пастухам одолеть нехватку нужного снаряжения, которое подчас вовсе уж перестали производить: колокольчики на шею оленям, чтоб не затерялись в тумане, вертлюги для сбруи, латунные пряжки и другое, такое же, почти экзотическое. Но деловая статья не затронула впечатлений, скопившихся в душе. И не знал, как же передать ощущение тундры – самое главное из привезенного. Обилие деталей поглощало, отдельности не находили своего строя, и это было мучительно. Только года через два вдруг неожиданно пришла простая мысль – а ведь сам путь в стада и есть уже начало и нить повествования…
ОЛЕНИЙ УЗОР
В пряном аромате тундры сгустились просторы. Вдохнешь – и замирает сердце, как перед прыжком в неизвестность. Даже когда придышишься и привыкнешь – все равно волнует. А сейчас, после долгого сидения в городе, запах этот открывает в душе какие-то окна, вызывает в памяти давнее, и Ивану Павловичу не сдержать воспоминаний, пробужденных тревожным настоем багульника, березы и болотных трав.
Мутное сырое утро. Поезд ушел; скрип допотопных вагончиков пропал сразу, накрытый мокрой подушкой тумана, приглушившего низину. Только чавкает под сапогом болотистая земля, мокрыми ветками чиркают по коленям березки, похожие на кусты крыжовника, сонная птица бормочет совсем рядом с тропой.
Поодаль, за овражком, скорей мерещится, чем виднеется домишко: так, белесое пятно на серой мути. Кто не бывал – не заметил бы. Но Иван Павлович знает домик Константина Кузьмича. И в ночной темени нашел бы, а теперь утро. Да и ночью сейчас не бывает темноты.
В овражке совсем глухо. Даже ручья не слышно. Иван Павлович нагнулся зачерпнуть ладонью воды и только тогда уловил звон струи. Выпив пару пригоршней, он отдыхал, прислушиваясь к тишине, потом поднялся, поправил заплечный мешок, сползший набок, легко перебежал ручей по камням.
И тут сверху залаяли сразу несколько собак. Их лай раскатился, как неожиданный гром. Иван Павлович вздрогнул и рассмеялся. Привычное ухо различило хриплую трубу огромного, похожего на медведя пса, принадлежащего соседу Константина Кузьмича, и разноголосье остальных собак, привязанных по дворам. Лай и кончился разом как отрезанный.
Остался скрип камней под ногой на обрывистом склоне да звон комаров, которые набросились на лицо и руки кусаясь до крови. Но Иван Павлович знал – это еще не комар, и ускорил шаг, отмахиваясь мокрой веткой.
Вот и жилье. То, что виделось издали бледным пятном, было не избой, а забором, сложенным из дров. Сотни полешек, зажатых между стоек, своими желтыми торцами напоминали соты. Поленница так высока, что из-за нее видна лишь крыша в потеках мха на черной щепе.
Иван Павлович обогнул эту дровяную крепость, защищавшую избу от северных ветров, и подошел к калитке. Через ее жерди виден знакомый дворик, навес над низкой дверью и на навесе, с краю, смоленая подсадная утка. Сидит, как живая.
Иван Павлович не сразу открыл калитку, а некоторое время рассматривал дворик, узнавал по очереди разные хозяйственные предметы и чувствовал, как необычайный покой наполняет грудь. С каждым вдохом улетучивались остатки протабаченной управленческой суеты, еще крутившейся в голове, и тупой тяжести в сердце, мучившей его уже несколько недель. Оставалось это размеренное, ни часами, ни годами не считанное бытие, этот двор посреди тундры, уходящей в бесконечность, эта деревянная подсадная утка, этот невод, повисший на кольях, и тишина, которую не могут пробить даже комары.
Калитка открылась без труда. Иван Павлович перескочил через лужу, шагнул под навес, прислушался. Ни звука. Собака, привязанная за углом избы, даже не зевнула, словно не она только что разрывалась от лая.
Он постучал в дверь. Тишина. Стукнул сильней. В избе зашуршало, и дверь открылась – она не была заперта. Иван Павлович понял, что опростоволосился – мог бы войти без стука, никого не разбудив.
Из-за мешковинного полога, висевшего за дверью, чтоб не пускать комаров, выглянул сам хозяин. Светлые глаза на сухощавом лице расширились от удивленья.
– Иван Палыч... Вот не́ ждал, так не́ ждал! – обрадованно сказал он, отступая в темноту сеней, и пригласил, коверкая слова своим странным ударением. – Захо́дите в дом-то, захо́дите!
Иван Павлович переступил порог и обнял хозяина за тощие, но еще крепкие плечи.
– Здравствуй, Константин Кузьмич, здравствуй, дорогой!
И сразу же справился, не приехали ли ветеринары из области. Оказалось, приехали еще днем. А сегодня ждут пастухов из тундры с упряжками. Это известие совсем уж обрадовало. Все складывалось ладно и хорошо.
Тьма сеней была пропитана густой вонью: здесь, как всегда, сохли на вешалах сырые шкуры. Иван Павлович сразу же наткнулся на них, протянув руку, чтоб разобраться, куда идти. И даже эта вонь, остро ударившая в нос, нисколько не отвращала. Напротив, она так же, как аромат тундры, возвращала Ивана Павловича к тому, что он любил, к делу, которому отдал жизнь. Да, теперь-то можно так сказать: отдал жизнь.
Хозяин распахнул низкую дверь, обитую коровьей кожей, Иван Павлович шагнул в мутную полутьму. В избе было парно. Сквозь запотевшие оконца сочился тусклый свет, обрисовывая спящих на полу людей.
Разве когда-нибудь случалось, чтоб у Константина Кузьмича не ночевали гости? Как всегда, полна изба народа. Иван Павлович остановился у порога, выбирая, куда бы поставить ногу и перешагнуть через храпевшего у самой двери человека.
– Куша́ть будетеэ? – громким шепотом спросил Константин Кузьмич, чудом оказавшийся уже посреди избы с кринкой молока и хлебом в руках.
– Спасибо, спасибо, дорогой, не беспокойся. Мне бы прилечь на часок.
– Ложите́сь сю́да, – показал Константин Кузьмич под стол, где было свободное место.
Иван Павлович повесил мешок на гвоздь у двери, пробрался к столу и стоя с удовольствием выпил кружку густого молока. Потом снял свой брезентовый плащ, постелил; сел, согнувшись, стащил сапоги; лег, с наслаждением вытянул ноги; полежал минуту и лишь после этого накрылся пиджаком.
– Спитеэ, – сказал хозяин, зевая, и полез на печь.
* * *
Днем весь туман сволокло за реку. Правый берег, где стояла деревенька, обнажился, солнце четко выписало на нем каждую мелочь. И на голом холме за домами встали четыре покосившихся креста.
Но за рекой туман еще долго откатывался в тундру, неохотно редел. За полдень северный ветер совсем его иссушил. И тогда обнаружилась даль, отчеркнутая фиолетовым камнем Полярного Урала. По камню – белые прожилки снежников и черные тени от вершин. И ярко-зеленая равнина расхлестнулась.
Иван Павлович стоял у крестов и смотрел за реку. Всякий раз, приезжая в деревеньку, он приходил сюда и подолгу стоял у могил, почти сравнявшихся с землей и заросших стелющейся березкой. Зеленовато-серый лишайник плотно охватил кресты.
Прошло столько лет, а Иван Павлович не научился спокойно смотреть на них. Он помнил их свежеоструганными, неожиданно появившимися на могилах. Помнил посеревшими, покосившимися из-за таяния вечной мерзлоты, нарушенной людьми. И вот они обросли мохнатым пером лишайника, подгнили, потрескались. С одного зимним ветром сорвало доски кровли, по северному обычаю протянутой от вершины к концам перекладины.
Иван Павлович всегда заставлял себя думать только о крестах, но это никогда ему не удавалось. И когда он чувствовал, что воспоминания прорываются независимо от его желания, садился на могилу, закрывал лицо ладонями и сидел так, пока прошлое само не ослабевало и не отпускало его.
...У того чу́ма.
– Хальмермя![10]10
Хальмермя – мертвый чум.
[Закрыть] – по-ненецки сказал Савельев.
Проводник-зырянин Костя застыл на нартах. В серых глазах ужас. Он хотел гнать упряжку прочь, хотя видел, что ветер дует с их стороны к чуму. Страх был слишком велик. Он хотел спасти оленей.
– Э, братец, так нельзя. Вдруг там живые? – сказал Савельев и хотел пойти к чуму один, но с ним вызвались все четверо, кроме Кости. Саженях в двадцати Савельев приказал им остаться. Вокруг чума лежало с полсотни издохших оленей. Смрад подкатывал, несмотря на ветер, относивший его в сторону. У входа, сунув головы под полог, сбившись в кучу, лежало несколько животных. Так бывало почти всегда: измученные болезнью олени словно просили помощи у человека. Они подползали к чуму, мордой отодвигали полог и так умирали. Кто мог им помочь, если в чуме оставались одни мертвецы.
Савельев знал это лучше своих помощников, совсем молодых ребят, студентов-ветеринаров. Все же он подошел совсем близко к чуму и громко спросил по-зырянски, по-хантыйски и по-ненецки: «Есть живые? Есть живые? Эй!» И хотя никто не ответил, Савельев длинным прутом отодвинул полог, заглянул в чум, крикнул еще раз, бросил прут и махнул рукой.
Вернулись к нартам. Саша Чикин налил в жестянку керосину и, пока Савельев мыл руки сулемой, подошел к чуму, плеснул на шкуры и поджег.
Проводник Костя отвернулся, забормотав молитву.
Только тронулись, как олени испуганно отпрянули в сторону: неподалеку валялся издохший волк.
Хальмер. Смерть. Эпидемия.
Вскоре после осмотра этого чума заболели четверо: Савельев, Саша Чикин, Кулешов и Кудрявцев. Там заразились, в другом ли месте, кто знает... Да и надо ли знать... Иван Павлович (тогда-то просто Ваня Рогов) вместе с Костей (теперешним Константином Кузьмичом) ухаживали за больными как могли. Сначала Савельев говорил, что делать, потом впал в беспамятство. И остальные метались в бреду.
Могилы вырыли на взгорке. Тела их, как приказал Савельев, засыпали хлорной известью и предали земле.
Никто из них в бога не верил, но когда через год Иван Павлович приехал сюда на практику, четыре больших креста уже стояли на могилах.
...Не надевая старой соломенной шляпы, Иван Павлович медленно сошел с холма, побрел по зарослям к реке. Иногда нога натыкалась на багульник, и одуряющий аромат вспыхивал, как костер. Птицы срывались с низких березок, светились редкие цветы, и морошка уже зажелтела яркими пятнами в зелени.
Рогов знал, что Константин Кузьмич где-то рядом. Он никогда не ходил к крестам вместе, но всегда оказывался неподалеку. Вот и сейчас он здесь, под обрывом у самой воды со своей рыболовной снастью.
Стоя на обрыве, Иван Павлович смотрит на друга. Темные мысли остаются за спиной, у крестов. Неожиданная радость приходит сама, неизвестно почему. Может, потому, что они еще живут на земле. Может, потому, что день обещает быть ясным и прохладным. Может, потому, что впереди поездка в тундру. А верней всего потому, что неподалеку стоит этот старый человек в резиновых сапогах, ватнике и треухе, с опущенными ушами.
В руках у него капроновая леска, протянутая к «кораблику» – дощечке, плывущей на ребре. Поводки с крючками, привязанные к леске, рассекают мелкие волны.
Иван Павлович сбегает по крутой тропке с обрыва, подходит к Константину Кузьмичу. Но тот не оборачивается. В молчанье медленно они бредут по берегу.
Быстрая вода не скрывает цветной гальки на дне. Лишь подальше, где крутятся крепкие витые струи, дно исчезает и вода обретает густой синий цвет. Под ногами лаковые камешки и вытянутые плиты красповатого гранита. Возле розовых валунов, за зеленой щетиной осоки – голубые зеркала маленьких озет.
Константин Кузьмич поднимает леску. Из воды со свистом вырываются поводки. Крючки пусты. Надо менять место.
– Павло́вич, потя́ни леску, – говорит Константин Кузьмич и сматывает ее на рогульку.
Войдя в воду, Иван Павлович потихоньку подтягивает «кораблик» к берегу.
Они бредут к галечному мысу, виднеющемуся ниже по течению. Словно по уговору, не вспоминают вслух прошлого, хотя каждый хорошо знает, о чем думает другой.
Мыс глубоко врезается в речное полотно – с него можно достать почти до середины реки. Здесь лучшее место для ловли хариуса. То, что Константин Кузьмич начал ловить рядом с крестами, говорит лишь о его сочувствии настроению друга.
На самом конце мыса Константин Кузьмич зашел по колено в реку, кинул дощечку. Она повихляла немного и вдруг ожила – выправилась, встала носом против течения, поплыла, разбрасывая фонтанчиками воду. Чуть заметным движением Константин Кузьмич направлял ее к середине реки. Вслед за ней из его рук одна за другой уходили в глубину серебряные капли блесен. Его сжатые губы слегка шевелились, узкое лицо, прорезанное морщинами, сосредоточенно, серые глаза видят только скользящую снасть.
Не прошло и минуты, он поднял руку с леской. Из воды выскочили блесны.
– Хоп!
На дальних крючках прыгают три стальных хариуса. Константин Кузьмич подтягивает их к берегу. «Кораблик» как живой – нетерпеливо режет волну, норовит уйти обратно. Константин Кузьмич ловко снимает рыб и отпускает снасть.
Рыбы бьются на камнях. Константин Кузьмич роется в кармане, протягивает Ивану Павловичу кусок толстой лески с костяной перекладиной на конце. Тот продевает леску рыбам под жабры, бросает в воду; хариусы рвутся уйти в глубину и долго не могут смириться с куканом.
– Начало есть, ко́нца не будеэт, – говорит Константин Кузьмич, и голос его вздрагивает от радости.
– Дай мне половить, – не утерпел Рогов.
– Се́йчас... Не торопись... Рыбы хватеэт. Сей год рыбе добрый. На вершинеэ реки много мошкиных куко́лок. Олешкам плохо будеэт, людя́м плохо. – Константин Кузьмич засмеялся. – А рыба́м хорошо будеэт – маленьким корма много...
Константин Кузьмич не мог отказать другу в просьбе, но и снасть отдавать не хотелось – он чувствовал, как сразу огрузли поводки, едва «кораблик» отошел к середине. Поэтому и решил отвлечь Ивана Павловича разговором, чтоб протянуть время и вытащить еще пару заметов. Ход был ловкий.
– Вот как, на мошку урожай, говоришь! – оживился Иван Павлович. – Это как раз мне очень нужно. – И уже рассеянно смотрел на «кораблик», захваченный своей мыслью. – Понимаешь, Кузьмич, привез я новый препарат для борьбы с гнусом. Он и против овода должен действовать, и против комара. Это мы теперь же проверим. А вот мошку́ очень мне хочется дождаться. У нас стада как раз в очагах размножения мошки́... Очень удачно, что на нее нынче урожай. Надо бы и на мошку́ его попробовать...
Константин Кузьмич вытянул леску, снял рыб и снова отпустил «кораблик».
Рогов сажал хариусов на кукан, отмечая про себя, что рыба крупная и красивая, но мысль испытать новый препарат сверх замысла еще и против мошки́ совсем отвлекла его от ловли.
– Как с комаром в тундре?
– Ко́мар сильней сей год. Не ко́мар – орол. Олешкам нет покою.
– С него и начнем... А потом мошка... Попробуем бороться и с этой напастью. Надо им крылья пообрезать...
Константин Кузьмич оторвал взгляд от снасти и посмотрел на друга. Он хотел что-то сказать, но то ли не решался, то ли не находил слов. Иван Павлович заметил его смятение.
– Ты чего? Или мошку пожалел? Экий ты, Кузьмич. Все новое в тундре с тобой начинаем, и всегда ты с недоверием. Помнишь, как вакцинации боялся?..
– Вакцина́, вакцина́... – рассеянно повторил Константин Кузьмич. – Вакцина́ то сибирка... От сибирка, от ящур один вред, хальмер от них... Мошка, ко́мар – то другое. То не́ то. Сибирка убил – всем хорошо. Мошку убьеэщь, кома́ра убьешь – рыбе плохо. Рыбе хальмер придет. Хариуса детки любят куша́ть от мошки деток... этот маленький, черный...
– Личинка, – подсказал Рогов.
– Да, мошкина личинка́. Подрастет детка – куша́ть хочет комарий личинка – он поболе. А ты его убьешь. Хариус не станеэт. «Кораблик» в печку кинеэм.
Иван Павлович похлопал его по плечу и рассмеялся:
– Не бойся, брат, никакого хальмера рыбе не будет. Мы не дураки личинок уничтожать. Я привез препарат отпугивающий: опрыщем оленя, и ни одна пакость на него не сядет. По нашим подсчетам, одного опрыскивания хватит самое малое на сутки. Представляешь, целые сутки олени смогут отдохнуть, покормиться, не опасаясь ни комаров, ни оводов, ни мошки.
– О, ко́гда так – не страшно́. Ве́зи свою самогонку в тундру, – засмеялся Константин Кузьмич, подсек и вытащил одного, но очень крупного хариуса.
Так стояли они на мысе, и кукан становился все тяжелей, хотя лов сегодня был не настоящий. Константин Кузьмич сам считал сегодняшний лов забавой, потому что постоянно отвлекался от снасти. Сначала дожидался Ивана Павловича у кустов и забрасывал «кораблик» на месте, которое хариус навещает редко. Теперь они пришли в уловистое место, но Константин Кузьмич посматривает больше не на «кораблик», а на противоположный берег, куда вскоре должен прийти аргиш из тундры. Разве это лов!
Сегодня самое главное – аргиш.
Отсюда, с мыска, видно, как из дома постепенно вышли все, кто собирается ехать в тундру.
Первой из калитки к обрыву выплыла хантыйка Наташа. На ветру ярко зажегся ее сарафан. Наверное, далеко его видно. Муж ее, Данила, который едет с аргишем, должен заметить из-за реки, с последнего увала перед спуском в долину. Есть в этой женщине что-то сказочное, давнее. Только в тундре осталась еще такая одежда – длинная до пят, из красной ткани с синей полосой по подолу. А на голове желтый платок с багровыми цветами. Ветер относит сарафан и треплет, как старинную хоругвь, и взметывает, как пламя. А Наташа стоит, не шелохнется. Приложив к черным бровям ладонь, всматривается в заречную даль. И лицо спокойно, только иногда губы трогает едва заметная улыбка. И в этом изгибе ее губ собрано все ожидание, вся тоска и нетерпение, с которыми Наташа ждет мужа.
Два месяца не виделись, два месяца пробыла Наташа с сыновьями в больнице, два месяца прожила в большом поселке. Никогда еще не уезжала она так надолго. И не уехала бы. Да разве утерпишь сидеть в чуме и смотреть, как мучаются малыши? Вот и прогнала ее в чужие люди хворь сыновей. Теперь это позади. Теперь должен приехать Данила. А может, батюшка приедет?.. Может, Даниле пришлось собирать отбившихся оленей? Может, пришлось поехать в соседние стада?.. Тогда ладно – пусть батюшка приедет. По батюшке тоже соскучилась. С ним тоже хорошо промчаться до родного чума.
Наверное, они уже откаслали[11]11
Каслать – кочевать, меняя пастбище.
[Закрыть] к озерам... К двум круглым озерам. И чум стоит между озерами, как нос между глаз. И олени на берегах, как брови. И дикая утка с выводком плывет, как слеза...
Стоя у самой калитки, всматривается за пойменный увал Валентин Семенович, ветеринар из области. Очень мешают его наблюдениям комары. Он то и дело шлепает себя по полной шее, рассматривает ладонь и вытирает о пиджак. Для комаров он лакомый кусок: лицо, налитое густым румянцем, так и выпирает из-под потертой кепочки. А все, что не укрыто кепочкой, – сочнейший бифштекс для крылатых кровопийц.
Он начинает грузно шагать вдоль дровяной изгороди, поводя неохватными плечами. Ему кажется, что комары прокусили уже и его пиджак, сидящий в обтяжку, и в сапоги забрались, и ягодицы жалят через натянутые брюки... Совсем отвык от тундры, засиделся в конторе. Зимой, правда, три месяца крутился по Ямалу, а потом все бумаги да канцелярия.
Интересно, что за препарат привез Рогов? Если хоть часов на восемь сможет защитить оленей, и то овчинка стоит выделки... Б‑р-р‑р, черти, как жалят! Впору на себе испробовать роговскую новинку. Впрочем, подальше от изгороди, на ветру немного полегче. И с чего это комары так любят его? Вот Наташа – стоит, не шевельнется...
Петя, студент ветеринарного института, забрался на навес у входа в дом. Он едва не столкнул деревянную подсадную утку, сидевшую на краю навеса. Подхватил ее за клюв, отодвинул подальше, угнездился и поднял уже бинокль, но опустил. Взял утку в руки. Неужели птиц можно обмануть такой грубой подделкой? Черный вар наплывами застыл на спине, клюв из смоленой щепки, глаз жестяной. Чушь какая-то...
А теперь посмотрим в тундру. Где же олени? Совсем пустая равнина...
Константин Кузьмич подергивает леску и качает головой:
– Столько о́чей смотря́ат – ни одного олешка не видя́ат...
– Запаздывают, – озабоченно вздыхает Иван Павлович, не принимая шутки. – Не случилось ли чего с аргишем?
– С аргишем ниче́го. С воргой че́го.
– Что ж с воргой?
– Трактор про́шел, везде́ход прошел, всю воргу по́мял: нет тра́вы, нет ку́ста – олешки нарты плохо тянут, уста́ют...
Иван Павлович хмурится, на небритых щеках – бугры. Сколько написал докладных, сколько ругательных бумаг в геологоразведку, сколько раз сам бранился с геологами. Как об стенку горох. В тундре только и слышишь: то вертолетом стадо распугали, то воргу трактором испортили, то отбившихся оленей побили на шашлык. Разбойники...
Летят вдоль хребта, увидят стадо и сразу – снижаться, оленей чуть за рога не цепляют. И для чего! Щелкнуть экзотический кадр! А что пастух потом двое суток оленей собирает – пешком бегает по тундре – об этом никто не думает... Поручили руду искать – ну и летай над скалами, где твои штольни и буровые. Зачем же хулиганить? И вот беда: не все понимают, что это хулиганство – ребята молодые, бесшабашные, кровь играет...
С воргой теперь незадача... Ее проложили, может, раньше пути из варяг в греки. По ней испокон веку европейский Север связан с азиатским. И здесь, перед хребтом, тянется ее ниточка по тундре – едва заметна она, олени ее нюхом находят. Идет она, конечно, самым коротким путем через болота. Но разве нельзя поискать другого пути? Или хоть неподалеку от ворги трактор вести, если такая лень одолела – ничего искать не хочется. Нет, гонят трактор прямо по тропе, рвут тундру, выворачивают наизнанку... И ведь знают, что мерзлота здесь в десяти сантиметрах, только растения и берегут ее, не дают ей прогреться, превратиться в болото. А сорвут покров – солнце за день все растопит, и на месте тропы, где нарты скользили по траве и мелкому кустарнику, – трясина, хлябь, топь...
Иван Павлович ни слова не сказал, но разволновался, махнул рукой и сдвинул шляпу на брови.
Хариусы на кукане заснули и больше не тянули руку. Новых что-то не попадалось. Константин Кузьмич подергивал леску, блесны искрились на солнце, но рыба не брала: чувствовала – не до нее рыбакам...
Неожиданно Константин Кузьмич подхватился и стал быстро сматывать снасть.
– Ты чего? – спросил Рогов.
– Аргиш пришел. Развеэ не видишь?
Иван Павлович осмотрел берег, но ничего не заметил. Только вглядевшись туда, куда указал Константин Кузьмич, различил он в кустах за рекой нескольких оленей, уже отпущенных пастись.
«Нехорошо. Сам не заметил», – подумал Рогов, вытягивая кукан из воды.
А Константин Кузьмич, сматывавший леску на рогульки, даже приплясывать стал от радости.
– Во до́бро, так до́бро! Се́йчас на лодке за пастухами слётаю быстро́. Обедать буде́м! Вино пить буде́м! Песни петь! До ночи долго́. Вы в ночь поедетеэ.
Передал Рогову «кораблик» и запрыгал по камням к лодкам.
На обрыве у дома – смятение. Валентин Семенович топчется возле навеса, выпрашивает у Пети бинокль. Петя смотрит не отрываясь и, хотя ничего не видит, отдать не хочет.
Из дома выбежали дети и внуки Константина Кузьмича. Вышла, вытирая руки передником, жена его Фекла Тихоновна.
Лишь Наташа стоит на обрыве одна, глядит из-под ладони, и ветер относит ее красный сарафан.
Когда Иван Павлович поднялся по крутой тропке к избе, никого уже не было ни во дворе, ни на обрыве. Зато дома – карусель.
Фекла Тихоновна, которая обычно так тиха и незаметна, что даже при взгляде на нее не замечаешь, что она есть, сейчас как бы заполнила всю избу. Она везде: у печки, где что-то кипит и трещит; в чулане, откуда вынимаются припасы; в горнице, где убираются следы ночлежки. Она помогает Наташе переодевать детей, советует дочери достать новую кофточку, перебирает на полке посуду, посылает сыновей за дровами, сортирует гору продуктов, вываленных ветеринарами на стол (консервы не надо, шпиг не надо – их лучше взять в тундру; колбасу надо, сыр надо, конфеты надо, водку надо).
Иван Павлович открыл дверь, просунул кукан с рыбой, который нес перед собой, и не успел еще переступить порог, как рыба была брошена на кухонный стол и Фекла Тихоновна уже чистила и потрошила ее. Несколько мгновений – рыба присолена, сложена в миску, и к приходу пастухов будет готова лучшая из всех возможных закуска.
Одна Наташа тихонько сидит у окна, ничего не делая. Она ждет. Просто ждет. И никому не придет в голову попросить ее помочь в приготовлениях и уборке. Отрешенно смотрит она в окно. Она – сам праздник, к которому все еще только готовятся. Для нее он наступил. Она переоделась во что-то малиновое, зоревое, накинула на голову желтую шелковую шаль, и от этого низкая изба осветилась изнутри, точно жар-птицу внесли. На руках у Наташи малыш, у колена стоит другой. Они тоже застыли – не пикнут, не шевельнутся. Ждут.
И вот Наташа поднялась, взяла старшего сына за ручонку, пошла к двери.
Тогда Фекла Тихоновна сказала: «Приехали!» Карусель закрутилась вдвое быстрей, хотя, казалось, быстрей уже нельзя. Дочери, сыновья и невестка заметались по избе, как олени, бегущие от овода.
Едва Наташа прикрыла за собой дверь, все было готово к приему гостей, и все высыпали из избы вслед за Наташей.
Никого не удивило, почему Наташа угадала – «приехали». Ведь из окна не видно ни реки, через которую переправлялись оленеводы, ни калитки, к которой они должны подойти, ни двора, который они должны пересечь. Она была словно птица, чувствующая приближение радости. Почуяла и взметнулась навстречу. И никто не скажет, как она узнала, что радость рядом.
Наташа первая вышла к тропке. Там, внизу, уже поднимались по обрыву оленеводы.
Впереди Данила, за ним еще двое хантов и русский фельдшер. Данила, как увидел Наташу, на мгновенье задержал шаг. Со стороны не заметить, и сам он никому бы не высказал своего волнения. Но так уж вышло, что ноги сами словно бы оробели, а потом зашагали еще быстрей.
И Наташа не показала виду, что от радости потемнело в глазах и малыш на руках сделался вдруг нестерпимо тяжелым. Но она не шевельнулась. Только глаз не отрывала от Данилы, рассматривала его, узнавала каждую ниточку в одежде, каждую пуговку и ремешок.
Голова Данилы повязана бледно-зеленым с красной каймой платком, который прикрывает лоб, а концы плотно замотаны вокруг шеи – ни один комар не заберется. В платке, как в оправе, спокойное, четко прочерченное лицо с хваткими глазами. Не слишком раздвинутые скулы и узкий подбородок придают лицу Данилы стремительность.
Широкий пояс перетягивает гимнастерку. По старинному обычаю он сплошь покрыт узорчатыми латунными бляшками и ремешками, на которых болтаются медвежьи клыки (по одному клыку от каждого убитого медведя). Слева приторочен нож в деревянных ножнах, обшитых кожей. Такие ножи бывают только здесь, в тундре. Он узкий, как шило, и острый, как бритва. В особом кармашке хранится брусочек из черного уральского камня – точить нож. Есть на поясе связка кожаных веревочек и ремешков – на ходу починить оленью упряжь, стянуть нарты. Все есть в поясе.
На ногах у Данилы длинные, выше колена, кожаные чулки то ли сапожки. Они из белой замши, а спереди вшита полоса красной кожи, пропущенная до носка. На ступнях поверх сапожек надеты особые тапочки, скроенные из одного куска кожи, стянутого ремешком. Это то́боры, они плотно облегают ногу, придавая пастуху легкость и стремительность.
Наташа сама выделывала для них кожу, сучила нитки из сухожилий старого хора и долго, стежок за стежком, шила при свете костра. К весне тоборы были готовы, и Данила носит их не снимая – так они понравились ему. Ходит в них по болотам, через речки, в дожди, и они не промокают. Не промокают, потому что пропитаны жиром рыбы, которую Наташа знает где и в какое время ловить; потому что сшиты жилкой, плотно скрепляющей кожу. И еще они не промокают потому, что Наташа хочет, чтобы Даниле всегда было хорошо.
Вслед за Данилой идет Зосима. Но их и сравнивать нельзя. Зосима мал ростом, щупл, давно не молод. Черный платок испачкан глиной, кургузый пиджачишко продрался на локтях, резиновые сапоги загребают землю, на губах блаженная улыбка. Он смотрит на Наташу из-за спины Данилы, машет рукой и кричит что-то приветливое, радостное.
Потом плосколицый сонный Кузя в вельветовой рубахе, залепленной куропаточьим пухом.
Ветфельдшер Василий Матвеевич одет в черный гусь – суконный балахон с капюшоном, из которого выглядывают лишь нос и глаза. Гусь перетянут веревкой и подобран у пояса, чтоб не путался в ногах, поэтому ноги болтаются под гусем, как язык под колоколом.
Позади всех Константин Кузьмич – привязывал лодку и поотстал – бежит, ветер забрасывает назад уши его шапки.
Вот они поднялись по тропке, и на луговине перед домом зашумел целый базар – столько людей собралось. Все заговорили разом на трех языках. Ничего не разобрать. Понятно только, что все рады встрече и всем весело.
Константин Кузьмич ловко протискивается к каждому, вьется, как хариус между камней, смеется, шутит, справляется о здоровье родни, о делах в стаде, без умолку говорит по-коми, по-хантыйски и по-русски. А если очень уж ему понравится чья-то шутка или слово – переводит для всех на русский и какой-нибудь из местных языков.
Студент Петя фотографирует всех вместе и порознь. То на скамеечку у калитки взберется, то под обрыв спустится. А то забрался на навес, где сохнут сети, и оттуда снимал. Все показывали на него руками, смеялись, но едва он притрагивался к затвору – замирали с окаменевшими лицами.
Лишь двое не участвовали в этом празднике – Наташа и Данила. Они отошли в сторонку, встали у обрыва и молча смотрят друг на друга. Данила смущенно и обрадованно смотрит и не хочет показать своей обрадованности. От этого лицо его напряжено, неведомая сила бросает его в робость, и он совсем деревенеет.
Наташа смотрит спокойно, ясно, глаз не отрывает. Но и она ни одним движением не выдает своих чувств.
Ни за руки не возьмутся, не обнимутся, ни слова не скажут. Просто стоят и смотрят. Но и не касаясь, они слиты радостью, соединены в одно – их уже нельзя разделить: сплелись их яркие платки и одежда, сомкнулось над головой глубокое небо, легла под ноги студеная река. И если смотреть на них со стороны, увидишь один цельный рисунок, сделанный чистыми и звонкими красками.
Про них все забыли в толчее. Один Зосима посматривает иногда в их сторону и сразу переводит взгляд на личико меньшого сына Данилы и Наташи, которого держит напряженными с непривычки руками. Поправляет платочек на его голове, заскорузлым пальцем ласково дотрагивается до носика, приближает губы к его щечке и что-то говорит потихоньку. В руках у мальчишки золотится спелая морошка – подарок Зосимы, привезенный из тундры. И старший тут же – одной ручонкой обнял сапог Зосимы, другой цепляется за полу пиджака, просит тоже взять на руки. Зосима поднимает и его, потряхивает, неловко идет между собравшимися и покрикивает словно бы оленям, как будто они едут на нартах.








