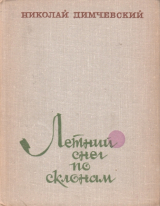
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Это Николай Нилыч рассказывает. А было-то все весной на Индигирке. И лед уже трухлявился у берегов, полыньи били его черными клиньями, а в рубчатый след вездехода просачивалась вода. В кузове у раскаленной печки сидели пять человек. Геологи – муж и жена, геофизики – тоже муж с женой и Николай Нилыч. Они кончили работу на левом берегу и перебирались на правый. Замерзли на ветру и отогревались в крытом кузове. Он был вместо дома – обшит фанерой и без окон, чтоб теплей.
Вездеход резко завалился назад. Тяжелая бочка с соляром скатилась и придавила дверь, которая открывалась вовнутрь. В щели долбанула вода. Горячий пар от залитой печки наполнил кузов, обжигая лица и легкие. Вода быстро прибывала. Люди были по грудь в ледяной жиже, а дышали огненным паром. В темноте они стучали кулаками по плотной гладкой фанере, кричали и задыхались. Потом поняли, что это – конец. Мужья стали прощаться с женами. И все – за несколько минут.
Николай Нилыч, когда воздуха в кузове оставалось только чтоб держать голову над водой, когда трое утонули, а геофизик Бетехтин захлебывался рядом, во тьме нащупал чуть отходивший слой фанеры и, ломая пальцы, отодрал его. Протиснулся в щель и вылез уже из знобящей каши, в которую погрузился вездеход...
Да. К ночи всегда почему-то вспоминается такое.
Голос Николая Нилыча прерывается и оседает. Он сжимает губы и закрывает глаза. Желтые и багряные блики от костра бегут по лицу. А сзади кривляются и пляшут скалы, тянут изогнутые сосновые руки, корчат грубые рожи.
Николай Нилыч берет допитый чайник, уходит к реке и, вернувшись, пристраивает его над огнем.
Горят два бревна. Из щели между ними пробиваются жаркие синие волокна. Они оплетают чайник, и вода начинает звонко долбить по стенкам.
Митя ломает плитку из зеленого листа и бросает в кипяток большой кус.
Мы пьем вяжущий отвар, и Борис говорит, что совсем недавно на Нижней Тунгуске погиб геолог Корецкий. А как и где и что случилось – неизвестно. Погиб, и все. И передалась весть по реке, и больше ничего не знает никто.
Мы пьем чай. И больше не говорим ни слова. Только порог трубит в свою каменную трубу. Только ворчит костер. Только искры путаются со звездами, и живет рядом невидимая река.
Мне кажется, что я опять лезу по завалам ручья, вижу во сне хлеб и, не найдя меня, уходит вертолет... И ведь никто бы не смог меня выручить тогда. И обо мне так же коротко говорили на реке: «Не вернулся рабочий...»
И у всех было в жизни такое, и все подумали об этом, слушая каменную трубу порога. Она грозно рычала. Ее сила неумолима, как медведь, идущий на безоружного.
Так всегда бывает сначала. А потом вырастают поселки, дороги и плотины. И стихают пороги, и приручается тайга.
Но это потом. А мы в самом начале. Нам не слушать, как загудит вода, пройдя через турбины, как запоет радиола в клубе, поставленном среди нового городка. Все это будет после нас. А мы уйдем дальше. Мы – в начале. Подыскиваем места, осматриваем, как и что к чему.
4
Жилье наше брезентовое, продувное. А все-таки жилье. И там, где стоят четыре палатки, точно родное село. Сердцу весело пристать к берегу.
Мы втроем всегда отстаем. Дело у нас такое – много времени на него уходит. И особенно хорошо, когда денек-другой пробудешь в отряде.
Вот и сегодня мы добрались до лагеря, разбитого как раз напротив села Проспихина. Виднеется оно на другой стороне за речной ширью, краснеет штабелями сосновых бревен, белеет домиками, голубеет печными дымками.
Там сегодня танцы. Это непривычно праздничное слово привез Костя-катерист вместе с мешком печеного хлеба из магазина. И всех разом всколготил.
Пока мы чистимся и моемся, Митя чудит. На танцверанде, говорит, играет джаз, а вместо барабана – надутый спальный мешок, и оригинальный номер показывают – соло на геологическом молотке.
И вот уж мы идем по деревянным мосткам, положенным вдоль улицы. Дома с белыми ставнями. В палисадниках черемуха. Старушки сидят у ворот.
Клуб – длинный барак беленый. Под крышей на красном кумаче – неровные буквы: «Подсочники[27]27
Подсочники – сборщики сосновой живицы, сока.
[Закрыть], план – досрочно!»
Девушки стоят у двери. В светлых платьицах. В туфельках. И запах духов.
– Девушки, а что такое подсочники?
Они что-то объясняют, серьезно и подробно.
И вот ведь как – ни одна мне не нравится. Даже танцевать не стану. Тоска по Вере зажглась, захлестнула меня, и ни о чем уж не могу думать, ничего не могу делать. Тревожно и тяжело мне. А девушки такие веселые, и музыка веселая, и ребята наши веселые. Что ж такое со мной? Совсем недавно я и сам не поверил бы. Просто посмеялся бы, и только: мальчишка я, что ль, – влюбиться. И в кого? В замужнюю, да еще с детьми...
А может, в том все и дело, что я давно уж не мальчишка? Давно ушел из юности и уверился, что любовь осталась за спиной, что возврата к этому чувству нет. И стал посмеиваться даже над этим тревожным весенним волнением. Да, стал посмеиваться. И забыл, совсем забыл, казалось – начисто его забыл.
Может, и жизнь тут виной. Изыскательское дело не простое. Забирает всего и не отпускает. Очень ревнивое это дело. Вошел в него – не отвяжешься, не оставишь. Везде оно тебя настигнет, найдет и вернет к себе. Забываешь обо всем другом, увлеченный этим делом.
И вот я словно опомнился. Опомнился, когда в самый разгар веселой, широкой нашей работы увидел Веру. И не поверил сначала, не мог и не хотел поверить, как все начавшееся серьезно. Уходил и приходил, и вроде бы просто, легко покидал ее. Но уже тогда, в самом начале, в глубине где-то, в такой глубине, куда не проникает разум, я почувствовал: началось необыкновенное. Не знал еще – что, но знал – началось. И себе не признавался, таил, прятал от себя. Даже когда другие стали о чем-то догадываться, все равно таил и прятал. А понял – и самому себе признался в тот последний раз, когда уходили из Подкаменной, уходили на три месяца вверх по реке. Времени достаточно, чтоб все забыть. А не забыл. Не забыл. Да, не мог забыть. Что там забыть – даже немного остыть не мог. Ничего не остывало.
И вот сейчас здесь, у клуба с музыкой и девушками очень мне сделалось тоскливо, очень одиноко. Словно не я радовался только что вместе со всеми этому неожиданному вечеру танцев. Эх, махнуть бы в Подкаменную! Бросить все и махнуть. Бросить все!
А нельзя бросить. Нельзя. Ничего нельзя бросить. Как стиснут человек этим железным «нельзя»! Так же нельзя мне поехать сейчас в Подкаменную, как нельзя пешком идти по воде или, взмахнув руками, подняться в воздух. И меркнет все, тускнеет, мрачнеет.
В клубе почти пусто, и радиола играет. Две школьницы танцуют. На сцене несколько шахматистов – и все.
Потолклись мы у дверей. Оробели с непривычки – смотрят на нас. Шахматисты обернулись, школьницы перестали кружиться. Это оттого, что у нас вид больно не праздничный, не субботний. В черных жеваных энцефалитках мы, в порыжевших сапогах и с бородами. Еще в начале сезона договорились, что отпустим бороды. Наперегонки – у кого больше вырастет к осени.
Первым обвыкся Митя – сел играть со здешним парнем. Тот словно из журнала мод вылез: голубая кофта, узкие брюки, ботинки на толстой подошве. И Митя – борода к самым глазам, лысина, выгоревшая куртка. И ведь не старый вовсе, а лысый. Да. Смешно, какие мы чучела. Ладно, хоть так побыть на людях, да посмотреть, да послушать музыку в настоящем клубе. И электричество светит. И выскобленные полы. И девушки такие нарядные.
Прибавляется народу. Радиолу сменил баянист. Где же он играет? Не видно за танцующими. Спрятался, как птица в листве. Разыщу-ка его. Все равно мне сегодня не веселиться. Пойду через весь этот праздник, свет и духи. Пойду по краю, мимо скамеек, унизанных улыбками, серыми глазами и смехом. Посижу рядом с ним.
Люблю баянистов. Что-то есть в них удивительное. Что-то есть в них трогательное. Даже веселое звучит у них с какой-то грустью. Даже неумелые, они влекут к себе. С детства люблю баянистов. Самые обычные они на вид люди, а дотронутся до ладов – и улетают в свой особенный мир, на который ты можешь лишь любоваться издалека. Заглянешь в него – и отдалишься от своих тревог, посмотришь на тревогу будто со стороны – и становится легче иногда.
Поэтому я иду к баянисту, ищу его в праздничной кутерьме, высматриваю: откуда же он заливается?
А вон он... Притулился незаметно на ступеньках сцены. Слепой. Черная косоворотка подпоясана ремешком, потные волосы с проседью причесаны пятерней. Морщинистый лоб. Неровная щетина на щеках. Черные очки в жестяной оправе. Рот со сломанными зубами будто смеется невпопад.
Несчастный какой-то человек. Но по лицу никогда ведь правильно не узнаешь. Поговорить надо, если он разговорчивый. И если неразговорчивый, все равно больше узнаешь, чем по виду. Надо присесть рядом на ступеньку и дотронуться до руки, когда он кончит играть.
И я сажусь рядом. И он кончает свой вальс. Он сразу узнал, что я нездешний, но не стал расспрашивать, кто и откуда. Достал серую тряпицу, вытер лоб и отдыхал молча, забывшись. Я думал – он не вспомнит обо мне, такое у него отрешенное лицо. Но он встрепенулся, нашел мою руку и начал рассказывать совсем неожиданное.
Сразу я никак не мог взять в толк. О чем – ведь тут разговоры всегда-то о лесосплаве, о буровиках, о зарплате, о геологах и топографах. Обычные наши разговоры. А он заговорил о пианино, которые должны привезти в Проспихино. Одно для клуба, другое для детского сада. О музыке заговорил, о музыкантах, о Бахе, о Лунной сонате. В такие выси не забирался еще ни один из знакомых мне баянистов.
Его длинные пальцы перебирали мехи, словно бегали по клавишам, и он уже не казался жалким, он отделился от замусоленной черной косоворотки, от черных очков, отделился от самого себя и оставался самим собой.
Как-то вдруг перескочил он от Лунной сонаты к холодной клетушке где-то в Москве, у Курского вокзала, в переулке, перескочил лет на тридцать назад. Там он жил у тетки, беспомощный, обречен на страшную темноту. Было мучительно все – от боли в еще не заживших глазах до необходимости ощупью находить утром одежду, ощупью пробираться по длинному коридору к умывальнику...
Но мучительней всего было то последнее, что он видел в своей жизни. Спокойные, деловые лица людей, только что убивших отца. Отец лежал на полу, головой под кровать. Его, Ваньку Семенова, пятнадцатилетнего мальчишку, держали за руки, заломленные к спине. Он видел все. И поэтому кто-то поднес к его глазам узкий нож...
А вся-то вина отца была в том, что он первым вступил в артель. И вышли из лесу остатки какой-то недобитой банды.
В один из жутких, тягучих дней после переезда к тетке в Москву он столкнулся в коридоре со студентом Корецким...
Я сразу вспомнил Аплинский порог и весть о гибели геолога с такой же фамилией. Но я ничего не сказал музыканту.
Неровно, перескакивая и путаясь в воспоминаниях, он рассказывал о том, как студент незаметно отвлек его от страшных мыслей, от темной пучины. Оказалось, есть иная жизнь, о которой деревенский паренек даже не подозревал. Краешком она приоткрывалась ему через наушники детекторного приемника, через незнакомые шумы улиц, по которым они гуляли вечерами, а позже – через звуковое кино. И уже в первый год жизни в этом городе его потянуло к музыке. Удивительно, что первым об этой тяге догадался Корецкий, а не он сам. Догадался и ничего не говорил сначала. Только чаще стал водить в концерты и на галерку в Большой. У Корецкого всегда были контрамарки – он подрабатывал на жизнь статистом в театрах. Потом он добился, чтобы Ваню приняли в музыкальную школу. Так Семенов стал музыкантом.
Он не переставая перебирал пальцами мехи. Он совсем забыл про клуб, про танцы, про меня... И тогда к нему подошел тот парень в голубой кофте, осторожно взял баян, сел поодаль и начал быстрый, веселый и четкий фокстрот. Даже мурашки пошли по спине. Ловко и задиристо пели голоса, перескакивали сверху вниз, сплетались и расходились. Клуб завертелся каруселью и расцветился этой искристой мелодией.
Семенов сжал мою руку.
– Это мой ученик. Пришел неграмотным. А теперь и по нотам и на слух. Очень талантлив. Баха исполняет – звучит, как орган. Только бы руки уберег. Работает на вязке плотов. Дело не музыкальное. Здесь много способных. Надо учить, учить! Как это все неорганизованно у нас, кустарно, плохо!.. В соседнем селе, неподалеку, километров пятьдесят, купили для клуба духовой оркестр. Прекрасные инструменты. Истратили тьму денег. А руководить стал какой-то самоучка. И все распалось. Инструменты испортили. Все пропало... Не могу – больно, тяжело, обидно...
Он едва не заплакал, перечисляя всякие валторны и тромбоны, сокрушенно хлопал себя по коленке и ерзал на ступеньке, точно она жгла его.
А парень в голубой кофте крутил и вертел весь клуб. Он играл играючи, легко, шутя. Ему нравилось набавлять ритм, чтоб танцующие задохнулись от скорости. Он испытывал, кто крепче, и радовался своей силе.
Я ни о чем не расспрашивал Семенова. Глухо и тихо и говорил о себе, продираясь сквозь пласты трудных воспоминаний. Жизнь-то мало у кого легка, но на его дорогу упало столько камней, что не понять, как он мог ее одолеть.
Стал преподавателем музыки. Играл в оркестре. Женился. Медленней, чем краски дня, забывалось юношеское потрясение, но все же забывалось, верней, сглаживалось – привыкнуть к боли нельзя.
В войну очутился он в далеких этих местах, не приспособленный к здешней жизни, оторванный от единственного дела, которое было ему под силу и по душе. Тяжелые годы, спекшиеся в один кусок горя. От них не осталось ни дней, ни месяцев – они так и осели в памяти колючим куском, до которого больно дотронуться...
В землянке он каждый день пристраивал на нары струганую доску с вырезанными клавишами и «играл» упражнения. Немой рояль слепого музыканта. И тяжесть – свинцом на душе.
Постепенно тяжесть эта откатилась в прошлое, но не ослабла, не полегчала – осталась там навсегда. Так и лежит глыбой по сию пору. Лучше не смотреть в ее сторону. А жизнь менялась, добрела, зацветала неожиданными цветками. Никогда бы не поверил – здесь, вдали и глуши, появилась музыкальная работа. Настоящая работа – лишь мечтать о такой. И глушь переставала быть глушью. И душа смягчалась от неожиданной людской доброты. Он получил комнату в теплом сухом доме. У него появился баян – сначала клубный, потом свой – купил на заработок. Но радость без горя не ходит. Не успел пожить по-хорошему – новый удар – умерла жена, которая пробыла с ним самое трудное время. Все напасти на его голову.
Семенов мог бы уехать, но он остался здесь. Остался по своей воле. Раньше ни за что не поверил бы, что останется, а остался. Остался, и все. И теперь ждет, когда прибудет самоходка и выгрузят пианино. И договаривается со сплавщиками, отбирает самых крепких ребят, чтоб вынесли инструменты осторожно, не ушибли, не повредили, не поцарапали. Семенов говорит об этом, словно уже дает советы грузчикам, будто ощупью идет по настилу, пробуя, крепки ли доски.
Он, волнуясь, ждет, когда сможет открыть крышку и дотронуться до клавиш. До звучащих клавиш. Узнает ли их? Не заслонило ли их безголосое «пианино», которое Семенов перенес из землянки в новый дом?
Он говорит о мастерстве музыканта, об искусности педагога, об одаренности ребятишек из детского сада, о талантах сплавщиков и рабочих лесоучастка. Он говорит, что все потери и тяготы жизни, весь ее ужас и капли сладости ее – все оседает в мастерстве. Единственное, что есть у человека, – это мастерство, нужное людям. Все проходит, остается лишь мастерство. Через него человек проникает в жизнь других, с ним переживает себя.
Кому, кроме тебя, известны твои печали и радости? Они останутся с тобой. Они – сам ты. А мастерство... Мастерство – достояние всех. Оно останется жить после смерти учителя в детишках, в сплавщиках, в подсочниках, оно пойдет, как круги по воде. И со всяким мастерством так. Оно остается у людей. Этот дом, этот баян, эти сапоги – все мастерство. И не простое. Люди, которые дарят нам его плоды, прошли не меньше, чем мы. Кто знает, может, лучше всех строит дома тот, кто долго мытарился под открытым небом, и самые крепкие сапоги получаются у сапожника, который сам оставался без сапог...
У тебя погибают родные и друзья, ты оказываешься на грани, за которой – пустота, отчаяние. Но у тебя есть крупица мастерства, и она спасет тебя. Только и спасет человека пристрастие к своему делу. И все его отношения с другими людьми освещаются его мастерством. И само оно крепнет и цветет, впитывая соки твоей жизни и жизни людей, которые дороги тебе...
Семенов очень разволновался и утомился от этого разговора. Он вытирал лоб тряпицей, пальцы его дрожали.
Были минуты, когда я хотел передать ему весть о гибели Корецкого, узнать, не тот ли это человек, который когда-то помог ему. Но теперь раздумал. Успеет еще узнать. Успеет принять последний удар.
И вот мы уходим. Я прощаюсь с Семеновым. Он задержал мою руку в своей и сказал неожиданно:
– Корецкий погиб недавно на Нижней Тунгуске...
5
Сказали нам лететь в тайгу. Туда, к Подкаменной Тунгуске, – узнать у бокситчиков самые низкие точки залегания руд. Чтобы потом, когда разольется водохранилище, не затопило бы разработки.
Перерыв в нашей речной, плавучей жизни. А теперь я особенно привязан к Ангаре. Даже ненадолго трудно от нее оторваться.
Что поделаешь. Спи, наша лодка, на мокром песке, стой потихоньку, мотор, в шалаше у сторожа нефтебазы, ждите возвращения...
Аэродром на лугу возле реки. По нему разбрелись разморенные полднем телята. Дремотно круглятся облака. Высоко запрокинуто небо. Мы ждем самолета. Долго, лениво и равнодушно. Сушим портянки. Дремлем. Говорим о всяких пустяках. Над головами толчется столбок мошки, липнет к лицу, мельтешит на рубахе.
После обеда не спеша пришли из деревни рабочие и начали скатывать в одно место бочки с бензином и соляркой, чтоб легче грузить в самолет.
Кончили. Один сдвинул на затылок накомарник и присмотрелся.
– Летит.
Низко над тайгой зачернелась машина – не больше комара.
– Сгоняй телят! – крикнул рабочий пастуху.
– Ладно, – ответил тот и не двинулся с места.
Двукрылая «аннушка» выскочила из-за песчаной сопки и развернулась, отпугнув телят в сторону. Рабочие по мосткам стали закатывать ей в брюхо бочки. Летчик вылез из кабины поразмяться, прикинул нас троих на вес и сказал, чтоб грузили одной бочкой меньше.
Потом «аннушка» прыгнула с крутого берега, и закачало ее, как на качелях. То поползет за окном синий плат Ангары с дрожащей змейкой солнца, то небо заливает оконце яркой голубизной.
Река уплывает назад. Ничего не остается от сопок, скал и круч. Ровно, как подстриженная трава, протянулась во все стороны тайга. Она чуть поворачивается и плавно покачивается. Вывернется иногда петля речки, сжатая каменистыми берегами, покажет песчаное дно и белую пену перекатов и растворится в голубовато-зеленой глубине. Нет ни дымка от костра, ни шалаша, ни зимовья. Лес и лес. Ровный, густой и бесконечный. Ангару теперь лишь угадываешь по синеватой гряде на горизонте. А дальше васветились желто-зеленые проемы болот. Страшно подумать, если здесь придется работать. Из самолета все кажется ненастоящим – появляется, исчезает, проходит. Только пешком пробираться, узнаешь, что это за места. Мелькнувшее внизу болото, может, и за день не осилишь. По колено да по пояс в черной жиже, в комарином кишобище, исходя по́том, будешь пролезать осокой да кустами. А спать в чехле от спальника, спасаясь от комарья, а пить – ржавчину, а клясть – свою несчастную судьбу.
Но пока-то мы в самолете. Поглядываем в окошки, посиживаем на скамейках. Пусть внизу хоть черт с рогами.
И вот набекрень перекосилась тайга, подплыла к окну, блеснула озером, проредилась, и зажелтели в ней домики поселка – точно пчелиных сот накрошили. Аэродром черным ковриком расстелен у речки. Он летит навстречу, бросается под колеса и мягко пружинит, принимая нашу «аннушку».
Поселочек этот – база бокситчиков. Так ловко приклеился к речке и озеру, пророс чистенькими домами, обзавелся лесопилкой, электростанцией и почтой. А на краю, возле аэродрома, несколько палаток и изба. Только глянешь на нее – увидишь, как свалили топорами сосны, сложили сруб, и родилось тут первое с сотворения мира жилье. Бревна, грубо обкусанные у концов топором, неровно торчат по углам. Тогда было не до красоты. Но с этой избы начался поселок, а может, и город. Кто знает.
Нам теперь ждать вертолет. Еще дальше надо, еще глубже в тайгу. Что ж, посидим. Умение ждать здесь нужно так же, как сноровка к ходьбе. Особенно если заволочет даль туманом или забьет дождем. Тогда замирает воздух, намокают перья алюминиевых птиц. Сиди и смотри, как медленно стекают длинные капли, тягуче тянется время, ни шатко, ни валко проходит день. Сиди, мучайся от безделья.
Но в этот раз нам везет. День светлый, чуть подсиненный дымкой. Скоро его лазурную парусину распорол грохот вертолета. Не могу теперь спокойно слышать этот шум. От мелькания машины за березами кружится голова и пересыхает во рту. Точно такой же был там, над тайгой, когда я заблудился. Может, он и есть...
Однако рассусоливать некогда. Уже отвалилась на сторону дверца, раздвинулось надвое зеленое брюхо, начали выгружать ящики, пошли пассажиры. Последней слезла старуха в старинной шелковой кофте с острыми плечами и узкими рукавами. Несет туесок и берестяную кошелку. Видно, очень довольна покупками и тем, что по небу добралась с базара.
Быстро, быстро все делается на аэродроме. Старушка еще до первой избы не дошла, а мы уж в вертолете. Все погружено, закрыто, захлопнуто и защелкнуто. По земле нехотя проползла тень от винта, потом замелькала и пропала. Мотор тужится и ревет. Еще чуть – и все разнесет в клочья, а летчик прибавляет газу. Лишь когда машина затряслась и задергалась и у нас застучали зубы, мы почувствовали, что оторвались от земли.
Дальше на Север наш путь. Там крайний участок поисково-разведочной партии. Туда поворачивается таежная чаша. Сочными пятнами зеленеет внизу лиственница, старые гари пылают рыже-оранжевым, графитные озера в яркой кайме травы. Все это перемешивается и струится до тех пор, пока не показалась посадочная площадка – квадрат, выложенный из нешкуреных стволов березы, а рядом – несколько фигурок с задранными вверх лицами.
Последнее поселенье. Дальше, наверно, иди хоть до Ледовитого океана – поселка не встретишь. Мудрено ли, что приветили нас по-родственному. Рюкзаки нести не дали. Чуть дверь открылась – их мигом сдуло. Налегке идем по тропке сквозь тощий соснячок. Идем до вырубки, где встали четыре избы. Чердаки просвечивают насквозь – крыши из щепы наскоро, шалашом поставлены на срубы.
На улочке осенними кочерыжками торчат длинные пеньки. Сколько же труда взяла эта полянка! Чего стоила эта колдобистая вырубка, эти хижины, эта печка перед домом, протянувшая дымок в бледное поднебесье!
Наши вещички забросили в избу на отлете. В ней живут холостяки и начальник участка. Нам тоже в ней ночевать. Хорошая, крепкая изба. Не заходя, поймешь, что за люди тут устроились. У дверного косяка увидишь лыжи, крытые оленьим мехом, рядом сохнет медвежья шкура изнанкой наружу прибитая к стене, а под самой крышей на деревянных гвоздях лежат удочки и висят капканы.
Есть во всем этом неизбывный уют и тишина. Есть тепло и приветливость обжитого места, где греет даже кружка холодной воды. Приоткрытая дверь доверчиво смотрит на тебя, и кот, привезенный за тридевять земель, трется о ногу. Таежные поселки щедры к бездомным и всегда награждают их четырьмя стенами, крышей, березовым дымком, ужином и беседой.
И откуда здесь такой уют? Изба как изба. Совсем еще зеленый мох в пазах. Пол – из бревен, выровненных топором. Потолок дощатый, но доски не пиленые, а колотые. Они получаются, если бревно разбить клиньями на длинные лучины. Так быстрей и легче, чем пилить.
Осматриваешься и сразу приживаешься к этому грубоватому, разбросанному уюту. Он в самом холостяцком беспорядке, в небрежности и бережности, с которыми относятся к нужным вещам. Вот высокие топчаны, похожие на столы. Голенастые и неуклюжие, на них и забраться-то трудно. Зато осенью и зимой, когда по полу ползет холод, они возносят обитателей избы в самый теплый слой воздуха. Спальные мешки на топчанах, растерзанные и смятые, таят великую преданность хозяевам. А как бережно деревянные гвозди, вбитые над каждым топчаном, держат за ремни ружья, как плотно выструганная топором полка сжала книги, как на месте встали два стола у двух окон!
В середине избы на земляной подставке, оправленной в аккуратный срубок, стоит печь из железной бочки. Она тиха и скромна, но стоит похолодать – властно притянет к себе людей, ударит в лицо каленым жаром, засветится в ночи. А пока она возвышается символом зимнего уюта, железным обещанием тепла. И от одного этого обещания чувствуешь себя надежней в бесприютной здешней стороне, где даже летом дышит под ногами вечная мерзлота.
Вот и все. Ты дома. Живи, сколь надо. Хоть до осени. Хоть до весны. Вот за печью по стене нары. Вот твое место. Развертывай спальник и живи.
Почти со всеми мы уже перезнакомились. Не знаем только начальника участка Илью Иваныча Сахарова. Он еще не вернулся с шурфов.
А когда придет – одно удивленье будет. Каких только людей не приходилось встречать в тайге, на реках, на стройках да на приисках, но этот редкостный, необычный, непривычный, неописуемый какой-то человек.
Хоть лицо у него, хоть одежда, хоть разговоры.
По щекам и под зеркально выбритым подбородком тлеет борода. Цветом совсем как свежая ржавь на железе. Такая густая и плотная, что даже волосков не заметно, точно он кумачовый валик привязал. Сначала, кроме этой бороды, ничего и не видишь. Она живет сама по себе. И если Сахаров промелькнет мимо, ты можешь вовсе его не упомнить, а бороду упомнишь. Встречал я рыжебородых, и все они выгорели в памяти. Тут же навек застряла эта борода.
Лишь когда маленько попривыкнешь к ней, обрисуется большой рот с крупными губами, серые, словно кострового дыма надышавшиеся глаза и спутанные, такие же, как борода, насквозь проржавленные брови.
И только потом рассмотришь его посеревший полотняный накомарник с сеткой, продырявленной сигаретой, увидишь, как по-разбойничьи лихо закинут он на затылок и висит по плечам. Заметишь винтовку через грудь, ичиги на ногах, почуешь идущий от них дегтярный дух. И сочный, чуть с хрипотцой голос уже не будет для тебя неожиданностью. И черная лайка Варнак со сломанным клыком сверкнет на тебя красным глазом.
Сахаров так поздоровается, так задержит в ладони руку, так посмотрит, так обволочет своим добрым теплом, что подумаешь: где-то его уже видел, хоть он и совсем не виденный тобой человек.
Он вешает винтовку на стену к угловому топчану, где под потолком серебрится трубочка переносного радиометра. Он выдергивает из петли у пояса трех рябчиков и бросает к порогу. Он срывает накомарник и роняет на скамейку. Потом смотрит на часы, разводит руками и извиняется, что пока некогда с нами поговорить – начинается сеанс связи с базой.
Он садится к рации, стоящей на столе, отодвигает бумаги, окурки, рыбьи кости и отрешается от всего. Все радисты делаются такими, едва натянут наушники и возьмутся за ключ. Но с Сахаровым и это случается по-своему. Очень уж он легко работает. Словно и не работает вовсе, а летает в эфире. Выйди на улицу, посмотри на антенну, прихваченную за две березовые слеги, и увидишь, как он парит в вышине, раскинув руки.
Да, легкий он какой-то и удивительный человек.
Солнце садится. Красный луч просек избу, выхватил кусок стены, резко прочертил все волоконца в бревнах, вырезал каждое перышко мха, каждый листок брусники, застрявший в нем, сверкнул на затворе винтовки и поджег бороду Сахарова. Она прилипла к его лицу плотным языком пламени, раскаленной подковой. А он не чувствует боли. Спокойно тянутся записи по тетрадке, плавно отбивает ключом ритм легкая рука, синей травинкой растет дымок от забытой сигареты.
Кончается связь, он снимает наушники и возвращается к нам, возвращается весь, до последнего волоска в бороде. Как он был отрешен во время работы, так сейчас наполнен только нами, и ничем больше. Пошевелишь пальцем – увидит твое движение.
Сахаров занимается с Митей. Расстелив на топчане карты, Илья Иваныч говорит, где какие отметки залегания и как примерно изгибается рудное тело. Но он никого не забывает и тут же Николаю Нилычу показывает, на какие шурфы мы пойдем и где лучше всего фотографировать разрез пород. И обо мне не забывает. Это совсем, говорят, недалеко, и брать с собой ничего не надо, и нести будет легко.
Когда кончили рассматривать карты, пошли посидеть перед ужином на бревнах возле печки, дымящей среди улицы. Там собрались почти все жители поселочка – забойщики, воротовщицы и геологи. Собаки лежат у их ног. Спокойная серая кобыла купает в дыму голову. Больше от привычки, чем по необходимости, – мошки почти нет. Вечер спокойный. В тишине только щелкают дрова да вздыхает лошадь.
Кто курит, кто дремлет. Многие только вернулись с шурфов; вылезли из промороженных колодцев, вымылись, переоделись и греются в закатном луче. Коль комар не донимает, можно сидеть в одной шелковой рубашке. Была б у меня шелковая рубашка – тоже надел бы. Это очень хорошо после брезентовой робы или душной энцефалитки надеть прохладную, скользкую рубашку, и чистые легкие брюки, и сандалии вместо сапог. И сесть на бревно рядом с товарищами. И пожмуриться на солнышко, ожидая ужин.
Нам тоже сейчас неплохо, хоть и не в чего переодеться. Сидим, сняв сапоги и энцефалитки, смотрим, как полногрудая, круглая девушка жарит яичницу и свинину, как за распахнутой дверью в доме накрывают стол.
И все тихо кругом. Тощие сосенки не шелохнутся. Розовое облачко остановилось посреди неба, зацепилось за антенну.
Покой и отдохновение сидеть за столом, уставленным тарелками с ломтями хлеба, черникой, порошковой яичницей и свежей свининой, касаться плечом соседа, который незаметно старается пододвинуть тебе лучшие куски. Это теплое доброхотство почти ощутимо растекается по телу и сладко пьянит.
А разговоров почти нет. Только Сахаров с Митой толкуют о залеганиях руд. Огня не зажигают. Свет идет от двери, за которой стоит скудная северная тайга с тлеющими верхушками сосен. Иногда лошадь просунет морду и влезет до половины в избу, чтоб получить кусок хлеба с черникой; порой ворвется собака и шаркнет под стол между ногами – вот и все, что нарушает покой ужина.
Потом снова мы сидим на бревнах и смотрим, как проясниваются звезды, как выползает из низины туман. Сахаров исчез, и теперь с Митей говорит другой геолог. А мой сосед, забойщик Бодров, рассказывает про коптильню, которую он недавно сделал на берегу речки. Нетрудное это, оказывается, дело – копченье-то. Из большого куска коры выгибают этакую кабинку. В верхнюю половинку, закрытую сверху и с боков, вешают рыб или медвежатину. Внизу разводят костер, и дым скапливается наверху. Для запаха прибавляют кто что хочет – можжевель, или осину, или еще чего.








