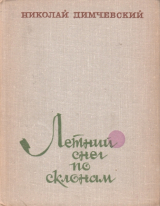
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Шлюпка торопливо отвалила и скрылась за кормой.
Силин спустился на палубу.
Сизов шмыгал носом, вобрав голову в плечи. Он не ожидал, что сразу же встретит капитана.
– Идти можешь? – спросил Силин.
– М-м-м-м... ик… огу...
– Если «огу», то иди, салажонок, в каюту, проспись. Живо! Утром списываю тебя с судна, понял?
Винокуров наклонился над Поповым и тряс его за плечо.
Силин отстранил вахтенного, присел на корточки и с отвращением дал пьяному несколько сильных пощечин. Попов открыл глаза, вытянул затекшую руку и вдруг закричал хрипло: «Я морской радист! Я вас всех... Я морской...» И уснул. Лицо – сплошь в синяках и ссадинах.
Силин вытер ладонь и устало приказал:
– Винокуров, тащи «морского»...
Потом поднялся в рубку, прикорнул на диванчике, наказав вахтенному будить, только если кто с папироской или еще что опасное.
К счастью, ничего опасного не случилось.
12
Заработала машина, загремела якорная цепь, на танкер вернулась обычная жизнь.
Вышли в море в штилевую, редкостную для этих мест погоду. Серая вода, серое небо, серая полоса берега.
Рядом с капитаном в рубке – девиатор Слобожанин. Он высок, худ, одет в щегольски подогнанную форму. Раскрыл чемоданчик, перебирает свои магниты, беседует с Силиным. Его сочный, размеренный, словно бы специально поставленный голос распирает рубку, и кажется, что говорит он не для Силина, а для огромного зала, невидимо присутствующего здесь и ловящего каждое слово.
– ...Должен сказать, что на выручку «Львицы» ходил сам. Нашли их только по радиопеленгатору. Был достаточно плотный туман – они не могли ни определиться, ни подать сигнал ракетой издали. Когда подошли к борту, капитан Голяков сказался больным и остался в каюте. Я близко с ним знаком и поэтому заглянул к нему. Поскольку он и ваш друг, я могу сказать о деталях, которых никто не знает. Он действительно лежал и, увидев меня, ни слова не произнеся – заплакал. То есть даже разрыдался. Я присел на койку и как мог успокоил его. Он совершенно не повинен в случившемся. Последующая проверка компаса показала чрезвычайную девиацию, с которой выходить в море категорически воспрещено. Однако степень девиации капитану не была известна. Единственная его ошибка: потеряв из виду ведущее судно, он продолжал идти, как ему казалось, следом, а надо в таком случае тотчас бросать якорь и ждать. Я оставался у него все время, пока шли к порту. Он повторял одно и то же: «Позор-то какой – заблудился!» Но мне удалось немного его успокоить. Он поднялся в рубку, пробыл там до тех пор, пока бросили якорь. Затем опять спустился в каюту и не показывался. Пришлось послать врача, который обнаружил переутомление и выписал микстуру. Голяков, конечно, пить микстуру не стал. Но, представляете, отказался и от коньяка. Так переживал этот нелепый случай...
Силин сам стоял у штурвала, отпустив Матюшина и приказав никому в рубку не подниматься. Он был в плохом настроении. В голове – клочья ночных происшествий, никак не остановить эту круговерть. Только Слобожанин немного отвлекал своими книжными словами и необычной манерой говорить. И Голякова было жаль. Так жаль – влажнели глаза.
В море стало полегче, тут захватило дело. Девиатор перекладывал около компаса магниты и железки, заставляя менять курс по береговым ориентирам. Курс надо было держать очень строго, и Силин старался. Даже при спокойном море ему доставалось.
Так и кружились почти до вечера. Слобожанин, впившись в компас, водил магнитами, сверяя с берегом, приказывал менять курс. Все это не глядя на Силина, словно тот машина. В кропотливой работе постепенно стиралась, ослабевала назойливая череда ночных видений. В голове оставалась лишь морская равнина под тяжелым небом, в котором пробита отдушина для мутного солнца, и прихотливый курс, продиктованный Слобожаниным.
Возвращались, отдышавшись и придя в себя. Силин передал штурвал Матюшину и, спустившись в коридор, с удовольствием отметил, что все прибрано и из камбуза доносятся запахи, от которых сосет под ложечкой. Он провел Слобожанина в каюту, заглянул к Журину, который только что вылез из машины и переодевался – пригласил к себе.
Федоровну попросил подать обед для троих. Она строго оглядела капитана, молча кивнула и отвернулась к плите. Он постоял в дверях, подыскивая что-то оправдательное, но слов не было. Да и надо ли оправдываться? Работа продолжается без задержки. Завтра с утра – в океан. Сегодня никто на «Орел» не пойдет. Силин никому не приказывал, но знал: никто не пойдет. В первый вечер сорвались, покуролесили, а сегодня другое дело, сегодня работа.
Они умостились около маленького и неудобного стола в капитанской каюте. На столе единственная бутылка коньяка, чудом и очень кстати оказавшаяся у Журина. Силин разлил коньяк в граненые стаканы.
Федоровна принесла на помятом подносе закуску: огурцы, мелко струганную капусту под уксусом, вареную рыбу и хлеб. Расставляя тарелки, покосилась на бутылку, поджала губы, но не удержалась, проскрипела:
– Обратно за то же самое... Куда это дело годится! Намедни чуть не спалились из-за того, нынче снова здорово! И когда уж уйдем от «Орла» от этого, пропади он пропадом!
Силин поставил бутылку на полочку, чтоб не маячила.
– ...Тут по чуть-чуть, Федоровна, голову поправить.
Она вышла, стукнув дверью.
Выпили, зацепили капусты. Слобожанин прожевал и стал говорить как бы безотносительно к замечанию поварихи, заполняя своим голосом каюту, не оставляя в ней места никому.
– Должен отметить, что авторитет капитана сейчас далеко не везде поддерживается достаточно. Однако помню времена, когда он был на высоте, – девиатор прикрыл глаза, поднял лицо к потолку, перебирая в памяти примеры и шевеля губами. – Взять хоть воскресенье, обед... В будние дни капитан обедает в каюте – так заведено, и это верно. А в воскресенье, – он открыл глаза, многозначительно посмотрел на собеседников, – ...в воскресенье – простите! – медленно покачал указательным пальцем и головой в знак совершенного отрицания и продолжал: – Но здесь одно условие: в течение недели капитан должен вести себя безукоризненно. Как ведь было принято – если сослуживцы капитаном довольны, без четверти двенадцать к нему заходит первый помощник и приглашает: «Товарищ капитан, мы вас ждем». Нужно отметить – большей чести для капитана нет. – Слобожанин вновь поднял указательный палец, но теперь в знак утверждения. – В свежем кителе, при всех регалиях, капитан появляется в кают-компании, садится во главе стола... – Слобожанин невольно застегнул верхнюю пуговицу и сел прямо, – окидывает присутствующих проницательным и вместе с тем благодарным взглядом, наливает себе из графинчика: «Прошу начать». И обед начинается...
Силин разлил остатки коньяка. Он понимал, почему девиатор завел такой разговор, но у него и мысли не было прервать. Слобожанин умел говорить безотносительно, отдаленно, не вызывающе и в то же время прозрачно, умел указать, не тыча пальцем.
Покончив с коньяком и отведав рыбы, приправленной лучком и уксусом, девиатор продолжал:
– Но если капитаном недовольны, – правая бровь поползла вверх, – простите! К воскресному обеду его никто не приглашает. Это, если хотите, мера наказания, выносимая коллективно. Я бы сказал, очень демократичная и сильная мера. Капитан один обедает в каюте, переживает, анализирует свое поведение за неделю, делает выводы...
Слобожанин повертел стакан в руках, рассеянно поставил, задумался и опять вернулся к своей мысли.
– Я не имею в виду суда небольшого тоннажа, но и на крупных далеко не везде хранятся морские традиции. В прошлое воскресенье мне довелось побывать на судне, которое не стану называть. Я был приглашен к обеду первым штурманом... Входим в кают-компанию, и, представляете, капитан уж там! Пришел едва ли не раньше всех, пришел, как говорили когда-то, «пошамать», простите. Внешний вид: засаленный рабочий китель, в одной руке чуть ли не луковица, в другой хлеб, разговаривает с боцманом, едва не команды отдает... И это в порядке вещей. Деловой, так сказать, обед... Нет, нет и нет! Не могу с этим мириться!
«Ну, режь, режь», – думал Силин. Настроение у него совсем выправилось, и он поглядывал уже на чайку, раскинувшую крылья над шкафчиком. И думалось о гагаре, и хотелось в море, и радовало, что компас в порядке.
Утром шквалистый ветер прорвал облака и недавно белесое море окрасилось холодной синькой. Разгонялась волна, из-под носа вымахивали брызги. Этим ветром и солью продуло, прочистило танкер, прояснило мысли.
И вот словно не было порта – опять с четырех сторон океан и курс на северо-восток, против ветра, к берегам, означенным на лоции и недоступным еще глазам.
9
Не могу разгадать, как, почему приходит и развивается замысел, не понимаю механизма, тех колесиков и шестеренок, которые неожиданно сцепляются, начинают работать, и прошедшее, когда-то увиденное, неуловимое отливается в некий слиток, остается на бумаге, существует уже независимо от тебя и потом, через годы, читается как чужое, вызывая подчас удивление. Тему иногда грубо намечаешь заранее: «оленеводы» или «речники». Так обозначенная, она пуста, обща, ее не видишь, хоть и знаешь. Лишь живые люди и события насыщают ее, приближают к воплощению. Но людей пройдет вереница. Кто же останется? Чей облик станет образом? Как оживится, сузится, повернется тема? Этого не знаешь. Потому и едешь, что не знаешь. Знал бы, не поехал. Но ведь когда съездил и увидел, все равно долго еще впечатления остаются как бы роликом непроявленной пленки – все вроде бы есть, отснято, но показать нечего и самому посмотреть нельзя. От поездки ждешь большого материала, заранее хочешь сделать что-то внушительное. А вдруг, независимо от желания и планов, мелькнет кто-то, вовсе случайный для замысла, и вклинится в память, и вопреки всему заставит рассказать о себе...
Еще там, в поезде Москва – Лена, в самом начале пути, едва познакомившись с проводницей – диковатой, вовсе не похожей на своих напарниц девушкой, я почувствовал тему. Понимал: все главное, зачем еду, – впереди, за горами, за гарями, за таежным разливом. И все ж зеленая девчоночка, отважившаяся оторваться от мамы, от обжитого Подмосковья, не улетучивалась, не испарялась из памяти, жила и настойчиво, как цыпленок в скорлупу, стучалась. Ее не заслонили ни фигуры опытных капитанов, ни красоты, ни трудности речных переходов. И ведь простучалась раньше всех!..
ВСТРЕЧИ С РОНСАРОМ
В проем двери, наполненный черной тихой тайгой, было видно, что Соня стояла на подножке, прижавшись щекой к поручню, и плакала. Сначала я не заметил, что она плачет, только когда окликнул ее и она обернулась, я почувствовал неладное, а потом увидел, что плечи ее вздрагивают.
Я не стал расспрашивать и молча смотрел на яркую звезду, повисшую над сопкой. Была оглушающая тишина. Кузнечики, стрекотавшие в траве, тоже были тишиной. После железного лязга поезда все было тишиной.
Глухой маленький полустанок где-то за Тайшетом.
Отстранив меня, прошла пожилая проводница – сменщица этой, молоденькой, спустилась по ступенькам и увлекла ее за собой. Теперь во тьме мутнелись их белые кители. Послышался долгий вздох.
– Не плачь. Соня, не плачь, – шептала пожилая. – Вот еще плакать из-за такого хамья. И думать выброси. Мало их тут шляется? Из-за всякого плакать – слез не напасешься.
Соня уткнулась в грудь напарницы и разрыдалась, не сдерживаясь. Но скоро затихла, а потом, всхлипывая, стала говорить, никак не умея отвязаться от обиды.
– Я же им по-хорошему сказала... Ресторан закрыт, говорю... А вы выпивши уже, говорю... Чего пойдете-то через весь состав ночью... Еще прищемит в тамбуре-то, говорю... Пожалела их... А этот, седой, усатый черт... обхватил меня... и лезет целовать. «Пойдем к тебе, говорит, в служебное помещение...» Фу, липкий весь... Гадость...
Соня опять спрятала лицо на груди пожилой проводницы, и та, успокаивая, гладила ее плечо.
– Ничего, ничего. Пьяные мужики, что с них взять. Все они такие. Проспится – глаза стыдно казать. А пьяные все лезут... Погоди, раз пять съездишь, научишься с ними расправляться. Это в первой поездке только так все к сердцу принимаешь...
Проводница совсем снизила голос и говорила Соне на ухо:
– Я вот пожилая, а все равно лезут ко мне. Иной раз совсем молоденькие, а туда же норовят... Ну, чего – посмеешься да и только. В прошлый раз пристал такой хлипенький, чуть усята пробились. Я ему и говорю: «Я ведь бабушка уж. Нарожаю тебе внучат – разом дедушкой станет...» Он и отстал.
Спокойная звезда висела над сопкой, и кузнечики стрекотали. Черная тайга дышала пихтой и тишиной.
Совсем нескладная эта Соня. Она худа, высока. Узкое лицо и серые глаза меняются каждое мгновенье – от улыбки до тоски. Руки постоянно теребят что-то: пуговицу, флажок, фонарик. Форменная одежда ей неловка, сидит кое-как, морщится, перекашивается. Соня понимает, но исправить ничего не может, и это ее гнетет. Руки, ноги, лицо – все у нее живет отдельно, все рассыпается, и она никак не может собрать их воедино. Она словно только вселилась в свое девичье тело, как в новый дом, и не знает, где в нем что и зачем существует. За двое суток мне не удалось сказать с ней и двух слов. Она приносила чай, относила стаканы. Самые невинные шутки лишали ее дара речи – она не находила, что ответить, и поскорей убегала. Подмести пол в купе, где сидели пассажиры для Сони было пыткой. С мукой выдавливала она слова: «Посторонитесь, пожалуйста». По лицу шли пятна. Рука с веником двигалась, как деревянная.
Вечером, на долгом перегоне, я пошел за чаем. Дверь в служебное купе была открыта. На лавке сидела Соня и читала тонкую книжечку. Я встал на пороге. Соня меня не заметила. Я заглянул в книжечку. Стихи.
– Чьи это стихи? – спросил я.
Соня вздрогнула, закрыла книжку и посмотрела на меня испуганными глазами. Но испуг только мелькнул и пропал. Соня улыбнулась, потом смутилась на мгновенье и снова улыбнулась. В ее глазах нарастала отвага.
– Это стихи Ронсара, – сказала она ломким голосом.
– Я никогда не читал Ронсара.
Соня вспыхнула и тотчас побледнела, но взгляд не отвела. В глазах все еще жила отвага, словно между нами не обычный вагонный разговор, а турнир, в котором нужно мужество и напряжение всех сил.
– Ронсар – французский поэт. Он жил в шестнадцатом веке, – сказала Соня. – Он был пажом принца Карла, герцога Орлеанского. Ронсар был высокий и красивый... – Соня облизала пересохшие тубы. – Прекрасно стрелял, фехтовал, был первым в охоте, плаванье, борьбе, в скачках. Он знал несколько языков. Ему было тринадцать лет, когда его взяли в свиту принцессы Мадлен, и он уехал в Шотландию. В шестнадцать лет он был дипломатом – побывал во Фландрии, Зеландии, Германии, Пьемонте. В Германии Ронсар заболел малярией и начал глохнуть. Тогда он бросил дипломатию и стал заниматься литературой. Он обновил французскую поэзию, ввел в нее народный язык. Он, как наш Пушкин...
Соня говорила одним дыханием, без пауз и, кончив, задохнулась. Чтобы не спугнуть разговорившуюся девушку, я сразу же попросил рассказать о стихах Ронсара.
– Он писал о любви, – ответила Соня, отважно глядя мне в глаза. Наверное, она решила побороть свою робость, и я с моими вопросами стал для нее чем-то вроде груши, с которой тренируются боксеры. – Он любил нескольких женщин. – У Сони сорвалось дыхание, но она заставила себя продолжать. – Его нельзя осуждать за это. Он любил по-настоящему. Его первая возлюбленная Кассандра Сальвиати была замужем. Ронсар только воспевал ее в стихах, любовался ею. Он поклонялся ей издали. Даже не дотронулся до нее ни разу. Такой был благородный человек...
Соня поправила юбку на коленях и отодвинулась подальше от меня, хотя я продолжал стоять в дверях. Наверное, она хотела подчеркнуть этим свое недоверие ко мне, как мужчине с неблагородными если не поступками, то мыслями-то наверняка.
– ...Потом он полюбил простую крестьянку Марию Дюпен. Ронсар познакомился с ней в Бургейле и несколько лет был с ней в связи. Ей посвящено много стихов. Любовь к Марии много дала Ронсару. Его талант расцвел в эти годы. – Соня перевела дыхание, помолчала и вдруг бросила резко: – Любовь так и должна – возвышать человека, помогать ему в жизни, в работе, во всем... – И посмотрела на меня с вызовом, ожидая возражения.
Я промолчал.
– У нас девчонки встречаются с парнями, но это не любовь. Так себе – танцы, провожаются вечером и все такое. Некоторые в связи живут, – Соня облизала губы, – но никто не цветет, не переменяется, не становится лучше, потому что у них не любовь, а так...
Это было вчера. И вот теперь полустанок, и звезды над сопкой, и кузнечики в темной траве, и шепот у подножки.
– Я никогда, никогда не буду отшучиваться от таких, – говорила Соня сырым от слез голосом. – Разве можно с ними шутить? Я научусь приемам и буду им руки ломать. Я знаю, есть прием – любому можно руку сломать...
И опять только кузнечики да скрип песка под ногами.
– Марья Ивановна, неужели все мужчины такие? Неужели нет благородных и честных, которые любят по-настоящему? Вот ваш муж...
– Он давно погиб, Сонюшка... – тихо говорит проводница. – Он был хороший человек. И ты встретишь хорошего. Ты молоденькая совсем. Встретишь еще...
Станция Лена была утром. Тихое, чуть затуманенное солнце. Простор синей реки и таежная синь.
Соня растерянно и неловко мне кивнула на прощанье. Я хотел сказать что-то о Ронсаре. Она смутилась, покраснела, и я ушел, не досказав фразу.
Потом была Лена, Витим, море Лаптевых. Соня и маленькие происшествия в дороге отдалились. А года через полтора я, казалось, начисто все забыл.
Только однажды в весенний яркий и холодный день, мимоходом просматривая книги на лотке букиниста, я заметил необычное издание. Совсем новая с золотым обрезом книга была словно скопирована со старинного фолианта. Я раскрыл ее. Роскошное парижское издание Ронсара. Портреты 27‑летнего поэта и 20‑летней Кассандры.
Я листал страницы и уходил туда, на таежные полустанки... Помнится, тогда я попросил Соню показать самые понравившиеся ей строки. Она взяла книжку, полистала и протянула мне. Когда я прочитал, она нашла второе, третье стихотворение. Мне показалось неожиданно смелым то, что она отметила и так просто, не смущаясь, мне показала. Она выбирала самые дерзкие и резкие стихи.
– Вот это я написала бы на лбу у всех мужчин, которые к девушкам пристают. Вырезать бы печать – и на лоб, на лоб шлепать несмываемой краской.
Она почти бросила мне книжечку и отвернулась к окну.
Ты можешь только ржать, на что тебе любовь?
Ты бледен, как мертвец, твой век уже измерен.
Хоть прелести мои тебе волнуют кровь,
Но ты не жеребец, ты шелудивый мерин.
Прочитав, я сказал, что всем, наверное, не стоило бы ставить такую печать. Если девушка по-настоящему нравится, какое же тут «приставанье» и зачем тогда печать?
– Вот именно, «по-настоящему», – сказала Соня, не оборачиваясь. Голос ее дрожал. – Но ведь вы совсем не по-настоящему относитесь... Все мужчины, все... С усами липкий этот вчера «по-настоящему» ко мне, да? – Соня прижалась лицом к стеклу и теребила занавеску. – Когда по-настоящему, – совсем другое. Ни о какой печати и не подумаешь. – Она замолчала, отодвинулась от окна, смотрела на таежные гари, тянувшиеся возле полотна, и вдруг совсем не своим, но твердым и жестким голосом сказала: – Я буду с мужчиной, только если по-настоящему полюбим. – Глубоко вздохнула и уже другим голосом прибавила мечтательно: – Точно он – я сама... Чтоб как на солнышке у речки, когда загораешь одна...
Она сидела спиной ко мне, но я заметил, как порозовели ее щека и ухо. Она глотнула воздух.
– И хочу, чтоб сразу был ребенок. Хоть учусь всего на втором курсе, но если встречу такого мужчину и полюбим – сразу будет ребенок.
Соня задумалась и водила пальцем по стеклу. На какое-то время она забыла про меня, а может, просто мысли не надо было произносить вслух, и поэтому она молчала. Попозже она повернулась ко мне и совсем тихо сказала:
– Только по-ненастоящему я и сама не дотронусь ни до кого и до себя дотронуться не дам. – Ее глаза расширились. Она с неприязнью посмотрела на меня, хотя я стоял поодаль и вовсе не собирался до нее дотрагиваться. Потом отвела взгляд и продолжала: – Даже если мой мужчина знал женщин – пусть. Если он полюбит, как я, ему никто больше не понравится, он всех забудет и останется со мной одной. Я никогда у него не спрошу, кто был до меня. Если полюбит – значит, вся жизнь сначала. – Она опять отвернулась к окну и почти прошептала: – Не только ведь в шестнадцатом веке были такие случаи...
Мы долго молча смотрели на сырую вечернюю тайгу, на дальние увалы. Долина Бирюсы. При чем тут шестнадцатый век? Ронсар? Соединение вида безлюдной тайги с именем блестящего поэта, который так неожиданно ожил в сердце этой девушки, показалось мне странным и даже нелепым. Тогда у меня мелькнуло ощущение именно чего-то странного. Но оно тотчас пропало. Соня повернулась ко мне и протянула руку за книжкой, протянула требовательно и уверенно. В этом жесте совсем не было обычной для нее застенчивости. Я поразился.
На какое-то мгновенье она преобразилась. Или мне только показалось... Я увидел, что ее продолговатое лицо с бледной кожей и потемневшими серыми глазами налилось мечтательной красотой. Даже китель стал ей впору. Больше того, он ей шел, придавая строгость и недоступность. Наверное, таким был Ронсар-паж.
Она посмотрела на меня из-под челки без обычного диковатого выражения. Я уверен, что она не видела меня. Соня в этот миг оставалась наедине с мечтой и забыла свои недавние неприятности. Я понимал, что сейчас она живет в мечте, живет по-настоящему, и для нее не существует вагона, тайги, меня – всего, что лежит по ту сторону мечты...
Я купил томик, хотя не читаю по-французски. Как удивительна судьба книг. Надо же было во Франции, в шестнадцатом веке написать стихи, чтоб я, взяв в руки книжку, вспоминал ночной полустанок за Тайшетом, звезду над черной тайгой и влажный шепот обиженной девушки.








