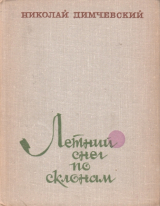
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Теперь, утолив голод и жажду, Рогов, не торопясь, осматривался. Ему вспоминались другие годы, другие люди, другие чумы, но везде, где его принимали, было так же, и он возвращался сюда, к этим людям, в этот чум.
Как принято, на землю тут положены чисто выскобленные березовые доски. Кое-где в щели пробивается мох и трава. Для очага посреди чума оставлен проем между досок. По краю – мох и мелкие березки, опаленные жаром. В местах каменистых и песчаных огонь разводят прямо на земле, а здесь, среди мхов, – на листах железа, чтоб не поджечь торфяник под чумом. Листы железа удобны еще и тем, что при надобности на них можно печь лепешки. Угли стряхивают на один лист и им прикрывают другой, на котором тесто.
Ближе к брезентовой стенке доски накрыты шкурами и на них, с краю, – подушки, одеяла, спальные мешки. Спальники здесь особенные – с двумя штанинами. В таком мешке можно пройтись по жилью или, не теряя тепла, выскочить наружу.
К шестам, на которых держится чум, над очагом прикреплены две жерди, висящие на ремнях. Они прокоптились, почернели от дыма и времени. В хозяйстве это первая вещь – на них вялят сором нёгу[14]14
Сором нёга – сушено-копченое мясо.
[Закрыть]. Куски мяса и сейчас перекинуты через них. На жердях же лежат перекладины, продетые в дырочки деревянных держал для чайника и котла. При сильном огне держало поднимается на несколько дырочек вверх. Когда надо тушить мясо на углях, держало с котлом опускается вниз. На жерди можно повесить для просушки намокший гусь или выстиранную рубаху. Много для чего годятся они, всего не упомнишь.
Шесты чума не только поддерживают брезент. Под них заткнуты сохнуть шкурки оленят с короткой крепкой шерстью. Там же торчат недавно сшитые меховые чулки – чижи и другая всячина из оленьих кож. К ним же привязан куском ременного аркана прокопченный приемник «Спидола». Полукружьем над расстеленными внизу шкурами, примерно на высоте груди, подвязана к шестам скатка полога, сшитого из красного ситца. У входа покачивается на сыромятном ремешке начищенная медная чашка с носиком – старинный умывальник. Он горит, как елочный шарик, отражая переменчивый свет углей.
Напротив входа, за очагом, – сундучки с припасом на каждый день. Там сушеный хлеб, сахар, соль, дешевое печенье, мука. А весь припас на полгода, вместе с зимней одеждой и зимним покрытием для чума, сшитым из оленьих шкур, хранится не здесь – разве тут все уместишь? Весь припас в вандеях, крытых берестой или брезентом. Вандеи стоят неподалеку от чумов, отгораживая жилую площадку от тундры.
Над сундучками к шестам же привязана полочка из прокопченной доски. На ней – самое ценное – деньги в старинной жестяной банке из-под чая, документы, завернутые в кусок замши, квитанции о сдаче мяса и шкур. Там же коробка с запасными латунными пряжками, вертлюгами для сбруи, пуговицами, бубенцами, колокольчиками, иголками и прочей мелочью. Еще там стоит литая позеленевшая иконка – складень божьей матери и Николая-чудотворца, покровителя пастухов, путешествующих и мореходов.
В том же углу (хотя какие углы у круглого чума...), где кончаются доски пола, – место для олененка и собаки. Сейчас их здесь нет – сын Никифора Даниловича, семилетний Филька, увел на тандер[15]15
Тандер – большая площадка у чумов, куда собирается стадо.
[Закрыть], чтоб не мешали гостям.
А гости, насытившись мясом и рыбой, пьют чай, изредка говорят вполголоса, но больше молчат, берегут покой.
Иван Павлович выпьет большую чашку, приляжет на подушки, отдыхает. Катя наливает другую, и он смотрит, как над чаем курится пар, прислушивается, как ворчит в котле оленина.
Лицо девушки кажется ему знакомым, он собирается расспросить ее, но все забывает за чаем. Посмотрит – вспомнит, возьмет чашку – забудет. Да, где ж он ее видел? И когда?
– Где-то я вас видел, красавица?
Катя улыбнулась, поставила чайник на угли.
– Неужели не помните? В поселке. Я в красном чуме работаю.
– Да, да, да... В красном чуме...
– В ту зиму, когда на стойбище волк людей покусал, мы с вами бегали вертолет вызывать.
– Ах, вот как! Ну, конечно же, вот я вас и вспомнил.
Никифор Данилович, задумавшийся о чем-то и принявший прежний нелюдимый и диковатый вид, оживился вдруг и мягко сказал, повернувшись к Рогову:
– Помаленьку подучивает нас, стариков, грамоте, книжки нам читает, за тетрадки сажает, как детей. Мы ее слушаемся – самое большое начальство у нас.
– Все слушаются, кроме вас. Непослушный вы ученик. Как ни спросишь, урок не сделан.
Никифор Данилович отвернулся и, нагнувшись, долго раскуривал папироску, зажженную от уголька. А когда раскурил, опять стал замкнутым и нелюдимым. Темные тени у глаз и на щеках, резко прочерченный нос и морщины придавали ему безжалостно-суровое выражение. Да еще красные блики от углей и красный огонек папиросы совсем искажали лицо, изламывали острыми углами. И угадывалась за ним жестокая жизнь, протянувшаяся через пять десятков лет, через Большеземельскую тундру до Карского моря, через Ямал, через пурговые зимы и комариные лета.
Рогов отхлебнул чай и задумался, поглаживая чашку. Задумался о странностях жизни. Эта девушка учит пастуха, который сам бы мог поучить иного ученого. Укоряет его непослушанием и проверяет его тетрадки, тогда как все бытие его – сплошная проверка знаний и уменья жить среди трудностей почти немыслимых. И справедливо ли вообще ценить человека по знаниям, которые расписаны в школьных программах? Тогда этого пастуха надо назвать малограмотным. А между тем о его жизни и опыте надо писать книги. Что из того, что, кочуя по тундре, он не научился бегло читать буквы? Он научился читать тундру, и его уменье нужно всем, кто идет в тундру. Есть природная образованность и воспитанность, которые не ниже приобретенных в школе. Нет, не ниже.
Вот пришлось бы обдумывать будущее оленеводства: пастбища, пути касланий, размеры стад, техника для пастухов... С кем бы Рогов стал советоваться? Со многими учеными, биологами, инженерами. Но прежде все-таки с Никифором Даниловичем. Да, с ним. Рогов перебирал в памяти авторитеты, освященные званиями и известностью, но не мог найти никого, кто бы практически так же цельно и всеохватно знал оленеводство, как этот пастух.
Конечно, ценность человека в самом человеке. Звания могут подчеркнуть достоинства, но придать достоинств звания не могут. Достоинства независимы от званий, они – сам человек.
Чай кончился, теперь гостям – отдыхать, хозяевам – за дела. Марфа Ивановна распустила завязки, придерживавшие полог, и та часть чума, где постелены шкуры, превратилась в спальню.
За пологом такой уют и покой, что глаза слипаются сами. Едва коснется подушки голова, летишь в сладкий праздничный сон. Спишь, не ведая времени, каждой клеточкой впитывая тишину, вдыхая пряность трав и дотлевающих углей. Спишь, сколько влезет. Спишь за полдень.
Просыпаешься от странных звуков, подкатившихся к чуму, – то ли кряканье, то ли хрюканье... И еще слышится дробное металлическое постукивание – словно пересыпают стальные шарики подшипников. Спросонья никак не можешь связать эти звуки вместе, они рассыпаются, живут порознь. Откуда тут утки и свиньи, почему вдруг подшипники? Все начинает казаться продолжением сна. Только лай собаки и чей-то далекий голос возвращают к действительности.
Петя открыл глаза. На линялом пологе ярким пятном горел солнечный луч, заглянувший через вершину чума. Из-за этого луча шкуры и подушки и даже похрапывающий рядом Валентин Семеныч – все нереальное, игрушечное. Наверное, потому, что вспомнилось детство – как с сестрой накрывали старым одеялом два стула и устраивали кукольный дом. Солнце точно так же просвечивало его красным пятном.
Это смутное, давнее ощущение кукольного уюта, которое бывает только в детстве, – ощущение полного покоя, не омраченного ничем, охватило Петю, и он полежал еще несколько минут, закрыв глаза.
Потом приподнялся. Валентин Семеныч крепко спал, Рогова не было. Петя осторожно вылез из-за полога.
Марфа Ивановна сидела у погасшего очага на овальном берестяном коробе и сучила нитки: ловко отщипывала от куска оленьего сухожилия тонкие волоконца, смачивала слюной, быстрым движением пропуская через рот, скручивала между пальцев и прикрепляла к пучку готовых ниток, висевшему на груди. В луче солнца сочно светилось ее брусничное платье с зеленой полосой по подолу и красная повязка на голове, искусно уложенная вроде старинной русской кики с двумя рожками вперед. В народной одежде у коми вообще много общего с русской одеждой.
– Чего мало отдыхали? – приветливо спросила она, вынимая изо рта жилку.
Такой стариной повеяло, такой давностью, что Петя не нашелся с ответом. Он пробормотал «спасибо», поискал глазами сапоги и увидел в тени, за очагом, Катю. Она сидела на скамеечке с книжкой на коленях и отмахивалась от комаров лебединым крылом. Ноги у нее были такие же розовые и гладкие, как руки и как шея. Впрочем, перехватив Петин взгляд, она тотчас прикрылась пестрой косынкой. Студенту от этого легче не стало. У него пересохло во рту, и лицо загорелось.
Досадуя на свое смущение, он спросил, гдо Рогов.
Катя отложила книжку и, продолжая обмахиваться белоснежным крылом, ответила, что Иван Павлович на тандере – проверяет насос для опрыскивания оленей.
– Это далеко?
– Недалеко, совсем рядом. Да я вас провожу.
Тут Марфа Ивановна попросила ее бросить в очаг мокрого мха, чтоб дымом отпугнуть комаров. Пока Петя надевал сапоги, Катя выскочила из чума и вернулась с охапкой мха.
– Там они, на тандере. Насос разбирают. А комаров! Опять олени сыты не будут...
– Плохое лето, – вздохнула Марфа Ивановна.
Катя раздула угли, покрывшиеся уже густым пеплом, бросила туда мох, достала из-за шеста другое лебединое крыло – обтрепанное и закоптелое, помахала над очагом. Белый дым сырым клубком взвился вверх, затеняя луч солнца.
– Пойдемте покажу, где они. – И откинула брезент у входа.
Вышли в безветренный комариный день. Ярко-зеленая равнина в парном мареве убегала к горизонту. В озере нестерпимыми бликами играло солнце. Петя зажмурился, перед глазами поплыли черные круги. Обогнули чум, миновали вандеи, и открылся тандер.
Это удивительное зрелище – почти три тысячи оленей, сбитых в один плотный диск. Сверху стадо, как коралловый остров – сплошное переплетенье прихотливо разветвленных бархатных рогов. Середина его неподвижна, а чем дальше от середины, тем беспокойней животные. Они плотными слоями кружат вокруг центра. Движение нарастает к краю, где несколько сот оленей галопом мчатся по кругу, стараясь вжаться внутрь диска. Они бегут, как заведенные, не сбавляя хода – спасаются от комаров и овода. Со всех сторон они открыты для укусов. Легче всего тем, что в центре. Но и там олени стоят, задрав голову, и не могут ущипнуть ни клочка мха. Так весь долгий полярный день стадо голодает. Только ночью, если посвежеет и пропадут комары, олени могут попастись.
От этого живого диска и доносится кряканье и хрюканье – голоса оленей, отфыркивающихся от комаров и оводов. А металлический стук – потрескиванье бабок в нижних суставах ног. Чем больше усталость, тем громче треск.
Сначала все олени видятся разом. Но постепенно начинаешь различать и рассматривать нескольких отдельно. Вон по самому краю стада летит хор – красавец бык с неправдоподобно роскошной короной на голове. Перед ним меркнут ездовые, поразившие Петю ночью. Ветви рогов сплелись в сложнейший орнамент. Ото лба вперед, почти до конца морды, выдвинулись два широких плоских отростка с округлыми зазубринами по краю. От них к спине – мощные мохнатые стволы, бурно ветвящиеся, изгибающиеся, переплетающиеся и оканчивающиеся широкими лопастями, похожими на короткопалые ладони.
Вслед за хором бежит важенка[16]16
Важенка – самка оленя.
[Закрыть]. Она не отстает. Но если бык – стремительность и сила, то в ее беге все – плавность и грация. Важенка скромней иного захудалого хора – и ростом ниже, и рога без причуд, а красоты в ней не меньше, целомудренной, наивной, спокойной красоты.
Телята все в середине стада. Редко выскочит какой, посмотрит огромными глазами и нырнет обратно.
Иван Павлович давно заметил Петю, но не окликает – пусть посмотрит на оленей, понаблюдает, полюбуется, попривыкнет. Сам когда-то так же стоял, не мог оторваться, с места сойти не мог. Самое красивое животное – олень. Сколько их перевидал, а не привык, не стал равнодушным. Всякий раз точно заново их видишь. И на стадо по-прежнему можно смотреть часами, как на море, на облака, на огонь. Да что Рогов! Оленеводы родятся на нартах, у детей вместо игрушки – олененок, и едят оленя, и одеты в оленя. И все равно видят его красоту.
Иван Павлович любил рассматривать зимнюю одежду хантов и коми, все эти малицы[17]17
Малица – меховая одежда, шьется мехом внутрь, надевается через голову.
[Закрыть], совики, гуси-парки[18]18
Совик, гусь, парка – шьются мехом наружу и украшаются орнаментом.
[Закрыть], тобоки[19]19
Тобоки – меховые сапоги.
[Закрыть], чижи, кисы...[20]20
Кисы – сапоги, сшитые из камуса – меха с оленьих ног.
[Закрыть] Что ни возьмешь – произведение искусства. Здешние женщины диво как шьют из оленьих шкур. Вырезают из кусочков меха каждая свой узор, собирают в полосы и нашивают на одежду. Такому орнаменту, как у них, только завидовать да любоваться. Научиться нельзя. Для этого надо родиться в тундре и прожить всю жизнь.
Давным-давно спросил как-то Иван Павлович у одной мастерицы, что же значит узор, который она шьет.
– Олений узор, – ответила. – От оленьих рогов взят. Матушка шила, меня научила; бабушка шила, матушку научила. Спокон веку олений узор шьем.
Через всю жизнь проходит этот олений узор. Сразу его узнаешь, на любой одежде, но всегда он разный. Каждая мастерица по-своему шьет его. Нет двух одинаковых оленей, двух одинаковых людей, двух одинаковых жизней, и поэтому всегда разные узоры получаются.
Пока не знаешь, не присмотришься – все узоры одинаковы, все олени на один вид. А поживешь с пастухами, и откроется сокровенное, недоступное беглому взгляду. Откроется, к примеру, что оленеводы среди трехтысячного стада каждого хора, важенку и теленка знают в лицо. Они отличают своих от чужих, где бы их ни встретили. Случалось, смешивались два стада: пять тысяч оленей кружились по тундре. И пастухи разделяли стада и никогда не ошибались, не путали оленей.
А если и заспорят, то в споре помогут сами олени. В стаде они всегда держатся семьями. От важенки не отходят ее дети и внуки. Даже став взрослыми и заимев своих детей, они льнут и ластятся к матери. Иной раз хор с раскидистыми уже рогами тычется мордой в вымя матери, чмокает губами, как в детстве.
Лет пять назад еще отдал Никифор Данилыч в соседнее стадо теленка – возвратил долг пастуху. Пастух умер. На его место пришел молодой. Однажды, повстречавшись со стадом, Никифор Данилыч увидел своего хора, который стал совсем взрослым.
– Хорошего хора я отдал старику.
– Какого хора? – не понял молодой пастух.
– Вот этого хора.
– Это наш хор, он всегда был в стаде, он от нашей важенки.
– Думаешь, я не помню своего хора? – обиделся Никифор Данилыч.
Заспорили и решили, чтоб их рассудили сами важенки. Пастух привел ту, которую считал матерью хора, Никифор Данилыч свою. И олень, который несколько лет не видел мать, бросился к ней, стал ласкаться, радоваться.
В повадках оленей много благородства, мудрости и чистоты. Хор, ставший отцом, трогателен своей заботой о семье. Откопав из-под снега мох или гриб, он не притронется к лакомству, хоть и очень будет голоден. Подзовет важенку или теленка, скормит им.
Удивительна и аккуратность оленей. Питаясь ягелем, они скусывают только верхние молодые побеги, скусывают ловко и чисто, не потревожив корня. Словно знают, что, испортив корень, долго не дождешься, пока он окрепнет и выбросит мягкие лепестки. От этой-то аккуратности пастбища и встречают стада хорошим кормом. Если же корень повредить – больше десятка лет пройдет, пока вновь созреет ягель.
Эту мудрость природы все чаще нарушает человек. Возжаждав дешевого мяса и шкур, он собирает слишком большие стада, слишком много оленей поселяет в тундре. И они уже не могут жить по древним повадкам. Стада идут друг за другом по одним и тем же угодьям. И чтоб не остаться голодными, хочешь не хочешь, надо выщипывать весь ягель, до корня. Когда же съедены даже старые перья мха, которые прикрывали корень, копыта разбивают землю и вытаптывают его до конца. Так скудеют пастбища, а без них нет оленю жизни. И поэтому должны поредеть густые стада и все должно вернуться к закону, установленному природой.
Непростительно желание взять у природы больше, чем она может дать.
Эти мысли приходили и уходили сами. Иван Павлович не звал их. Сейчас он занят был другим. Его влекли не мысли, а то, что в руках, от чего зависит успех или неуспех нынешней поездки. Сидя на корточках, он смазывал автолом кожаную прокладку поршня. Щеки и лоб в черных пятнах – сгонял комаров. Не терпелось поскорей начать опрыскивание стада. Погода подходящая, комара – пруд пруди, и вот тебе – насос забарахлил...
Пете сразу же нашлось дело. И с этого момента у него никогда не оставалось времени на то, чтобы созерцать животных и природу. Теперь он все видел через свое дело, видел не со стороны, а по-настоящему.
Не меньше часа прокопались почти молча. Потом Ротов спохватился насчет чана для раствора. Насос чиним, а чана-то нет! Эх, мать честная – сколько времени потеряли! Поднялся, с трудом распрямил затекшую поясницу – и пошел в чум просить Марфу Ивановну сшить из брезента чан-мешок.
Не успел Петя крышку прикрутить, Иван Павлович уже возвращается.
– Готово? Давай-ка шланги продуем. Бог даст, к вечеру первое опрыскиванье устроим. А завтра с утра – осмотр стада. Оказывается, есть непривитой молодняк, сделаем прививки. Для тебя хорошая практика – поколешь, копытку[21]21
Копытка – болезнь ног у оленей.
[Закрыть] полечишь. К олешкам надо, брат, привыкать.
Петя сбегал к озеру, притащил брезентовое ведро воды. Качнули насос – тянет, шланги в порядке. Поставили на шланг форсунку – не работает. Вот незадача! Рогов с досадой шлепнул себя по ляжке, принялся раскручивать форсунку, чистить проволочкой. Вечно какая-нибудь неурядица. Столько времени потерять на дурацкую механику!
– Сбегай посмотри, как там кройка подвигается. И Валентина Семеныча буди – хватит ему спать. Дел невпроворот.
Толстый зеленый брезент был уже разрезан. Марфа Ивановна и вялый ото сна Валентин Семеныч держали будущий чан за углы, а Катя на живую нитку метала швы.
Понесли показать Рогову.
– Молодцы. Все правильно. Теперь шейте покрепче. Если жилка найдется – жилкой, – попросил он, не переставая продергивать проволочку сквозь отверстие форсунки.
Видно, Петю очень задело упоминание о жилке. Он рассказал, как Марфа Ивановна сучила свои нитки, и вспомнил при этом каменный век.
Рогов улыбнулся:
– Что поделаешь... Атомный век не придумал еще чего-нибудь толкового для оленеводов. Одежду, обувь из оленьих шкур ничем не сошьешь, как жилкой. Никакой капрон не подойдет. Изобретение, конечно, каменного века, но лучше пока никто не предложил. Патент, брат, не превзойден. Пробовали шить самыми крепкими нитками – не то. Весь секрет в жилке. Видел на Даниле сапожки? Не промокают. А если их ниткой прошить – начнут промокать, особенно от капроновой. Секрет простой – нитка не закрывает прокола, который остается в коже после иглы. Кожа намокнет – вода сквозь нитку сочится. Да и гниет нитка быстро. Жилка другое. Попадет в воду прошитый жилкой сапог – кожа разбухнет, жилка тоже разбухнет и закупорит отверстие, ни капли не просочится. Кожа подсохнет, и жилка подсохнет, опять все закрыто. Что ты! В этом большая мудрость. Тут люди знают природу лучше иных профессоров.
Иван Павлович продул форсунку, свинтил и поставил на шланг. Петя качнул насос, облачко распыленной воды обдало Рогова.
– Теперь другой коленкор! – засмеялся он, стряхивая капли с лица.
Вспомнились многие изобретения и хитрости здешних людей, и кое-что он между дел рассказал Пете.
Рассказал, как однажды решили поставить на пути каслания дом, чтоб пастухи могли зимой погреться, пожить в уюте. Завезли на волокуше сборный щитовой домик, собрали. Простоял он много месяцев пустым – не хотят в нем жить оленеводы. Что ты будешь делать! Не хотят, и только! Случилось Рогову как раз в ту зиму быть в здешних местах – ездил по стадам. Кстати попросили его узнать, почему оленеводы в доме не живут. Вместе со стадом прикаслал, сошел с нарт. Пастухи шесты достают – чум ставят рядом с домом. Рогов решил не словом, а делом их повернуть к новому, если они такие отсталые и несознательные. Пока чум собирали, он печь натопил, разделся в тепле, похлебку сварил, чай. Благодать!.. Пригласил пастухов – пришли, не отказались. Но почувствовал – вроде бы посмеиваются. Сделал вид, что не замечает усмешек, предложил заночевать в доме, в тепле. Тут они в открытую стали смеяться и позвали ночевать в чум. Очень Рогов обиделся, но сдержался. Остался в доме, лег в постель, укрылся одеялом, уснул. Только часа через два почувствовал – мороз пробирает; накинул на одеяло меховой гусь – ноги мерзнут. Собачий холод. Печку растопить? Дров почти не осталось, и спать охота до смерти... Крепился, крепился – плюнул и ушел в чум: надо же погреться и отдохнуть...
Утром решил проверить, почему дом тепла не держит. Очень просто все оказалось. Дом-то рассчитан на подмосковный климат. А когда мороз за пятьдесят, между щитами открылись щели чуть не в палец шириной. Такой дом топить – все равно что небо коптить. Тех дров, что Рогов сжег в печи, для чума на неделю бы хватило. Ведь чум накрыт двойными, плотно сшитыми шкурами, которые ни ветер, ни мороз не пробьют.
Патент каменного века, но разве лучше что придумано?.. Чум – сам опыт поколений. Простой, прочный, теплый. Здесь такие пурги бывают – любую крышу снесет. А чум не шелохнется – тоже хитрость: шесты ставят с таким наклоном к земле, что ветер лишь плотней прижимает чум к снегу. Чем сильней ветер, тем крепче стоит чум.
Вот и задумаешься, кто же сознательный и не отсталый, а кто отсталый и несознательный. Новое должно быть лучше старого, тогда его примут. Радио, сыворотку, лекарства оленеводы приняли так, что не отнимешь. Но то старое, что лучше нового, менять на новое не хотят, и правы.
Одежду взять. Против северных морозов ничто лучше малиц, гусей, совиков и прочих теплых вещей не устоит. Назовите хоть одну одежду самую рассовременную и рассинтетическую, в которой можно не двигаясь пролежать сутки под сугробом в пургу, а потом сесть на нарты и еще двое суток ехать по ледяной пустыне. Нет такой одежды нигде и ни у кого, кроме северных народов. И если придумывать новое, то надо основательно порасспросить северных профессоров о тайнах их жилья и одежды и потом попробовать поспорить – предложить что-то лучшее.
...Приехал как-то Рогов из тундры на аэродром встретить одного москвича, работника управления. Припоздал немного. Пришел в диспетчерскую. Где москвич? Куда делся? В больницу, отвечают, увезли: обморозился.
Вот те на! Он же очень тепло был одет: шуба на вате, валенки с калошами, кожаная шапка. И под шубой не меньше полпуда всякой одежды навернуто.
Аэродром же в поселке такой: взлетная полоса на одной стороне реки, а избушка диспетчерской – на другой, примерно за полкилометра. Приземлился самолет, москвичу и говорят: подожди, сани из-за реки придут. Он в ответ усмехнулся – вот еще сани ждать, поселок рядом, так дойду. Его отговаривать, он петушится – пойду, и все. Ругаться стал. Бес с тобой, говорят, иди, коль жизнь не дорога... Фыркнул, взял чемоданчик и пошел. День ясный, тихий. Мороз, правда, ближе к шестидесяти. Сначала шагал, посмеиваясь. До поселка рукой подать, диспетчерская совсем рядом. Спустился на лед. А по руслу реки – легонький ветерок. Летом такой ветерок и не заметишь – дуновенье одно.
Тут его и проняло в городской одежде. Идет, ежится, и вдруг чувствует – ноги за лед цепляют; посмотрел – оказалось, калоши от мороза лопнули и сваливаются с валенок. Стукнул ногой об ногу – сколол свои калоши, чтоб не мешались, пошел дальше. Руки стали коченеть. Чемоданчик под мышку взял. Пронес несколько шагов, да и совсем бросил. Глядит – на шубе пуговиц не хватает – отскочили, перемерзли. Запахнулся, как мог, руки в рукава, еле бредет. Шуба на сгибах расползается. Голова словно голая – ветерок насквозь пробивает шапку. И ноги коченеют – икры судорогой сводит, как деревянные сделались. Ну, думает, погибель пришла. А диспетчерская рядом, вот она на высоком берегу.
На его счастье, сани выехали навстречу. Возница откинул полость из медвежьей шкуры, москвич как стоял, так столбом и упал в сани – не может двинуть ни рукой, ни ногой. Накрыл его возница полостью, сбегал за чемоданчиком да гнать в больницу!
Отходили, ничего. Даже насморка не схватил. Но самая потеха, когда его стали одевать по-местному. На нем-то было и теплое белье, и свитер, и костюм, и шуба, а тут принесли кухлянку – вроде меховой рубашки с капюшоном, мехом внутрь, меховые штаны, сапоги меховые: надевай!
Смеетесь, говорит. И упорствует – упрямый мужик, невозможно. Я, говорит, под кухлянку хоть белье и свитер поддену. Вот простота московская! Этого-то и не надо. Мех должен прилегать к телу, никаким бельем его нельзя от тела отделять, иначе тепло уйдет.
Уговорили все же одеться полностью по-местному. Оделся, вышли на мороз. Он с большой опаской идет – очень уж легко одет, говорит, вроде ничего и нет на мне... А сам-то мерзнешь? Спрашивает Рогов. Нет, отвечает, пока очень тепло. Весь поселок обошли. Холодно? Нет. Как дома тепло, говорит, и легко, точно в одних трусах по пляжу иду.
Так эта одежда ему понравилась – возьмите шубу, костюм, валенки – все отдам. Оставьте кухлянку да тобоки! Всю командировку так и проходил в кухлянке...
Проверили вторую форсунку, свернули шланги, собрали инструменты.
– Хватит механикой заниматься – иди, помоги мясо консервировать, – сказал Рогов Пете.
Это за вандеями, неподалеку. На земле несколько освежеванных оленьих туш. Никифор Данилович рубит их на куски; Василий Матвеич складывает мясо в мешок и пересыпает белым порошком – пиросульфитом – чтоб не портилось.
– Бери второй мешок, укладывай, – кивнул он Пете, не отрываясь от дела.
Пастух рубит быстро – вдвоем только поспевали подхватывать. Петя не сразу приладился укладывать. Но вскоре и его мешок погрузнел, сквозь ткань проступили розовые капли. Руки в крови и порошке жгло от комаров, но Петя решил терпеть. Репудин все равно не помог бы – стирается в работе...
Вот как готовят мясо для звероферм! Потом им будут кормить лис и песцов. И после уже какая-нибудь франтиха станет щеголять мехами. Ее сюда бы на одну минуту – попросить бросить несколько кусков мяса в мешок... Или поздороваться хотя бы... Взять кровавой рукой за пальчики: бонжур, мадам...
– Привыкай, – сказал Василий Матвеич. – Тут недавно косолапый два мешка разорил – вот и возмещаем.
Петя спросил, каких оленей забили, не копыткой ли больных, и очень обрадовался, когда Василий Матвеич кивнул в ответ:
– Копытка, будь она неладна.
Петя уже уверенней расспрашивал, почему ж не лечили больных – ведь лекарства у пастухов есть и ветеринары за стадами смотрят.
Никифор Данилович отложил топор, вытер о мох руки, достал папироску, не спеша закурил.
– Одним лекарством от копытки не спасешься, – тихо сказал он. Даже не Пете, самому себе. – Оленям морская вода нужна. Когда стада к Карскому морю выгоняли, копытки меньше было. ...И трава там лечебная. Жесткая, сухая трава лечит. – Он вздохнул, посмотрел вдаль, на север, затянулся дымком. – Как прикаслаем, бывало, на берег, олени радуются, играют, в море купаются, воду пьют. Морская вода все очищает: у которого копытка была – скоро проходит. ...Сколько лет я стада гонял к Карскому морю – хорошо там оленям. Людям трудно – совсем тальника нет, нечем топить очаг, только трава. Нарвешь охапку и чайник не вскипятишь – быстро горит. И в чуме холодно. Зато комара нет, овода нет, олень сытым бывает. И морскую воду пьет, соли набирается.
Раз в год, я думаю, надо стада к морю гонять. Здоровее будут. – Он помолчал, взялся за топор и уже взмахнул над тушей, но помедлил, опустил и сказал: – Неправильно пастбища поделили – одни стада к морю выводят, а другие не могут. Надо всем проход к морю дать.
К вечеру на тавдере за чумами собрались посмотреть, как Иван Павлович будет с комаром воевать.
Рогов, хоть и уверен в успехе, волнуется, жжет папиросы одну за одной. И убеждает себя, что незачем волноваться, и удивляется, отчего такое волнение. Черт знает что! Если так от обыденного дела волноваться, никаких нервов не хватит.
Осмотрел чан, каждый шов проверил на свет. Сшит крепко, жилкой прострочен, не подведет. Привязали сыромятными ремешками к грузовым нартам – растянули между копыльями и продольными жердями, дно расправили на земле.
Петя с Зосимой натаскали из озера воды, чан огруз, и нарты заскрипели от тяжести. Иван Павлович сам растолок плитки хлорофоса, похожего на слежавшуюся соль, высыпал в чан и долго мешал палкой.
Мальчишки с любопытством подкрадывались поближе, посмотреть, Рогов отгонял их, они убегали, но тут же снова крались за его спиной к чану.
– Марфа Ивановна, Наташа! Да уберите вы своих сорванцов! Это яд, яд! Понятно? Нельзя тут быть никому! – в сердцах кричал Рогов, не переставая мешать.
Собственная раздражительность совсем его взвинтила. Захотелось, чтоб никто не смотрел. Захотелось уйти в чум и лечь за пологом. Но он не дал себе разойтись, он заставил себя перечислить в уме все приготовления и проверить, что сделано. Оказалось, все получается, как надо.
На тандере, в самом центре стада, Василий Матвеич уже воткнул в землю хорей с привязанным к нему шлангом. И олени были поспокойней, чем днем. Они медленно кружили, отфыркиваясь от овода. Лишь иногда срывались в галоп.
Второй шланг, тоже привязанный к хорею, Василий Матвеич держал в руках, примериваясь, как станет опрыскивать оленей, до которых не достанет первый шланг.
– Ну, как дела? – нетерпеливо спросил Рогов, заканчивая мешанье.
– У меня готово, – крикнул Василий Матвеич.
– У нас тоже, – выпрямился Валентин Семеныч, осматривавший насос и подключавший шланги.
– Как же готово! А халат, перчатки, маска? – бросил Рогов Василию Матвеичу. – Ты что, дорогой, шутки, что ли, шутишь?
– Да и так ничего...
– Нет, нет, одевайся, иначе не начнем!
Василий Матвеич положил хорей и нехотя пошел к нартам, где лежали его доспехи.
Пастухи стояли поодаль и наблюдали за приготовлениями. На их лицах и любопытство, и недоверие. Больно уж невиданное дело затеял Иван Павлович. Слыхом не слыхано, чтоб комара извести.
– На Чукотке давно опрыскивают стада – прекрасные результаты! – возбужденно говорил Рогов, подойдя к пастухам.
– Чукотка-то далеко. То комар другой. Наш другой, злой сильно комар, – сказал отец Наташи и поскреб в ершистой бородке.
– Вот и надо попробовать! Что ж вашего комара бояться. Сейчас дадим ему бой. Василий Матвеич только халат вот застегнет, и маску я ему повяжу...








