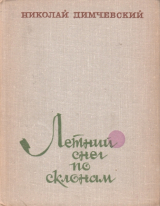
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 27 страниц)
Только Федоровна не показывалась, чтоб не видеть раззору. У нее оставалось одно утешенье: успела уху заварить – из котла кипящего не вытянут, будет все-таки на обед уха. Очень уж любила она уху...
А капитан любил птиц. Он стоял среди них и смотрел. Отдохнув, они обрели свободную осанку, природную, привольную стремительность. У каждой свои повадки, свой поворот головы, свой характер. И все это – рядом, перед глазами, в руках. Сколько движения, дикой грации! И все можно рассмотреть вблизи, потрогать рукой, заглянуть с любой стороны, повернуть так и этак. Вот везенье, вот радость!
Даже молчальник Попов свесился с мостика:
– Степан Сергеич, написать бы птичий базар на танкере.
После снегового шквала мир в одночасье раскололся пополам – в одной половине, за кормой, собралась вся темнота, облака, хмарь и непогода, в другой открылась ослепительная синева. Скоро танкер уже ломал светлую воду, облитый солнцем и трепетом сотен крыл.
Отсидевшись в каюте, Федоровна не вытерпела – глянула на уху, сдобрила лавровым листом и перцем (давеча в сердцах и второпях забыла совсем про приправы) – и в рубку. Вошла, ни на кого не глядя, показывая, что не смирилась, встала у иллюминатора, скрестив руки на мягкой груди, и деревянно сказала, обращаясь ко всем сразу:
– Ишь, сколь дармоедов-то развелось... Так и станем их кормить?.. Эка напасть-то...
Капитан первым к ней подошел, погладил по плечу:
– Ничего, Федоровна, не печалься! Поймаем другую рыбку, не простую – золотую! Правда что ль, рыбаки?
Он радовался, что вышли в море, что сами починили сальник, что не застряли на баре и не пришлось вызывать буксир... И вот даже птиц спасли... Он не был суеверен, но доверчивость птиц и добро, сделанное для них, принималось душой, как хорошее предзнаменование.
9
Порт завиднелся справа. На солнечной дымке прорезались краны, зачернелись дымы и суда. Все это после многих дней рейса вдоль пустынных берегов, после штормистого моря показалось миражом. И долго еще порт маячил по курсу, как мираж, не приближаясь и не удаляясь. Потом сразу вырос, охватил танкер, стал реальностью.
Выходивший из горловины бухты морской буксир хрипло загудел. Звук ударился о сопки, заметался ликующим эхом.
Чайки всполошились. Они отдохнули, обсохли на солнышке и ветру и словно ждали этого гудка – взлетели, закрыв свет крыльями, повисли прощально над танкером, построились в стаю и потянулись белым облаком к берегу. Они улетали и уменьшались, и порт, казавшийся совсем близким, вдруг отдалился. Это стая дала простору его настоящий размер и размах.
Силин приказал окатить палубу и мостки из брандспойта, и скоро никаких следов от чаек не осталось.
В бухте было совсем тихо. Под вечерним солнцем синяя вода и серые с прозеленью сопки казались даже теплыми.
Якорь бросили в сторонке, неподалеку от порожнего танкера. В другом конце бухты белой громадиной высился «Орел». Среди грузовых судов, буксиров, кранов и почерневших портовых построек он выглядел щеголем, белоручкой. В его плавных обводах, свежей краске и начищенной медяшке крылось что-то брезгливо-презрительное, высокомерное.
Так показалось Силину, когда он из шлюпки уже осматривался вокруг, направляясь к причалу. И тут же смутное беспокойство колыхнулось где-то в недоступной разуму глубине.
Журин, сидевший рядом, надвинул шляпу на глаза и, загородившись от солнца, смотрел в ту же сторону.
Около «Орла» толклись катера, шлюпки, лодки. Было видно, как по трапу лезут люди, машут руками, спорят, кричат.
– Степан Сергеич, может, свернем? – кивнул на теплоход Матюшин, делая вид, что перекладывает руль, и нагловато хохотнул.
Силин не обратил внимания. Беспокойство разрасталось теперь совсем определенно.
– На нашу голову здесь этот «Орел», – озабоченно бормотал он, посматривая, как двое парней балансировали на небольшом катере, принимая спускавшуюся с палубы теплохода авоську, набитую бутылками...
– Да-а-а... – в тон ему протянул Журин. – Соседство не из лучших...
Приближался причал, на котором краснощекая круглая буфетчица с «Орла» бойко торговала пожелтевшим и осклизлым зеленым луком, растрепанными кочанчиками капусты, вялой репой. Очередь возбужденно гудела – истосковались по зелени, брали все подчистую, даже капустные листья.
Встав на шлюпке и собираясь схватиться за скобу высокого причала, Силин сказал Матюшину:
– Мы в диспетчерскую, а ты сгоняй за Федоровной – пусть купит какой-нибудь петрушки. Я очередь займу.
Едва он собрался лезть, сверху свесились чьи-то ноги, в шлюпку прыгнул незнакомый парень.
– Кореша́, подкиньте до «Орла» – заплачу! Похмелиться надо во как... – он икнул почти в лицо Силину.
С причала свесились еще две пары сапог, наклонились рожи в кепках.
– Эй, друг, возьми на «Орла»!
Силин отстранил парня так, что тот едва не упал за борт.
– Назад! Никого не возьмем! Назад!
Парень возражать не стал. Покорно схватился за верхнюю скобу, занес ногу, почти выбрался, но в последний момент сорвался и упал в шлюпку, выплеснув из-под решетки воду.
Сапоги наверху неохотно убрались. Парень полез во второй раз.
Журин сидел на корме, брезгливо счищая носовым платком мутные брызги с брюк.
– Чтоб никого на «Орла»! Понял? – погрозил капитан Матюшину, ловко вспрыгнул на причал, нагнулся вниз и повторил: – Никого! Поставишь Федоровну в очередь за этой женщиной в кожане – отойдешь от причала и жди нас. Понял?
Журин выбрался вслед за капитаном. На ходу он рассматривал свои недавно сшитые щегольские брюки цвета кофе с молоком. Надо же – из-за какого-то лоботряса испортил обнову... На каплях определенно был мазут. Четыре темных пятнышка не оттирались.
Недалеко от причала – подняться по мосткам и направо – деревянный домик, покрашенный в коричневое – диспетчерская. Силин дернул обитую толстым войлоком дверь и через темный тамбур вошел в комнату. За ним расстроенный механик (сразу же принялся поворачивать брючину так и сяк).
В комнате – никого. На длинном столе – график движения судов, под потолком – яркая лампа без абажура плавает в табачном облаке.
Силин кашлянул. Из боковушки от радиста выскочил диспетчер Селезнев с бланком радиограммы в руке и с папироской в другой.
– А-а-а-а, наконец-то! Я думал... э... э... не стряслось ли чего... Так-так-так! Что ж, отметим. Где вы тут у нас? – и склонился к графику, суетливо черкая карандашом по линейке, рассыпая пепел.
– Успеешь, погоди ты! – попытался остановить его Силин. – Скажи, что случилось с «Львицей»?
Диспетчер вскинул быстрые глаза, взял со стола серый листок радиограммы и потряс им в воздухе.
– Вот-вот-вот: то же самое, что с «Пермью»! Читайте, читайте – только что радировали: «Стоим у высокого берега, видим избушку и столб. Не знаем, где находимся. Просим помощи».
Он с вниманием оглядел лица пришедших и не без яда повторил:
– «Не знаем, где находимся»... Деточки в роще заблудились. А мы гоняй за ними буксир. Нам больше нечего делать, как искать заблудших!..
– Погоди ты! – отмахнулся Силин. – Трудно, что ль, про «Львицу» сказать. С ними-то что?
Диспетчер нервно передернул плечами, закурил новую папироску и со всхлипом бросил:
– Я и говорю про «Львицу»! Точь-в-точь! Дали радио: «Идем около льдов. Сбились с курса», – он прочертил папироской излом, – то есть заблудились... Не устранили девиацию[9]9
Девиация – искажение показаний стрелки магнитного компаса под влиянием железного корпуса судна.
[Закрыть] компаса, вместо веста задали норд-вест и влезли во льды. Это вам шуточки с негодным компасом идти в океан? Вот вы, когда девиацию устраняли? Когда? Чего молчите?
– Ну, погоди ты, Селезнев! До нас еще дойдет. Что дальше было с «Львицей»?
– Те-те-те-те, – развел руками диспетчер, – я же и говорю про «Львицу», чего перебиваете! Так вот: влезли во льды, определиться не могут. Посылаем буксир, отрываем буксир от работы. Вы знаете, чего стоит послать буксир?
Силин деланно вздохнул, понурил голову, сел на табуретку, медленно выудил из пачки сигарету.
– Вот-вот-вот – не устраняете вовремя девиацию, а потом кричите на весь Ледовитый: «Буксир! Буксир!» Всем буксир! Теперь для «Перми» буксир!..
Силин оперся локтем о стол и сжал лоб ладонью.
–...Послали буксир. Они, конечно, ни «бе», ни «ме» не могут сказать о своем нахождении. Только по радиопеленгу их отыскали. Привели в порт, и, представляете, капитан, тот, как его... Голяков. Да, Голяков – отказывается сойти на берег. Заболел, видите ли... С таким компасом идти в море! Безумие! И вас дальше не пустим, пока не устраните девиацию. Шуточки, что ли! Ждите девиатора Слобожанина...
10
Вернулись к причалу. Федоровна ждала их. Очередь разошлась. Буфетчица, повизгивая, спускалась в катер, присланный с «Орла».
– Спозднились, Степан Сергеич. К шапошному разбору попали. Токо всего и досталось...
Федоровна подняла сумку, в которой по вялому луку перекатились сморщенные репки.
Признаться, Силин не очень-то рассчитывал на дельное пополнение припасов здесь, на причале, но такой жалости не ожидал.
В это время уже отошедший катер с «Орла» круто развернулся. С него крикнули:
– Журин! Станислав Клавдьич!
Механик встрепенулся.
Катер подваливал опять к причалу.
– Это Семенов! Ты его знаешь.
Силин, как ни копался в памяти, вспомнить не мог. Однако возвращение катера показывало, что к механику Семенов питал самые лучшие чувства.
На причал соскочил высокий парень и в два прыжка очутился около Журина.
– Клавдьич, дорогой, здоро́во, друг ты ситный! Ты чего ж своих не узнаешь? Отвалили, обернулся, гляжу: да это ж Клавдьич! Стоит и своих не видит!
Отобнимав механика, он протянул руку Силину, и тот смутно вспомнил: видел когда-то в пароходстве.
– А ведь мы знакомы! – на весь причал крикнул Семенов и сильно тряхнул его руку. – Ну, встреча! Ну, не ожидал! – слегка обнял Силина. – Клавдьич, и вы, товарищ капитан, прошу ко мне в гости. Без разговоров – сейчас же в катер и ко мне. Мамашу тоже берем, – он покосился на тощую сумку Федоровны. – Шлюпка ваша? Пусть подойдет за мамашей. Алё, кореш, – крикнул он Матюшину, – прихвати кулек для капусты. Подойдешь к правому борту, спросишь Семенова.
Спустились в катер, в каютку с кожаными диванчиками. На диванчике сидела буфетчица, уже успевшая снять белый, испачканный зеленью халат.
– Познакомьтесь: Маруся, – представил ее Семенов. И тут же: – Маруся, отпусти мамаше из наших запасов капусты, огурчиков... Сообразишь там – сама знаешь.
Маруся кивнула, поправляя высокую прическу и улыбнувшись всем лицом, похожим на бело-розовую зефирину в сахарной пудре.
Силин сел – всхлипнули пружины – откинулся к мягкой спинке. Ровно загудел мотор. Катер пересекал бухту по плавной дуге. Капитан почувствовал вдруг, что не может шевельнуться – теплая лень сковала вытянутые ноги и брошенные на диван руки. Это было как гипноз оттого, что самому ни о чем сейчас не надо заботиться. Кто-то ведет катер, что-то затевает Семенов. И пусть их – ведут, затевают... Пока посидеть в комфорте, который сулит еще большее великолепие на теплоходе...
Вот жизнь: наказывал матросам не брать шлюпку, не ходить на «Орел», плохое предчувствие было, твердо решил – на теплоход – ни ногой... И тут же сам, нежась на диване, подваливаешь к «Орлу», шлюпка с Матюшиным (вспомнилось, как он нахально хохотнул: «Может, завернем?») сейчас подойдет к правому борту... И ведь хочется попасть на «Орел», и в ресторан хочется зайти, и выпить хочется, и закусить свежим огурцом, и послушать музыку... После долгого перехода, перед последним броском по океану охота на часок сменить приевшуюся пластинку вахтенной жизни.
Силин оглядел свой выходной китель, начищенные ботинки и подумал: «А ведь собирался-то не к диспетчеру Селезневу...» Посмотрел на кофейный костюм Журина и окончательно утвердился в мысли, что собирались именно на «Орел». Конечно же, на «Орел». И Матюшин знал, что на «Орел», и нечего было лицемерить. Когда «Орел» в порту, мимо не пройдешь – это ж ясно.
Он посмотрел на Марусю, говорившую с Федоровной, на ее зефирное лицо, полное плечо, колено, затянутое в подобие змеиной кожи, и все вокруг приобрело особый, какой-то пряный и притягательный вкус. Не потому, что Маруся очень уж понравилась, а потому, что она была неким завитком на роскошной картине, называвшейся «Орел». Наткнуться на такую картину в Ледовитом океане, в бухте, образованной тундрой и камнем, – одно удивленье, и действовала такая неожиданность расслабляюще. Он понимал это, а противиться уже не мог: компас показывал ложный курс, но девиацию устранять не хотелось...
Потом они очутились на палубе, пронизанной вихрями ресторанных запахов и звуков. В голове все слегка покачнулось и поплыло. Перед глазами Силина еще округлые ноги Маруси, мелькающие вверху, на трапе, по которому он поднимается вслед и невольно видит больше, чем положено... А Маруси уже нет, есть вылизанная палуба, зеркальные стекла и занавеси за ними, как туман, где растворяются столики и контуры людских фигур.
– Сначала ко мне, только так! – говорит Семенов и берет гостей под руки.
Они идут по мягкому ковру салона, по коридору, отсвечивающему полированными панелями красного дерева. Массивная дверь, блестящая, как зеркало, ручка литой отчищенной латуни.
– Прошу! – Семенов щелкает замком.
Просторная каюта, стол, тяжелая скатерть, пепельница – беломраморный медведь с мордой, испачканной пеплом.
Журин садится, распечатывает коробку сигарет «Друг» и, закинув ногу на ногу, с обычным подчеркнутым вниманием вставляет сигарету в пенковый мундштук. Он словно в своей катюте, будто век тут прожил.
Силин, несмотря на внутреннее расположение к происходящему, чувствует некоторую стесненность и стоит с нераскуренной сигаретой в пальцах.
Между тем Семенов уже открыл полированый шкаф и зазвенел посудой.
Журин вставил наконец сигарету, полюбовался мундштуком, откинулся к спинке стула, глядя в потолок, выкатил изо рта клубочек дыма и вкусно его проглотил. Четыре пятнышка на брюках подсохли и почти исчезли. Это дополнило благодушное настроение, ставшее совсем безмятежным. Краем глаза Журин с удовольствием наблюдал, как на темном шелке скатерти поблескивают три крупные рюмки, поставленные Семеновым, как появились темно-синие с золотом тарелочки, как по-щучьи остро блеснули вилки и ножи, как проплыл в середину хрустальный судок с крупно нарезанными свежими огурцами, перебившими весенним запахом табачный дым, как засветилась тусклым золотом коробка со шпротами и масляно улыбнулась малосольная нельма, как встала с краю плетенная из бамбука низкая корзиночка с хлебом.
Затем, защелкнув верхние створки шкафа, Семенов присел на корточки и открыл узкую дверцу внизу. Довольно долго он находился в раздумье, пробегая глазами какие-то одному ему видные предметы. Журин и Силин знали, конечно, что это за предметы, но и виду не подали, что заметили раздумье хозяина.
Силин закурил в конце концов, сел на низкий диванчик, привинченный к полу медными винтами, и, сам того не желая, вдруг спросил:
– Думаешь, сальник протерпит до конца рейса?
Механик непонимающе обернулся и слегка поперхнулся дымом.
– Сальник... – он помедлил и глотнул воздух. – Протерпит...
В это мгновенье Семенов поднялся от шкафчика и подошел к столу с бутылкой коньяка.
– Для начала пойдет? – спросил он, понимая ненужность вопроса и наслаждаясь произведенным впечатлением. Медленно, со вкусом окольцевал ножичком синтетическую пробку.
Вместительные рюмки приняли коньяк со сдержанным утробным звоном.
– Степан Сергеич, прошу!
Семенов пододвинул стул для капитана и, ожидая, пока тот усядется, достал еще резную солонку с кукольной ложечкой.
От первой рюмки во рту остался аромат, который не хотелось перебивать даже свежим огурцом. И хотя каждый положил в синюю тарелочку по кружочку, радующему глаз глянцевой зеленью, – закусывать не стали. Семенов налил еще по рюмке, и лишь после они слегка закусили.
Оказалось, что Семенов и Журин – друзья детства. Они принялись вспоминать только им дорогие и понятные пустяки. Силин слушал для приличия, кивал, поддакивал, но в общем-то был далеко от них, хотя чувствовал к механику и его другу теплоту в сердце. Про себя же он тихо радовался неожиданно удачному вечеру, радовался тому, что самому ничего не надо говорить, радовался покою и расслабленности во всем теле, сигарете, мирно дымившей в морду мраморному медведю.
Постепенно все напряжение и усталость от постоянной готовности к неожиданностям плавания отступили. Самое плавание, как ни удивительно, отдалилось, замутилось дымкой и стало существовать как бы отдельно, где-то вдали, за стенами этой гостеприимной каюты...
Витая в благодушном покое, Силин думал о приятном и отрешенном от обычных забот. Ему вспомнилось начатое чучело гагары... Он с удовольствием проверил мысленно шов на уже набитом брюшке, примерил каркас шеи, посмотрел готовое чучело, висящее в пространстве... И тут же память наполнилась биеньем крыльев, заполонивших танкер. Силин видел чаек, их стремительность и беспомощность, дикую грацию и ручную привязанность. Это видение перебивалось другим, оставшимся еще от Тихого океана – потешные в своей серьезности топорки на валах океанской зыби, глупыши у самого борта, стаи птиц, вытянувшихся в одну строку, летящие с моря к гористым берегам.
Воспоминания эти одновременно были рождающимся замыслом: сделать чучела всех морских птиц. Не музейные, не застывшие, а в движении, в полете, в кормлении птенцов, в ловле рыбы... Замысел этот давно проклевывался, но никак не мог вылупиться, проясниться. Только сию минуту, сейчас понял Силин, чего хочет. Мысль вспыхнула так ярко и сильно, так захватила его, что он решил тотчас же приняться за гагару...
Он встал, собираясь поблагодарить и проститься, оставив механика в гостях. Семенов и Журин тоже поднялись, Силин не следил за разговором и подумал, что они отпускают его... Протянул было руку хозяину, однако тот, не замечая, прогремел:
– Теперь – в ресторан! Я угощаю. Клавдьич, ррразговорчики отставить! Сергеич, не ррассуждать, понятно? Вы у меня в гостях, я все организую сам. Слушать меня!
Он так напористо и от души все это говорил, что отказаться – значило бы обидеть. Обижать же этого доброго парня не хотелось. И Силин пошел в ресторан, храня в душе радость замысла, выполнить который можно лишь через годы, постепенно и сию минуту начинать это грандиозное дело, пожалуй, совсем не обязательно.
В коридоре, едва вышли – навстречу Матюшин. Заметив капитана, остановился, будто наткнувшись на преграду, но тут же оправился и продолжал путь. Что-то в его фигуре показалось Силину вызывающим... Несмотря на ясность мысли, он не мог понять, что именно. Когда Матюшин поравнялся с ними, Силин строго спросил:
– Почему на теплоходе?
Смело глядя в глаза капитана, Матюшин отчеканил:
– За капустой!
Силин вспомнил, как Семенов просил захватить кулек, прикинул, что времени прошло не много, и мирно уже сказал:
– Забирай капусту, Федоровну и – на танкер. Больше сюда не ходить, понял? Шлюпку никому не давать!
Матюшин с подчеркнутой серьезностью пальнул:
– Есть не давать!
...И только перед прозрачной дверью ресторана Силин сообразил, что же именно не понравилось ему в фигуре Матюшина: безобразно оттопыренные карманы брюк и вздутый на груди ватник.
– Салажата сопливые! – невольно вырвалось у него.
– Ты чего ругаешься? – спросил Семенов.
– Матюшин бутылки потащил...
– Ну тебя, Сергеич, – умиротворяюще пробурчал Журин. – Пусть его... Ребята сознательные... Хорошие ребята... Пусть... Не думай... Спокойно посидим хоть раз...
Сквозь музыку, жужжащие голоса и густой запах кушаний они прошли к столику в углу. Семенов усадил их и с многозначительным видом удалился куда-то за буфетную стойку, сиявшую в конце зала, как церковный алтарь.
Тотчас оттуда, из алтаря, выпорхнула красавица официантка, покачиваясь в танцевальном ритме, подошла к столику и низким голосом пропела: «Добрый вечер. Что будем кушать – эскалоп, шашлык из оленины, осетр на вертеле?..» Одновременно она расставляла приборы, нечаянно задевая гостей то грудью, то обнаженной рукой.
– Что вы нам порекомендуете? – с некоторой небрежностью в голосе обронил Журин.
Капитан почему-то вспомнил полные ноги Маруси, поднимающейся по трапу, и совсем собрался спросить, где ж буфетчица, но постеснялся и успокоил себя тем, что Маруся не слишком ему понравилась. Несмотря на хмель, он чувствовал себя в ресторане стесненно и даже слегка поеживался под кителем.
...Для прохлажденья перед коньяком и всем прочим выпили шампанского. Закусили чудом попавшими в эти края маслинами, которые Силину порядком не понравились. Журин, напротив, с наслаждением обсасывал косточку и рассказывал анекдот к случаю.
За таким же точно столом в судовом ресторане сидел англичанин. Подали бутылку шампанского. В это время с потолка спустился паук, превратился в джентльмена, налил бокал шампанского, выпил и закусил маслиной. Англичанин удивленно сказал: «Впервые вижу, чтобы шампанское закусывали маслинами!»
Семенову анекдот бурно понравился, он смеялся и на все лады повторял слова англичанина.
– Впервые вижу, чтобы коньяк закусывали нельмой!..
– Впервые вижу, чтобы коньяк ничем не закусывали!..
Вскоре Силин почувствовал, что скованность прошла, очень этому обрадовался и похохатывал вслед за Семеновым:
– Впервые вижу, чтобы коньяк закусывали оленем!
Ресторан не казался уже таким огромным, как сначала. Здесь было не менее уютно, чем в каюте... Да еще к тому же весело от музыки, от многих лиц, от говора, от звона обеденных приборов...
Выждав, когда разговор за столом прервался, Силин вклинился со своими чучелами и фантазией насчет выставки морских птиц. Он говорил напористо и громко, поскольку опасался, что Семенов не примет всерьез этого увлечения. Он бросился в разговор, как прыгают с борта спасать друга – со всей яростью своей правоты. Вздумай Семенов оспорить – не решился бы. Однако он и не собирался ничего оспаривать.
Мельком, не без опасения взглянув на него, Силин увидел, что тот слушает с интересом. И не только слушает. Когда капитан благополучно выплыл из разговора со спасенным замыслом в руках, Семенов высказал желание купить несколько чучел для украшения ресторанного зала. Он тут же прикинул, как хорошо гляделась бы гагара, парящая над буфетной стойкой, и несколько чаек под потолком...
Предложение о продаже чучел Силин резко, с порога отверг, а украсить ресторан согласился с удовольствием, с радостью и симпатией к Семенову. Все будет сделано бесплатно и в лучшем виде. Пусть пассажиры «Орла» и туристы смотрят, спрашивают, кто мастер – и только. Никаких денег. Это душевная работа, она не продается. Для начала Силин предложил сегодня же, сейчас привезти чайку и повесить над буфетом. Чучело готово, леска найдется. Крючок в потолок и – порядок. Чайка – просто живая. Подходишь к стойке, а она летит на тебя, только что крылом не задевает...
Он глядел на стойку и представлял себе птицу, парящую где-то над верхним рядом бутылок. Примерял, как будет видеть ее посетитель – благо у буфета стоял какой-то парень. Ее клюв должен опуститься ниже, чем хвост, и парню, подошедшему к стойке, покажется, будто чайка пикирует на него...
Тут Силин отметил, что парень очень знаком... Мысль о чучелах тотчас отлетела. Парнем этим был радист Николай Попов. Словно чувствуя на себе взгляд, он с вороватой поспешностью прятал бутылки в большую черную сумку.
Все продолжалось несколько мгновений. Пока Силин перевел взгляд на Журина и сказал ему о радисте, Попов исчез...
11
С Семеновым распрощались у трапа. Катер быстро пересек бухту и подошел к танкеру, показавшемуся маленьким и жалким после грандиозного «Орла».
Силин спрыгнул на палубу. Металлический стук шагов одиноко и странно разносился по судну. Механик шел следом, насвистывая ресторанную мелодию, которая здесь, в полутьме, на замершем танкере звучала неуместно.
Вахтенным был Винокуров. На вопрос капитана, кто из команды на судне, ответил уклончиво. Однако шлюпка причалена у кормы, и это успокаивало.
Расспрашивая вахтенного, Силин прислушался к своему шепелявому из-за сигареты голосу, к нетвердо произносимым словам и поскорей закончил разговор.
Вспомнил, что обещал Семенову чайку! Сунул сигарету в банку, выбежал на мостик, но катер скрылся. Теплоход стоял в огнях, как новогодняя елка, поэтому ночь казалась темней, чем была на самом деле. Только сейчас Силин заметил, что ветер утих вовсе и вода в бухте спокойно блестит, как свежевымытая палуба. Вспомнился ресторан, красавица официантка, Семенов, разговор о чучелах, Маруся, поднимающаяся по трапу... Все показалось таким далеким, словно было в прошлом году или во сне.
Хотелось спать – даже на свежем воздухе глаза слипались. И почему-то казалось, что судно покачивается... Силин вернулся в рубку, сел на диван и задремал. Он не заметил, как ушел механик, не заметил, как Винокуров накинул на него тулуп. Спалось крепко, мертвецки.
...Проснулся от стука мотора возле борта. Вскочил, путаясь в тулупе, подошел к окну. Винокуров стоял на мостике и что-то кричал. В голове была каша. Несколько мгновений Силин ничего не мог понять. Глаза сами, почти независимо от сознания нашли, что нужно.
К борту подходила шлюпка. В ней стоял человек с тлеющей папироской во рту.
Силин размахнул дверь, отшвырнул стоящего на дороге вахтенного и, почти не касаясь ступеней, скатился по трапу на палубу. В этот момент шлюпка подваливала к танкеру, человек с папироской протянул руки к борту, собираясь лезть на судно. Силин с разбегу перемахнул поручень и ударил его ногой по лицу. Ударил не носком, а всей ступней, так, что папироска замялась в рот. Человек грузно, как мешок, свалился в шлюпку.
– Эй, полегше, растуды твою! – донесся из шлюпки пьяный голос.
– Отваливай! Всем башку порасшибаю! Пошел! – заорал Силин, чувствуя, что вспотел и винный дурман улетучился.
Шлюпка отошла. Теперь Силин разглядел, что в ней трое – все незнакомые, заблудились спьяну. Тот, кого он ударил, сидел посредине и тряс головой.
– Ты щево... аскрищалси... Нао люям... помощь... а ты хричишь... – вяло бормотал кто-то из них.
Опасность миновала, но Силин еще не верил себе...
По палубе к борту тянулась полоска бензина...
– Проваливай! – крикнул он. Постоял, плюнул вслед шлюпке и пошел обратно.
Винокуров так и остался в углу поручней на мостике – застыл в испуге. Силин потрепал его по плечу и сказал умиротворенно:
– Ты чего ж не отвадил их? Тут надо разом. Тут, брат, шутки плохи. Сгорели бы с тобой по пьяной лавочке...
– Я кричал им, Степан Сергеевич! Кричал: «Бензин! Не чалься с папироской!» А они, как дурные, идут и идут... – Винокуров задохнулся от волнения.
– Ладно. Ничего...
Капитан задумался, посмотрел на праздничную елку «Орла» и тихо сказал:
– Не пей, Винокуров. Вся беда наша от этого питья... Сейчас горели бы с тобой... И алкаш тот с папироской вроде не виноват – соображенье потерял, накирялся до дурости. Все сгорит, и некому отвечать...
Он шагнул в рубку, и Винокуров оторвался, наконец, от поручней.
– Я не пью, Степан Сергеевич! Я зарок дал не пить У меня отец сильно пил. Страшно, как пил. И замерз пьяный. Я в первом классе учился, как он замерз. Я тогда зарок дал. – Винокуров говорил быстро, словно боялся, что прервут. – Вы верно сказали: вся беда от пьянки. Надо мной смеются, что не пью, грозятся: «не уважаешь», бабой называют. Я терплю потому – вспоминаю отца, как его черного ледяного привезли... Как он у порога лежал без шапки... Я волосы потрогал, а они тоже твердые, ледяные... Тогда я испугался. Я тогда понял: от вина смерть... И сейчас у нас была бы смерть от вина... Отец замерз, а я бы сгорел. – Вася подошел почти вплотную к Силину, смотрел теплыми, узкими глазами, лицом, сжатым внутренней болью, и говорил, задыхаясь от воспоминаний. – Сколько я видел, как умирали страшно от вина, Степан Сергеевич! Так мне везет на это самое... У геологов работал. Перепились, стрелять стали из карабинов. Двоих застрелили насмерть... Умные, хорошие ребята были, молодые... За что погибли?.. Одному пуля попала в затылок, все лицо вывернула. Второму в сердце... Много крови вышло. Целая ложбинка крови... Зачем? Никто не знает – все по пьянке, Степан Сергеевич! В другой раз один, выпивши, в спальный мешок залез с сигаретой. Жутко, что от него осталось... Спальник ватный затлел – он задохнулся в дыму и сгорел. Одни кости остались... Я все сам видел, Степан Сергеевич, сам хоронил их. Я зарок не забываю никогда...
Силин слушал напряженный голос вахтенного, и в грудь входила неловкость, вина перед ним, перед собой, перед всем светом. Потом вдруг пришел страх. Посидел бы еще в ресторане... Харя с папироской у дорожки бензина на палубе... Выше сопок маслянистый жаркий столб и вся бухта в огне... Картина проступила так ярко, что Силин сжался. Посмотрел в страдальческие глаза Винокурова, отвел взгляд, хотел что-то сказать, раздумал. Сел на диванчик, зажег погасшую сигарету.
Винокуров тоже замолк, задумался, стоял, опершись о столик, где обычно лежала лоция.
Железная холодная тишина пустого судна заполнила рубку, просочилась в сердце, в мозг. Она была невыносима, эта тишина. Силину подумалось даже – не запустить ли машину – лишь бы избавиться от тишины. Но подойти к рукоятке казалось еще трудней, чем сидеть в тишине.
Так и оставались в безмолвии, не двигаясь, не разговаривая, замкнувшись в себя...
Плеск весел, проникший через неплотно прикрытую дверь, показался громким и четким.
– Кто там? – спросил Силин, поднимаясь с диванчика.
– Шлюпка. Идут к нам.
– С папиросами?
– Нет, Степан Сергеевич, не курят.
Силину не хотелось смотреть на шлюпку, на пьяные рожи, слышать сиплые голоса. Он почувствовал усталость и разбитость, начиналось похмелье. Весь вечер показался вдруг отвратительным... Это сидение в ресторане... И похвальба насчет чучел... И зефирное лицо Маруси... И дурацкое это «никогда не видел, чтобы коньяк закусывали оленем»... И стриженая голова радиста у стойки, его вороватый вид... И бутылки везде... Силина передернуло.
– Степан Сергеевич! Наших ребят привезли!
– Черт с ними, с алкашами этими! Всех списать! Сегодня же...
– Попова привезли, Степан Сергеевич! Он лежит.
Силин нехотя встал, понимая, что надо идти на палубу и смотреть все это гадостное представление.
Когда он появился на мостике, в шлюпке раскачивали за ноги и за руки тело Попова. Оно взлетело и с тупым гулом, как деревянный чурбан, ударилось о палубу. Попов не пошевелился – так и остался лежать с нелепо запрокинутой головой и подвернутыми руками. Он был в трусах, тельняшке и босой.
Вслед за ним, срываясь и скользя, вскарабкался Сизов, подполз на четвереньках к мосткам, поднялся, цепляясь за стойку.








