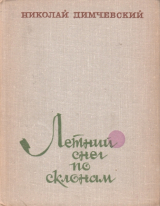
Текст книги "Летний снег по склонам"
Автор книги: Николай Димчевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Рогов осадил упряжку рядом с нартами, на которых сидел Петя.
– Обрати внимание, как олени пьют болотную воду. Чем сильней она проржавела и протухла, тем они до нее жадней. А вот в чистой горной речке пьют неохотно. Нехватка солей... – Рогов стряхнул с плаща волокна мха, встал на нартах, потянулся. – Будешь в тундре зимой, посмотришь, как они за мочей охотятся. Метра на полтора под снегом чуют место: целый сугроб раскопают, чтоб добраться до лакомства...
Зосима подошел к нартам Рогова, осмотрел сбрую, поправил.
– Спасибо, дорогой. Все в порядке у меня.
– Порядка! – засмеялся Зосима и пошел к Пете.
Тронул оленей, они подняли головы от воды, помедлили и побежали.
– Ворга, прощай! – махнул рукой Зосима. – Тундра поедем – дале ворга плохой, трактор ворга портил.
За озерком болотная луговина, за ней плотная стена тальника. Зосима подбадривает оленей и правит прямо на стену. Нарты скользят все быстрей. Петя видит, что заросли раза в три выше оленей и в гущине нет ни щели, ни тропки.
– Кщ-кщ-кщ-щ-щ‑щ! – погоняет Зосима.
Сейчас олени вонзятся в тальник.
Но они, добежав до зарослей, встали на дыбы, разом впятером упали на кусты, подмяли их под себя и стали быстро пробираться между вывернутых, сломанных, измочаленных стволов и веток. Нарты заваляло из стороны в сторону.
Горький запах свежесломанного тальника, паровозное дыхание оленей, напряженная фигура Зосимы, его суженные всевидящие глаза и путь напрямик, путь, не скованный чертой ворги, путь по бездорожью!
Проломившись сквозь заросли, упряжка вырвалась на равнину, полого поднимавшуюся к югу. Равнина заросла низкими кустиками полярной березы – не выше нарт – и мхом.
Вид равнины, простора и шири вызвал у Зосимы прилив пьянящего возбуждения, Зосима отрешился от всего, кроме гонки по тундре, полета на нартах, прорыва через пространство. На ходу вскочил он на сиденье, встал позади Пети и принялся погонять мчащихся оленей. Он почти не дотрагивался до них хореем, хорей лишь помогал ему пропарывать воздух, бросаться вперед; белой молнией вонзался он в сумрак тундры. Зосима погонял оленей страхом – пронзительно закричал по-птичьи, завыл по-волчьи, заверещал, залопотал по-шаманьи.
Петя закинул голову и увидел в его глазах клокочущее черное пламя.
– А-а-а-а-а-кя-кя-кя!
– У-у-у-э-э-эх-хе-хе-хы-ы-ыи!
– И-и-и-и-ях-ха-ха-хо! – раскатилось по тундре до самого хребта, мутно проглядывавшего впереди. Олени прижали рога к спине и, почти не касаясь земли передними ногами, взвились в воздух, со свистом и стоном выбрасывая из ноздрей горячий пар, колотя копытами мокрую землю.
Петя понял, что весь предыдущий путь по ворге был лишь присказкой.
– Бу-у-у-бу-бу-бу! Ба-а-а-ба-ба-ба!
– Кях-кях-кях-кых-хы-хы-ы-ы-хых! – самозабвенно выкрикивал Зосима.
И Петя вдруг забыл обо всех опасностях, которые мерещились, забыл все, забыл, зачем приехал сюда, забыл всю свою жизнь, забыл самого себя. Он видел отверстый рот Зосимы, видел крик, от которого смещались пласты облаков, видел черное пламя, изливающееся из глаз пастуха, черное пламя, от которого зардели края туч; почувствовал, как ветер плотной пряной волной ударил в подбородок, и закричал вслед за Зосимой. Не понимал и не помнил, что закричал, но их голоса слились в один пронзительный и захватывающий звук, летевший впереди оленей.
И в этот момент Петя понял, что останется в тундре, что больше ему ничего не нужно, что это и есть то, для чего надо жить.
Вслед вырвались остальные упряжки – здесь, на просторе, нет нужды тянуться друг за другом, здесь каждый летит сам по себе, как в небе.
Вон Данила стоя скользит по равнине. Издали за кустиками березы не видно нарт, виден лишь гусь, черным парусом выгнутый вслед за оленями. Протянув хорей, Данила тоже летит над тундрой, вверх по склонам пологих холмов.
Едва поотстав, плывет Наташа, стоящая на полозе нарт. Она не кричит, не улюлюкает. Плавно и быстро, как по волшебству, идут ее нарты. Редкостной белой масти вожак пластается по равнине, закинув корону алебастровых рогов; на шее расшитый красным узором ремешок с серебряными колокольчиками, звенящими нежно, как льдинки в весеннем ручье. Сбруя в серебряных пряжках, сверкающих на черных ремнях. Остальные четыре оленя тоже белой масти; они летят, как лебеди, вспугнутые с озера.
Но это чудо – лишь полчуда. Чудо сама Наташа, скользящая за лебедями на полозе своих нарт. Вишневое с зелеными прошивками на рукавах одеяние утренним облачком парит над темной равниной. Желтая шаль горит солнечной каплей, золотой бусиной, покатившейся по ночной тундре. Встречный ветер развевает шалевые кисти, лучами относит их назад.
В одной руке у Наташи поводок с блестками резных украшений, в другой – легкий хорей. А в глазах ее радость и простор, и Данила, с птичьим криком мчащийся впереди. И еще там лица матушки и батюшки, и приветливый костер чума, и полог, и мягкие оленьи шкуры, и подушки нежного куропаточьего пуха, и дыхание Данилы на губах и на плечах, и его руки, и губы. И так все мысли начинаются с Данилы и кончаются Данилой.
Наташа посматривает на нарты. Старший сын, закутанный в старый отцовский гусь, крепко привязан ременной веревкой к сиденью – он спит. Младший – в берестовой люльке, тоже притороченной к нартам. Иногда он просыпается и плачет, но тут же снова засыпает, укачавшись от быстрой езды.
Взгляд Наташи скользит по земле и отмечает испуганно вытянутую шейку куропатки, притаившейся совсом рядом в кустах. На след полоза высыпают птенцы и с любопытством катятся за нартами. Эй, эй! Сзади едет Кузя с собакой!
Не успели... С треском взвилась куропатка, выбросилась в серое небо, замелькала белыми подкрылками. Тонко запищал птенец, сдавленный собачьими клыками.
Так вот и случается – растишь, растишь, радуешься ребеночку, а подкрадется болезнь – и нет птенца. Хорошо, если доктора помогут. Наташа вспоминает больницу и радуется родному простору. Нет уж, лучше не болеть, а всегда быть здесь с Данилой и сыновьями.
Вслед за Кузей, далеко отстав, едет Василий Матвеич и еще дальше Валентин Семеныч. У того что-то не ладится со сбруей, он то и дело останавливается, поправляет и снова пытается догнать аргиш.
Только Рогов мчится почти вровень с пастухами. Его брезентовый плащ задубел в сыром воздухе, и капюшон торчит на голове длинной дудкой. Эх, лихой старик этот Рогов! Не дает ему покоя дух тундры – так и тянет, и манит к себе, и зовет из теплых московских краев, из каменной пятиэтажной избы. Что за сила в этом духе! Вот и Петю сегодня захватил. И Петя позабыл про свой город, полетел за Зосимой, залился шаманьим криком.
Они еще впереди всех гонят. Данила хочет догнать, да не выходит пока. По пологому склону выскочили на увал и – вниз, как провалились, помчались под уклон в овраг, к ручью с крутыми каменистыми берегами.
– Прыгай! – дико крикнул Зосима, соскочил с нарт и побежал рядом, не выпуская из рук поводка и хорея.
Петя оттолкнулся от сиденья – пружиной отлетел в сторону, не веря, что удержится на ногах. Но его подхватил дух тундры – он не только не упал, а, не сбавляя хода, помчался вслед за упряжкой.
Олени на всем скаку перемахнули ручей, пустые нарты лишь крякнули на камнях и полетели вверх по склону, увлекая Зосиму.
Петя остановился на берегу и только тут заметил, что перед ним глубокое русло, полное скользких камней. Теперь уж он не мог одним махом перескочить ручей, он стал осторожно спускаться, придерживаясь за кусты; ноги скользили и слегка дрожали; вода доходила почти до верха голенищ. Он перебрел на другую сторону, вскарабкался по склону, ободрав руку об острый камень. Дух тундры оставил его. Петя, точно проснувшись, почувствовал тяжесть своего тела, неуклюжесть и медленность движений. Он побежал вслед за нартами, но бег был вял и неловок. Петя понял, что без Зосимы и оленей он здесь ничто. Останься сейчас один, и – конец. И ему захотелось поскорей к Зосиме, к оленям, захотелось еще раз почувствовать полет.
Зосима ждал на вершине увала. Олени легли, подвернув под себя передние ноги, и щипали березки, торчавшие перед мордой: ловко цепляли губами ветку снизу и быстрым движением головы счищали в рот листья, оставляя голый прут.
В это время Рогов только переезжал ручей. Держась за нарты, он бежал через камни. И мимоходом, так же быстро, как ручей, мелькнула в памяти другая переправа.
...Тоже летом на двух нартах ехал с пастухом в поселок. Путь через реку, которую сегодня переплывали на лодке, но выше по течению – там она мельче. Пастух знал место, где нарты могли проскочить по камням. Говорил, если встать на сиденье, вода будет по щиколотку.
Утром в тумане подъехали к реке. Что за черт! Вся галька на берегу точно каша, перемешана с мясной тушенкой. Собака сразу принялась ее жрать, глотая камни.
Следы гусениц... раздавленные консервные банки...
Сколько могли, промерили дно – глубина небольшая. Другой переправы не было, и решили перебираться здесь. Сначала упряжка бежала по грудь в воде, и нарты лишь чуть заплескивало. А на середине олени разом провалились и поплыли – одни головы торчат. Рогов едва успел уцепиться за сиденье. Ледяная вода сдавила дыханье и сковала ноги. Выручила правая рука – вросла как железная в перекладину, на ней и выволокли его из реки олени.
В поселке рассказали, что в этом месте застрял трактор с волокушей. Вытаскивали двумя другими тракторами, ну и выгребли все камни, углубили дно. Несколько ящиков тушенки, упавших с волокуши, передавили в суете.
С увала открывалась низина, залитая туманом, и противоположный пологий склон.
– Тама олешек кормит будем. Отдыхать будем, – сказал Зосима, кивнув на гребень склона.
Пете показалось, что это совсем рядом: на склоне были видны кусты, вышка триангуляции торчала на самом высоком месте.
Довольно долго мчались по равнине, но склон не приближался – все такими же виднелись кусты и вышка.
Врезались в туман, олени утонули в нем, как в сметане.
Под туманом продолжалась равнина, но виднелись только мелькавшие рядом кусты березы – больше ничего. Поехали, перекликаясь, чтоб не потеряться. У Пети вскоре совсем пропало всякое понятие о времени и направлении. Ему начинало казаться, что они кружатся на одном месте. Те же камни, тот же куст тальника на берегу, те же волны тумана то прорежаются, то наплывают.
Зосима замкнулся в своем гусе – торчат одни брови, покрытые капельками влаги. Изредка крикнет и прислушивается, как глухо, нехотя доносится через туман чей-то ответ.
– Не сбились? Дорогу-то знаешь? – неуверенно спрашивает Петя, ежась от сырости.
– Знаешь, знаешь... – бурчит Зосима и щекочет хореем оленей.
Пете стало тоскливо и одиноко, он больше ни о чем не спрашивал Зосиму. Поднял воротник куртки, уткнулся и старался согреть дыханием замерзший кончик носа.
– Ты ветеринар будешь? – неожиданно спросил Зосима. – Про олешков книжки читаешь? Эх-хех... – вздохнул, легонько кшикнул на оленей и снова надолго замолк.
Ручьи кончились, тундра, ограниченная туманом, катилась под полозья плоско и однообразно. Пете казалось, что нарты стоят на месте и олени только перебирают ногами, не двигаясь.
– Э-хех... – опять вздохнул Зосима. – Хотел шофером я учиться. На вездеход шофером. Вездеход, знаешь, быстрей олешка. Уй, как по тундра прет! А так чего я – пастух...
– Почему ж не стал шофером? – спросил Петя, заглянул в окошечко гуся на лицо Зосимы. Там под мокрыми бровями совсем сжались его глаза, в них не было больше черного пламени, из них смотрела горечь и беспомощность. Да, зрелая горечь и детская беспомощность.
– Почему, почему... – Зосима отвернулся. – Почему дурак был... Молодой дурак был... Интернат учился... Книжка читал... писал...
Зосима вдруг оборвал разговор, остановил упряжку, подошел к кореннику, повертел в пальцах ремень сбруи. Ремень был разорван. Зосима вобрал руку в рукав гуся, ловко достал нож, висевший на поясе под гусем, быстро прорезал концы ремня, сорвал под ногами пучок какой-то травы и скрепил разрыв.
– Тундра скучал... – продолжал он, погоняя оленей. – Батюшка, матушка скучал, братья, сестры... Убежал интернат. Учить кончал, дурак оставался... Эх-хех... Мой друг – вместе учился – сичас в городе большой начальник стал... Я-то пастух...
– Ничего. Ты же хороший пастух, а это... – начал было Петя, но Зосима прервал его:
– Ладна, ладна, харош пастух, пачет-уваженне, грамота, часы, – знаю...
И здесь разом кончился туман. Гребень склона и вышка были по-настоящему рядом. И небо стало утренним. Медная заря побледнела, засветилась латунью, облака поредели, поднялись, вся округа засияла, запела красками.
Из тумана, как из озера, выплывали на склон упряжки и бежали к гребню. За гребнем начиналось тундровое плоскогорье. До этого мгновенья горизонт был скрыт то увалами, то кустами, то склонами. А сейчас ничто не сдерживало взгляд. Справа за тусклым серебром росной тундры поднялся Уральский хребет; он видится как огромная плоская стена, прорезанная трещинами снежников. Неожиданным взмахом сломал он равнину, нарушил однообразье, его подошва в белесой дымке, а вершины в смоляных облаках.
На север и на запад развернулась низина, залитая туманом. Отсюда она как замерзшее море. Кое-где ее пропороли купола возвышенностей и черные клинья далеких лесов. А южнее, в ярко-зеленой тундре, просветились озера, они были совсем круглые, и из каждого прямо в небо поднимался столб пара. Голоса людей и дыханье животных лишь оттеняли неколебимую тишину.
Зосима выпряг оленей и пустил пастись. Они не стали ложиться – пошарили под кустами, метнулись в сторону, сбившись в кучу, прильнули мордами ко мху, опять отбежали.
– Смотри! – крикнул Пете Рогов. – Грибы ищут!
Олени шарахнулись по зарослям карликовой – не выше травы – березки, вдоль по склону, за ними и остальные, выпряженные и с нартами.
Пастухи бросились вдогонку.
– Когда грибное место проезжаешь, – продолжал Рогов, – олени бесятся – идут по грибы, да и только! Ты их и хореем, и криком – ничего не помогает. Бывали случаи, так понесут, что и седока свалят, и в тундру убегут сами по себе. Что ты! Грибы для них первое лакомство сейчас.
Он пошарил среди мха и достал маленькую крепкую шляпку подберезовика.
– Никогда не ел сырых грибов? На-ко отведай.
Петя с опаской, так же как вчера сырую рыбу, взял шляпку, пожевал упругую мякоть и почувствовал необычайно пряный, острый аромат, наполняющий рот. Это было гораздо вкусней, чем вареный или соленый гриб.
– Ну как? Теперь оленей понимаешь?
Иван Павлович рассмеялся и отправил в рот бледно-коричневый подберезовик.
Среди мха молодые грибки были рассыпаны, как яички, – только подбирай. И тут же сочные лепешки зажелтевшей поспевающей морошки.
Пастухи приводили оленей, привязывали к нартам, и те, словно поняв, что по грибы все равно не пойдешь, покорно ложились на мох, подгибая сначала передние, потом задние ноги, и щипали березки.
Собрались возле упряжки Данилы, выпили по пластмассовому стаканчику водки, закусили сырыми грибами и морошкой. Кто-то пустил по рукам кожаный мешочек соли – с ней грибы оказались еще вкусней.
Этот короткий отдых среди равнины под высоким светлеющим небом успокаивал, умиротворял. Страсть и ярость недавней гонки смирялись тишиной и покоем, заливавшими утренний мир.
Когда тронулись в путь, взошло солнце, тундра покрылась пластинами киноварной зелени и светлого серебра. При беге оленей с нарт казалось, что пластины переливаются одна в другую, меняют очертанья, вспыхивают и тускнеют. Столбы пара над озерами загустели и встали мраморными колоннами, поддерживающими небо. По обе стороны от нарт березки и мох, покрытые росой, загорались, как крылья гигантской стрекозы.
Солнце стало пригревать, и Петя с удовольствием смотрел вокруг, наблюдая утреннюю тундру.
Только Зосиме не до восхищений.
– Ай, ай, – озабоченно причитал он, посматривая на солнце, – тепло пришел... Ай, не успел до чума ехать...
Засмотревшийся Петя не очень прислушивался к бормотанью Зосимы. Из созерцанья его вывел резкий жалящий укол в щеку, потом в руку, в лоб... Петя посмотрел на рукав штурмовки и увидел вялых после ночного холода, но уже злых и настырных комаров. Они тыкали рыжими хоботками, перелетали, собирались в кучки. Чем сильней пригревало солнце, тем больше их становилось. Руки и лицо теперь нестерпимо жгло от укусов. Особенно доставалось правой руке, которой держался за сиденье, – она не двигалась и стала кормушкой для комарья.
Петя пытался их отгонять, но они уже насели роем, лезли в нос, в уши, в рот, жалили в губы, в веки, забирались за ворот и, изжалив шею, ползли по спине. Черный капюшон Зосимы стал серым от тысяч насекомых, залепивших его.
Тут уже не до красот. Петя видел только комаров – они заполнили весь мир: жгли, хлестали, кололи, от них не было избавленья.
Олени понесли, как безумные. Но теперь в их беге нет ни веселья, ни лихости – они хотели движеньем спастись от комаров, ветром очистить тело от кровопийц. Зосима не кричал, не шаманствовал. Он спрятал руки в рукава гуся, которые кончались суконными варежками, натянул край капюшона на нос и замер.
Зато Петя крутился, как на сковороде, он чуть не плакал от боли и бессилия. Несколько раз, когда нарты не очень валяло, он тер правую руку тыльной стороной о штурмовку и чувствовал, как в это время комары впиваются в ладонь. Рука была в крови, в месиве раздавленных насекомых.
Зосима посмотрел на него, покачал головой и остановил упряжку. Густой звон наполнил уши. При езде комаров отгоняло ветром, а теперь они замельтешили перед глазами и облепили все, как серый живой снег.
– Ай, ай, парень, комариный мазь нада. Так плохо будет. Тундра не был, не привык. Плохо будет, – повторял Зосима, с болью глядя на Петю. Его черный гусь оброс шевелящимся мхом.
Петя поднял воротник, спрятал было руки в карманы, но тут же вынул отгонять комаров от лица. Он чувствовал, что губы распухли и внутри рта появились волдыри.
– Погоди, парень, сичас Палыча комариный мазь берем.
Рогов догнал их сразу.
– Ах, мать честная! Как же мы забыли тебе репудин дать! Ну, скорей мажься!
Достал из плаща пузырек, плеснул Пете на ладони.
– Сначала руки натри, а потом лицо. Да смотри в глаза не попади. И шею натирай, и уши – все натирай.
От одного сознания, что спасен, Пете стало легче. Руки и лицо жгло по-прежнему, но комары на них больше не садились.
– А теперь иди на оленей посмотри, – кивнул Рогов.
Комариный рой висел над упряжкой, точно густой пар. Беззащитные животные лишь вздрагивали и крутили головами. Их морды покрывало шевелящееся кишобище: тысячи крыльев и хоботков теснились возле ноздрей, губ и глаз, где тело не защищено шерстью. Рога тоже были покрыты живым налетом – короткий ворс не спасал от кровососов. Петя провел ладонью по морде вожака – рука в крови. Провел по рогам – кровь...
– Вот, брат, тебе и дело на всю жизнь: защита от гнуса, – сказал Рогов, обняв Петю за плечи. – Подумай над этим – тема очень стоящая. Если заинтересуешься, я тебе кое-что расскажу и почитать дам. Ладно, это потом. Держи пузырек. Начнут жрать – мажься снова. Поехали!
Теперь впереди – упряжки Данилы и Наташи. Они скользят рядом. Каждый стоит на полозе своих нарт. Посматривают друг на друга, коротко переговариваются – Наташа скажет слово, Данила слово. Наташа улыбнется и всматривается вдаль. Данила не хочет показать вида, что смотрит в ту же сторону, а глаза сами тянутся к увалам, за которыми вот-вот прорежутся острые конусы чумов.
Сыновья все еще спали, пригретые солнцем. Люльку меньшого Наташа затянула от комаров ситцевым пологом, старшему тоже накрыла лицо. Она смотрела на детей, на мужа, и улыбка все время жила в ее глазах.
Скоро, скоро. Скоро чум. Как далеко откаслали пастухи, пока она была в больнице. И морошка поспевает, и грибов уже много, и у куропаток оперились птенцы... Где же поставили чум? На том ли месте, что в прошлом году? Или ближе к озеру?..
И тут Наташа вскрикнула и хореем показала влево.
Там над равниной торчали два еле приметных голых кустика. Конечно, кустиками их мог назвать только человек, никогда не бывавший в тундре. То виднелись концы перехваченных сверху шестов, которые держат чум. Сами чумы еще были скрыты холмистой далью. Но постепенно они поднимались, прорисовывались ясней и внятней.
А когда упряжки одолели последний подъем, открылась просторная луговина между двумя озерами и на ней два белых конуса, два чума – единственное людское поселенье на сотню километров в округе.
И из чумов заметили упряжки, поэтому над их вершинами всплыли синие дымки.
– Чай пить будем! – обрадованно толкнул Зосима Петю. – Отдыхать будем! Ой, хорош у нас!
Залился птичьим криком, взметнул хорей, и олени понесли из последних сил.
Собаки выбежали навстречу, затеяли радостную свару с Кузиным псом. Пастухи распрягали нарты, отпускали оленей, снимали поклажу.
Ну, вот и приехали. Рогов не сразу сошел с нарт. Посидел минутку, разглядывая чумы, озеро, вслушиваясь в голоса. От долгого напряжения побаливали руки и спина. Но тяжесть в сердце почти прошла. И, как там, у избушки Константина Кузьмича, самый вид поселенья, хозяйственных мелочей и людей, делающих привычные дела, вселяли чувство незыблемости бытия, построенного на просторной земле, пропитанного соками и запахами тундры. Это чувство почему-то именно сейчас, как никогда, захватило, засосало. И что-то было в нем печальное, даже, пожалуй, прощальное, Да, как ни странно, эта незыблемость печалила сегодня. Она вызывала зависть к тому, что существует издревле и останется всегда, и в этой зависти крылась причина печали.
Иван Павлович отпустил оленей, пошел к чумам. И что-то сжалось в душе, словно все видел в последний раз, словно не здоровался, а прощался с пастухами, с чумами, с тундрой. Наверное, устал с непривычки, вот и распустил нюни. Нельзя. Надо отдохнуть немного и сразу же начинать работу, не то совсем прокиснешь. До пенсии всего три месяца, но это ничего не значит. Решил остаться и останется на работе. Пенсионером даже лучше – независимей, спокойней; ездить в командировки, куда потянет.
Да, да, только теперь и начнется самое интересное, толковое, выстраданное, отмеченное опытом всей жизни... И написать надо о многом – по одному гнусу наблюдений – воз: об оводе, о комаре, о мошке...
Иван Павлович подошел к чумам. Э, да тут все знакомые. Хотя нет – вот совсем незнакомый человек. Кто ж это? Наверное, батюшка Наташи. Невысокий старичок со опутанной бородкой и мятыми волосами – суетится, причитает по-хантыйски, то к Наташе метнется, то к внукам, то к Даниле; и смеется, и слезы вытирает ладонью.
А вон там, в сторонке, – Никифор Данилыч, пастух-коми. Ну-ка, ну-ка, старый приятель. Время его не берет: такой же прямой, высокий, и ватник тот же, и красный платок вокруг лица, и жеваная папироска... И та же угрюмость. Лицо резкое, угловатое, с острым носом; обветренные до черноты щеки заросли темной щетиной, белки глаз в красноватой сетке воспаленных жилок. По обыкновению нелюдимо и диковато смотрит он на приезжих. Если не знаешь, так и ждешь: бросит что-то резкое или молча повернется и уйдет, не желая разговаривать. Но вид его – сплошной обман, никак нельзя ждать от него ничего подобного.
– Никифор Данилыч, здравствуй, дорогой! Рад тебя видеть, – пробрался к нему Рогов через сумятицу людей, детей и собак.
Пастух шагнул навстречу и улыбнулся так застенчиво, так откровенно-радостно, что лицо сделалось беспомощным и растерянным.
И это еще больше убедило Рогова в том, что Никифор Данилович совсем не изменился.
– Совсем не меняешься, время тебя не берет.
– Рано еще брать – я на десять лет моложе вас, – голос у Никифора Даниловича глубокий, и по-русски он говорит совсем чисто. Здороваясь, пастух слегка поклонился. В этом поклоне была сила и врожденная красота движений. Этот его поклон сразу напомнил Рогову их первую встречу и тогда же возникшее чувство открытия какого-то внутреннего природного благородства, которым обладал Никифор Данилович. Тогда чум стоял на берегу Карского моря. И Рогова поразил контраст внешней угрюмости и нелюдимости пастуха, встретившего его в суровой и пустынной тундре, с изящной обходительностью, даже изысканностью обращения.
Один вид Никифора Даниловича отвлек от грустных мыслей, вернул к сегодняшним заботам и людям, с которыми эти заботы нужно было делить. Да и вообще Рогов не любил «нюни» и старался их не распускать.
Отдохнуть, попить чайку – и за дело!
...О, эта радость – после долгого пути расправить спину, стряхнуть с одежды мох и землю, пойти к ручью, умыться ледяной водой и потом, неуверенно еще переставляя отвыкшие от ходьбы ноги, направиться к чуму.
Уже то, что ты идешь и перед глазами не мелькает трава, не скачут олени, не свистит в ушах ветер, уже одно это наполняет грудь покоем. Но полное блаженство отдыха еще впереди.
Иван Павлович любил это чудо – после дикого простора оказаться в чуме, в жилье человеческом, таком, казалось бы, непрочном, собранном из шестов и брезента, но таком же вечном, как северные края, неколебимом, как человек, живущий тундрой, и приветливом для души, пожалуй, больше любого иного жилья.
Он подошел к входу, помедлил, прислушиваясь к неторопливым приглушенным голосам, отогнал шляпой комаров, откинул край брезента и быстро проскользнул внутрь чума.
Вот это и есть рай земной. Тебя встречает мягкий сумрак: сначала не разобрать ничего – видишь только угли костра, дотлевающие посреди чума, они как бы висят в полутьме, подернутые живой паутиной пепла. На углях черной змеей изогнулась ветка тальника, и от нее поднимается тонкая нить синего дымка. Запах его, пряный и сладкий, – само доброхотство, само гостеприимство, сам покой.
И голос покоя приветливо говорит из сумрака:
– Присаживайтесь, Иван Павлович, отдыхайте.
Это Никифор Данилович привстал и отодвинулся, предлагая гостю лучшее место на оленьих шкурах.
Петя и Валентин Семеныч уже лежат там в полудреме, прислушиваясь, как гудят уставшие руки и спина.
Рогов присел на край шкуры, стащил сапоги, бросил ко входу и с блаженным вздохом прополз на локтях к подушке, предупредительно поправленной Никифором Даниловичем. Лег, закрыл глаза, пьет тишину и тихие голоса, живущие в чуме.
Все тревоги, все заботы, вся житейская усталость и суета – все осталось снаружи, за брезентовой стенкой. Здесь только покой и отдохновенье. Чувство это объяснить невозможно, появляется оно только тут, в тундре, когда войдешь в чум и ляжешь так вот на шкуры. Какие бы дела ни ждали тебя, они остаются снаружи, на просторе. Едва запахнув за собой край брезента, прикрывающего вход, ты мгновенно уходишь от них. Легкий летний чум хранит покой надежней чугунного колокола, поставленного на землю. Опуская голову на подушку, ты знаешь: никто не потревожит, сколько бы ты ни проспал, никто не напомнит тебе о мире, оставленном за входной прорезью, никто не позовет, никто не окликнет, ибо отдых священен, и прерывать его нельзя. Отдохнувший и бодрый, ты проснешься сам и сам вспомнишь о делах и дорогах. А пока – дремли, впивай покой, пахнущий сладким дымком, тишину, пронизанную едва слышными голосами. Чум, отделивший от просторов каплю пространства и превративший ее в рай, подарил тебе все, что нужно утомленному.
Очнувшись от легкого забытья, Иван Павлович увидел поставленный в ногах низкий, словно бы детский столик, накрытый желтой клеенкой. На столике большая миска сушеного хлеба, жестянка сахара, чайные чашки, ложки, вилки. Увидел и почувствовал голод и ощутил жажду. И еще радость от того, что голод и жажда будут насыщены. В воздухе вместе с дымком уже плавали зовущие запахи мяса и чая.
И в тот самый момент, когда Рогов, открыв глаза, все это почувствовал, Марфа Ивановна, жена Никифора Даниловича, сняла с крюка чайник, висевший над очагом. Черная струйка потекла в чашку. Пар засветился в красном отсвете углей. И темно-красное платье женщины на миг показалось тоже облачком пара, миражом, привидевшимся во сне.
А Марфа Ивановна уже накладывает из полукруглого котла в миску тушеную оленину, поливает соком и приглашает:
– Покушайте с устатку.
Никифор Данилович подвигает Рогову низкую скамеечку, под стать игрушечному столу. Иван Павлович благодарит, но садится на шкуры по-турецки, а скамеечку ставит на доски – для хозяйки. Так ей будет удобней между столом и очагом.
Петя и Валентин Семеныч тоже садятся, поджав ноги.
Марфа Ивановна выводит за руку откуда-то из полутьмы смущенную девушку-хантыйку и сажает рядом с Петей. Девушка в городском открытом платье, у нее розовые руки и гладкая кожа. Она садится, ловко подобрав ноги под платье. Петя старается не смотреть, но глаза помимо воли скользят по ее рукам, по крепкой груди и широкому лицу с ярким румянцем на скулах. Зовут девушку Катей. Она помогает хозяйке угощать гостей, и ее смущение быстро проходит.
– Чай пейте, оленину кушайте, – говорит она почти без акцента, пододвигая Пете чашку с мясом.
Тот взял толстый ломоть сушеного хлеба, впился зубами, с трудом откусил и принялся жевать вместе с олениной. Его даже в жар кинуло от напряжения.
Катя улыбнулась, отломила кусочек, размочила в чае, положила в рот – не велика премудрость есть сушеный хлеб. Сушить трудней. Она вспомнила весну, ветреный солнечный день, брезент, расстеленный среди мхов, и мешки печеного хлеба. Катя берет буханку, режет вдоль на три ломтя, кладет на брезент, потом вторую, третью – так полтонны хлеба сушится на ветру. Нужно именно на ветру, на солнышке сушить. Взяли раз в пекарне сухарей, сушенных в печи. На переправе через реку грузовые нарты залило водой. Посмотрели, а от сухарей одна каша, только выбросить. С хлебом, сушенным на ветру, такого не случится – его сколько ни мочи – куски не раскиснут, лишь размякнут. Разложишь на солнышке, подсушатся, и опять прячь в вандей[13]13
Вандей – грузовые нарты, где хранят пищу и одежду.
[Закрыть].
Марфа Ивановна никак не угомонится – только сядет, отхлебнет чаю – встанет, идет к очагу, к сундучку с припасом – то оленины доложит, то сахару принесет, то сухого печенья прибавит. А вот принесла и поставила на столик миску с какими-то желтыми, сочными кусочками. Петя подумал – медовые соты.
– Покушайте нашу варку, – предложила Катя и специально для него объяснила, что это сушеная рыба, пропитанная жиром, – так она может долго лежать не портясь.
На зубах варка превращалась в мельчайшие волоконца, которые таяли, как крупинки засахарившегося меда. Казалось, ничего вкусней мягкой душистой оленины невозможно представить, а тут – варка. Пожалуй, поспорит и с олениной, и с оленьей печенкой...
В соседней половине чума тоже поставили столик, там пьют чай Зосима с Кузей и Василием Матвеевичем.
Глаза привыкли к сумраку, и сумрак пропал. Чум наполнился мягким матовым светом, подкрашенным красноватыми бликами от углей. И проступило строгое убранство древнего жилища.








