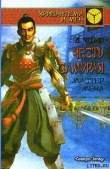Текст книги "Очерки японской литературы"
Автор книги: Николай Конрад
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Все это переводилось, читалось зачастую без всякого разбора и системы и приводило к неожиданным по внешности результатам: в Японии, где вся новая буржуазная культура насчитывала каких-нибудь тридцать лет своего существования, а возраст новой поэзии исчислялся совсем младенческими цифрами, появляется вдруг прерафаэлитская поэзия. Все это не более, чем случайные изгибы, порожденные литературными влияниями извне, соединенными с собственной неустойчивостью, колебаниями и шатаниями, характерными для всякого периода роста, ломки старого и насаждения нового.
И тем не менее уже в эту романтическую стадию японской поэзии уже чувствуются какие-то линии, намечающие то направление, в котором пойдет эта поэзия в дальнейшем. С этой стороны крайне показателен путь, представленный крупнейшим поэтом этих лет Симадзаки-Тосои. Начал он – как и все в эти годы – с подчинения европейскому влиянию – поэзии прерафаэлитов; и только высокая художественная индивидуальность спасла его от простого подражательства. Одпако долго он на этих позициях пе пробыл. Инстинкт художника – представителя своего поколения – толкал его к лирике менее изломанного характера; таков его второй сборник с преобладанием уже природы. И, наконец, с третьего сборника он уже целиком отдается действительному миру, становится певцом окружающей жизни, воспринимаемой сквозь призму романтического мироощущения, но зато именно так, как воспринимала ее тогда японская молодежь. Путь Тосои в той или иной мере проделал и другой крупнейший поэт этих лет Цутии Бансуй; за ним же шли и прочие. Романтические певцы жизни – такими были в основном поэты этого времени.
Расцвет новой поэзии не мог не отразиться и на старой. Подъем синтайси привел в движение и мир танка и хокку. При этом началось с того жанра, который был ближе всего новой – особенно токиоской – буржуазии: с жанра хокку. Эти коротенькие стихотворения в три строчки из пяти, семи и снова пяти слогов, превратившиеся в руках первоклассных поэтов XVII и XVIII веков в полноценную художественную поэзию, теперь снова ожили. Правда, они никогда совсем и не умирали; слагание хокку продолжалось все это время, но они ни разу не выходили в «большой свет» литературы. В первых рядах шли сип– тайси, хокку и танка плелись где-то в хвосте общего движения. Причины этого ясны. Главная из них – слишком большая связь этого жанра с определенной тематикой, в конце концов – тематикой XVII и XVIII веков; слишком большая связанность творчества созданными тогда и застывшими правилами, нарушить которые казалось все еще немыслимым. Сюда присоединилось, кроме того, выросшее благодаря знакомству с европейской поэзией убеждение, что в таких коротеньких стихах ничего не скажешь. Влияло и всеобщее увлечение европейскими образцами. Словом, перспектив для развития хокку (и танка) как будто бы не было никаких.
Дело сдвинулось с мертвой точки в 1892 году благодаря усилиям Масаока Сики. Сики (1867-1902, Сики – литературный псевдоним) – самая крупнейшая поэтическая индивидуальность – сумел подойти к проблеме воскрешения хокку с самой верной стороны: он попробовал оттолкнуться от классика этого вида поэзии – знаменитого поэта конца XVII века Басё, прославленного создателя хокку, как высокой лирической поэзии. Он попытался всмотреться в сущность поэзии Басё, чтобы понять, чем именно тот вознес хокку на такую исключительную высоту. И секрет оказался очень прост: Басё – современник реалистического городского романа, созданного Сайкаку, поэт времен сильнейшего подъема торговой буржуазии, брал темы для своих произведений из окружающей действительности, был поэтом жизни. Сики открыл, что Басё давал в своих стихах реалистическое живописание. Это открытие сразу же указало Сики путь, коим нужно идти, чтобы оживить хокку в конце XIX столетия, в иных социальных условиях. Нужно давать только объективное отображение реальной жизни, нужно брать темы из всего многообразия окружающего мира. Иначе говоря – быть созвучным эпохе и из нее извлекать свои темы. Ступив на этот путь, Сики нашел подтверждение своим принципам и в творчестве другого классика хокку – поэта XVIII века Бусби.
Фактически, отчасти благодаря своим личным особенностям, отчасти же благодаря общим тенденциям своего поколения, то, что дал на практике Сики и его последователи, был тот же романтизм, только в видоизмененной в сторону большего объективизма форме.
Хпгураси я Звонит цикада,
Каминари харэтэ Гроза прошла – и снова
Мата юухи. Лучи заката.
(Перевод Н. Фельдман)
*
Высоко в горах
Выжимают груду скал,
И бегут ручьи.
*
Среди озера
На безлюдном островке
Чаща так густа.
*
Гребни петуньи
Все полегли и поникли.
Ветер осенний...
(Перевод Н. Фельдман)
Новое движение стало окончательно укрепляться в самые последние годы XIX столетия, когда Сики стал уже бесспорным главой всей школы, получившей название «школа Нихон» («Нихонха») —по имени журнала, в котором он работал. Вокруг него группировался ряд талантливых учеников, из которых наиболее выдающимся был суггестивный лирик Такахама Кася, а также чистый импрессионист Кавахигаси Хэкитодо. Немалую пользу движению принес и глубокий знаток старого хокку, несколько консервативный Найто Мэйсацу. Выпускаемый первым журнал «Хототогису» стал знаменем и названием новой группы, работавшей по путям, указанным Сики.
Если двинулись хокку, не могли остаться без движения и танка. Тот же неутомимый Сики в 1898 году переносит свое понимание и на этот поэтический жанр. Отставание «танка» от общего поступательного движения японской поэзии в это время диктовалось теми же причинами, что и в области «хокку». Обретя точные позиции и добившись на них успеха в «хокку», Сики выступил и по отношению к танка с той же программой: верность действительности, объективность, отражение реальной жизни. Словом – возвращение к VIII столетию и первому памятнику поэзии танка – антологии «Манъёсю». Это последнее обстоятельство крайне характерно для Сики, потому что в этой антологии можно было – неожиданно для себя – открыть много поучительного и для нового времени: поэзия танка в то время была живой поэзией, проникнутой насквозь чувством действительности, бесхитростно воспевавшей любовь, природу, все окружающее, любуясь им, просто излагая его, соединяя со своей радостью или печалью. Непосредственная реалистическая лирика, простая и нередко наивная – таково содержание «Манъёсю». Сики резко нападал на современную ему танка, обнаруживая в ней искусственность, шаблонность, механичность. Призыв Сини, подкрепленный его собственным творчеством, по остался без отклика: вскоре образовалась школа новой танка – так называемая «школа Нэгиси» («Нэгиси-ха») в составе его самого и его учеников – Ито Сатио, Нагацука Сэцу. От этой школы впоследствии пошла знаменитая группа «Арараги».
Школе Сики пришлось конкурировать с другой школой, уже пользовавшейся большой популярностью и также ступившей на путь некоторого обновления. Основателем ее был известный филолог, знаток японского языка – Отиаи Наобуми. Он.выдвинулся в 1892 году на последнем гребне националистической волны и поэтому не мог, конечно, отойти от традиционных канонов классической танка.
Отиаи был больше исследователем и знатоком: главным поэтом – создателем школы был его ученик Йосано Тэккан (1873-1935, Тэккан – литературный псевдоним). Своей высокой репутацией он обязан больше своему фор мальному мастерству, чем внутреннему содержанию. В нем отмечают даже некоторую грубость, резкость. Он оставил после себя сборник военных стихотворений, воспоминаний о его пребывании на войне. Другие, наоборот, считают эти его качества достоинством, как признак мужественности и силы. Он сам называл свои песни «Песнями мужа». Впрочем, скоро он отошел от своего первоначального тона: с 1900 года (эпоха журнала «Мёдзё», откуда получила название вся школа) в нем появляется новое, свежее, яркое чувство. В конце концов движение, поднятое Сики за решительное обновление танка, за дух «Манъёсю», захватывает и его. С 1902 года у него и у его последователей уже явственно проступают чисто реалистические потки.
Очень известной представительницей новой танка является жена Тэккан – Йосано Акико (1878—1942), знаменитая поэтесса нового времени. В ней сочетаются элементы объективного отражении жизни, к чему так призывал Сини, с романтическими настроениями века. Она прошла через целый ряд идейных влияний: познакомилась с ницшеанством, занесенным в Японию Такаяма Тёгю, превозносила «гениальность», преклонялась перед жизнью и силой инстинкта. Индивидуалистическая стихия века временами захватывала ее всю целиком. И в то же время ее стихи – превосходное отражение жизни, ее собственной жизни, смело выявленной, вскрытой до самых глубин.Лучшим сборником ее считается «Мидарэгами» («Спутанные волосы»), вышедший в 1901 году. Его содержание – любовная лирика, временами страстная эротика, и тут же рядом – неудержимая фантазия. В нем немало и превосходных пейзажных стихотворений, считаемых самой поэтессой лучшими в ее творчестве.
Вот несколько образцов новой танка:
Стихи Масаока Сики.
Тарасу токо
Сото-ни суэтару
Торикаго-но
Буршкино янэ-ки
Цуки удуру мню.
*
Жестяной крышей
За дверью застекленной
Белеет птичник.
Я вижу, как по жести
Скользит беззвучно месяц.
(Перевод Н. Фельдман)
*
Настало время,
Когда и быстрый ворон
Клюет побеги:
Из высей туч туманных
Он пулей пал на поле.
*
Льет весенний дождь,
Размочивший и шипы
У бутонов роз.
Вытянувших пурпур свой
На два фута в вышину.
Стихи Йосапо Тэккан.
Итадзурани
Нари-о ка иваму
Кото ва тада
Коно тати-ни ари
Тада коно тати-ни.
*
Право, попусту
Для чего нам без конца
Разговаривать?
Дело в этом вот мече,
Только в этом вот мече.
(Перевод Н. Фельдман)
Лицо прикрыла,
Как будто и не смотришь,—
А все ж сквозь пальцы
Твои глаза чернеют,
О, не лукавь, плутовка!
(Перевод Н. Фельдман)
Стихотворение Йосано Акико.
Словно от пенья
Разноголосых кукушек
Ранней зарею
В озеро мерно встают
Белые зубчики волн.
(Перевод Н. Фельдман)
Подводя итог всему этому движению, можно сказать, что дело обновления танка свелось главным образом к колоссальному расширению ее тематики, решительному сближению с жизнью, в ее наполненности,– по крайней мере, у лучших представителей, – романтическим мироощущением. В стихах замелькали словечки: стекло, жесть, виски, мандолина, Никорайдо (православный собор в Токио), кофе, часы – вещи неслыханные в прежней поэзии и немыслимые для нее эстетически. Стали попадаться рыбаки, дровосеки, крестьяне, тут же рядом Аполлон, герой античной истории. Проглянули философия, этика, христианство – взамен прежних буддийских, синтоистских и отчасти конфуцианских мотивов. Все стало годным для поэзии. В этом отношении старая японская поэзия хоть и с запозданием, но твердо пошла на приближение к новой и слилась с общими судьбами новой литературы. VIII
VIII
Художественная проза в эти годы – промежуточные между двумя войнами – также переживала полосу большого оживления. И в ней наметились новые течения, возникли новые школы. Продолжали работать писатели «Кэнъюся» во главе с Койо, жив был Рохан со своими последователями, не иссякал поток популярной беллетристики – всех этих уголовных, приключенческих, популярно-исторических романов. Однако общество явно отходило от этого всего. На новом этапе требовалось что-то новое. Стихи, поэзия, при всем своем расцвете, оставались все же ограниченными по сфере распространения. Требовалась новая художественная проза.
Новые запросы, предъявляемые к прозаической литературе, естественно, отталкивались от того, что было до этого. Все как будто бы столь реалистическое писательство Койо и его школы, все эти как будто столь связанные с действительностью патетические повести Рохан – самое серьезное и лучшее, что тогда было, уже не удовлетворяли. Все это стало казаться очень далеким от жизни, от действительности. «Дальше, дальше вперед – к соприкосновению с жизнью, – говорила молодая критика. – Смелей всматривайтесь в человеческую жизнь. Отойдите от мелкого, переходите к глубокому. Отойдите от письменного стола и дайте романы общественные, философские». Иначе говоря, поскольку можно судить по отражению в критике, общество требовало от литературы еще большего приближения к себе, к своему существованию. Общество требовало, чтобы писатели внимательнее всматривались в его жизнь и давали ее полней, чем раньше, касались уже не только поверхности, но и глубин.
Первой формой отклика на все эти зовы была так называемая «идейная повесть» («каннэн сёсэцу»). Впервые этот ярлык был наклеен на рассказ Идзуми Кёка (1873– 1939, Кёка – литературный псевдоним) «На ночном обходе», вышедший в 1895 году. Герой рассказа – полицейский – во время обхода своего района делается свидетелем, как человек, стоящий на дороге его любви, пьяный сваливается в канаву. В нем борются чувство злобы к противнику и сознание своего служебного долга. Последнее побеждает. Полицейский бросается спасать врага и погибает сам. Вот такое именно изображение борьбы личного и общественного и характерно для идейной беллетристики. В произведениях этого типа сталкиваются любовь и долг, требование индивидуальной морали и общественной, личная чистота и окружающая обстановка. Каваками Бидзан (1868—1907, Бидзан—литературный псевдоним) – второй представитель этого жанра – в своих рассказах «Секретарь» и «Изнанка и лицо» (1896) стремится на таких коллизиях вскрыть несовершенство современного ему общественного строя, но делает это очень примитивно и надуманно.
Вот содержание рассказа «Изнанка и лицо».
Однажды ночью в дом некоего Кацуми пробирается вор, который похищает ряд ценных вещей и убегает.
Настигший его хозяин открывает, что вор – отец девушки которую он любит – Хотано Дзюро. Пораженный этим, он на следующий день идет в дом к своей возлюбленной, с тем чтобы как-нибудь уладить дело. Однако Хотано набрасывается на него с кулаками. Вбежавшая на шум дочь едва успокаивает отца. Возмущенный Кацуми заявляет, что он порывает с ней и ее семьей. Услышав это, Хотано уходит в другую комнату и там стреляется, оставив записку, в которой говорит, что он пошел на грабеж потому, что совершенно разочаровался в нынешнем свете, убедился в лживости людей и разложении всего общества.
Рассказ надуманный по сюжету и беспомощный по его разработке. В частности, так и остается неясным, почему именно свое разочарование в людях Хотано решил проявить в попытке грабежа. Тем не менее рассказ имел большой успех, о нем говорили, его обсуждали, настолько он все-таки отличался от ходивших тогда повестей и рассказов. Нечего и говорить, что у Бидзан пет и тени критики общественного строя по существу; весь вопрос ощущается писателем и ставится нм в своих произведениях как столкновение индивидуума с обществом – и только, причем при наличии в те годы повышенного индивидуализма, культа самодовлеющей личности, симпатии автора на стороне именно этой последней. В своих рассказах Бидзан рисует, как падают жертвами общественного Порядка беззащитные девушки, как нравственный человек становится под влиянием среды преступником. Основная идея Бидзан – «Общество само порождает преступления». При этом это столкновение личности с обществом рисуется в мелодраматических тонах, общество обычно дается в виде какой-то грозной, нависающей над человеком силы. Все это ясно свидетельствует только о том, что, несмотря на весь культ сильного человека, «гения» – японские отголоски скороспелого ницшеанства, – японский индивидуализм был весьма примитивного уровня. В области идеологии японская буржуазия проделывала те же этапы, что и западная, но всегда в порядке, так сказать, краткосрочного курса: быстро и поверхностно.
За «Идейной повестью» шла так называемая «литература глубин» (синкоку сёсэцу). Название это пошло от вышедшей в 1895 году повести Хироцу Рюро (1861 – 1928, Рюро – литературный псевдоним) «Черная ящерица». Хороший работник и добрый, но недалекий плотник Йотаро несчастлив в браке: шесть раз женится он, и шесть раз жопы от него уходят. В седьмой раз он берет в дом кривую, рябую, неуклюжую о-Тога. На этот раз как будто все идет благополучно: жена не убегает, и у них рождается даже ребенок. И вдруг она отравляет свекра, а затем и сама кончает с собой. Оказывается, что и эта седьмая жена не смогла дальше терпеть гнета отца своего мужа, этого «почти уже шести десяти летнего, но еще крепкого, жирного человека, с крючковатым, как клюв у хищной птицы, носом, с выступающими глазами, толстыми губами, красной блестящей голой головой, на которой видно было не более десяти седых волосков», преследовавшего, как оказывается, и ее своею похотью. Эта повесть Рюро произвела настолько сильное впечатление, вызвала такое обилие подражаний, что одно время даже говорили об «эпохе Рюро».
Нетрудно увидеть, что и это направление было также прямым откликом на требование времени, – глубже всматриваться в окружающую жизнь. Можно было делать, как в «идейной повести»,– ставить проблему соотношения личности и общества, несомненно, очень актуальную в те годы; можно было и открывать теневые стороны этой жизни, коренящиеся в глубинах быта уродливые явления. И так как в этих глубинах автор находил обыкновенно горе, несчастье, человеческие трагедии, то этот жанр получил и второе – вполне соответствующее его содержанию определение: «повести скорби».
Как «идейная повесть», так и «литература глубин», близкие друг другу во многих отношениях как два явления, выросшие из одинаковых общественных предпосылок, были родственны между собой и в отношении сюжета. Как то, так и другое течения стремились строить сюжет на материале, выходящем за рамки обыденности, брать в основу повествования какое-нибудь чрезвычайное происшествие. Таковы, например, сюжеты упомянутых произведений Бидзан и Рюро. Такой путь был, конечно, самым простым и легким, п вполне естественно, что первые авторы, исполняющие социальный заказ – «всматриваться в глубины жизни» – пошли по линии наименьшего сопротивления. Однако тут же рядом выступила и другая линия, более трудная, более сложная – при всей своей кажущейся простоте: она стремилась вскрыть глубины жизни не на чрезвычайном событии, а на обыденном материале, построить сюжет на самых незначительных происшествиях. Лучшей представительницей этого типа повести, получившей прозваштс «психологической» («ейпри сёсэцу»), была писательница Хйгути Итиё (1872—1896, Итиё – литературный псевдоним).
Итиё вообще является одной из самых крупных фигур новой японской литературы. Ее исключительная художественная одаренность единогласно признана критиками всех направлений. И в то же время она – по складу своего мировоззрения – очень хорошо выражает настроения части тогдашнего общества, той «разночинной буржуазии», которая стала постепенно занимать все большее и большее место. Итиё знает немногое в жизни, область ее тем поэтому очень ограничена. Она живописует японскую женщину своего поколения. Но зато она знает жизнь этой женщины, глубоко ее чувствует и тонко передает. Героини ее: неведомо от всех страдающая и под конец доводимая до гибели о-Рики («Нигориэ»,1895); бьющаяся в тисках семьи с ее бытовым гнетом, ио ради родителей подавляющая свой протест и страдающая молча о-Соку («Дзю– санъя»); борющаяся с жизнью, с материальной нуждой и под конец сломленная и вынужденная пойти в наложницы о-Киё («Вакарэдзи») и, наконец, Мидори, героиня повести «Такэкурабэ» (1895). Эта повесть считается лучшим произведением Итиё и вместе с тем одним из самых значительных произведений всей новой литературы. В момент появления ее горячо приветствовали все крупнейшие критики того времени – Мори Огай, Такаяма Тёгю, Кода Рохан. Содержание ее представляет собою образец искусства превращать самый обыкновенный жизненный материал в художественное произведение. Обстановка, или, вернее, фон повести – прославленная Йосивара, этот веселый квартал Токио, с его сотнями домов-клеток, где по вечерам при ослепительном блеске бесчисленных фонарей выставляются для выбора проходящих мужчин разряженные женщины – ойран, как их называют в Японии. Одна из этих ойран, гремевшая в то время в своем квартале, взяла из деревни на воспитание свою маленькую сестричку, четырнадцатилетнюю Мидори. Писательница рисует всю окружающую жизнь, существование всех тех, кто живет и кормится вокруг Ёсивара и благодаря ей. Вокруг хорошенькой, веселой девочки – мальчики-подростки Масатаро, Тёкити и Синдзё, жестоко соперничающие друг с другом. Мидори сначала склоняется на сторону одного из них – Масатаро, но, пробужденная неожиданно от своего девичьего неведения, замыкается в самой себе и постепенно отдаляется от него, сближаясь с другим – Спидзё. Очарование повести заключается в простой и в то же время проникновенной обрисовке душевной жизни девочки-подростка; социальный смысл ее – в искусно показанной, без всякой нарочитости и навязчивости, нависающей над головой девочки обреченности: в показе постепенно складывавшейся неумолимой мрачной судьбы.
Все эти три ветви японской прозы того времени: «идейная повесть» – Бндзан и Кёка, «литература глубин» – Рюро, «психологическая повесть» – Итиё – при всех своих различных устремлениях все же проникнуты единой основной тенденцией того времени: духом романтизма. Бидзап и Кёка дают столкновение индивидуума с обществом, рисуют личность, подавляемую окружающей средой, но делают это не в плане холодного, равнодушного показа, объективного описания, а с чисто романтическим воодушевлением. Как ни реален на первый взгляд полицейский в «Ночном обходе», все происшествие, ясно, притянуто для осуществления чисто романтического замысла: коллизии любви и долга. Тот же романтизм ощущается и у Рюро. Берущиеся им происшествия, как, например, – отравление свекра, если даже оставить в стороне нарочитую необычность сюжета, трактуется в таких повышенных, драматических тонах, что элементы быта отступают на задний план. То же ощущается и у Итиё. Ее, казалось бы, такой отчетливый реализм овеян такой поэтической общей атмосферой рассказа, согрет таким теплым чувством, чго опять-таки элементы быта значительно стушевываются. Отпечаток романтизма лежит на всех произведениях этих авторов.
Однако более всего этот романтизм проявляется в произведениях Идзуми Кёка. Кёка однажды уже выступал в качестве основателя «идейной литературы». Однако этот жанр был, по-видимому, чужд его писательской индивидуальности: своей последующей известностью и огромной популярностью он обязан больше всего своим фантастическим рассказам и повестям. Истинная сфера его, где он чувствует себя свободным, – чудесное, таинственное, фантастическое. Он с любовью и упоением погружается в него и посвящает ему наиболее сильные свои произведения. При этом источник такой склонности у него не религия, но мистицизм, но прежде всего поэтическая романтика. Поэтичность – вот основое качество, которым должен для него обладать сюжет, романтичность – таково второе требование, предъявляемое им ко всему целому. Эти свойства сохраняются даже в тех его вещах, которые слывут под именем реалистических. Таков, например, «Цуя-монога– тари» – рассказ написанный им в наиболее реалистических тонах. В нем выведен некий художник и куртизанка из Ёсивара. У них – поэтический сентиментальный роман. Но у художника есть невеста, и он привык к мысли, что ему придется найти в ней свою жену. И вдруг ее выдают замуж за другого. Художник – в гневе; назло всем он на деньги своего дяди выкупает из Ёсивара свою любовницу. В связи с этим у пего происходит бурное объяснение с дядей, он подвергается насмешкам со– стороны счастливого соперника. Его любовница не может этого снести: она решает отомстить за своего возлюбленного и убивает обидчика, отнявшего у него невесту, а затем умерщвляет и себя. Художник, весь в слезах, ее кровью рисует на ширме ее портрет. Нетрудно увидеть, что реализм этого рассказа подчинен, весь исходит из чисто мелодраматического замысла, и все отличие этого рассказа от других произведений Кёка только в том, что в нем нет чудесных персонажей и таинственных происшествий. Характерным образчиком именно таких сюжетов может служить рассказ «Мудрец из Коя» («Коя-но хидзири»), изданный в 1900 году.
Содержание его следующее.
Один молодой монах из монастыря Коя, странствуя по Японии, оказался однажды в горах. Местность была дикая, дороги не было, кругом было пустынно. До этого монах на пути повстречался с одним торговцем лекарствами, который обошелся с ним грубо и дерзко. Оказалось, что этот самый торговец заблудился в горах. Монах отправился разыскивать его, но заблудился и сам. Блуждая по горам, он к вечеру набрел на какой-то домик, в котором оказалась какая-то удивительная красавица. Монах попросил у нее ночлега, на что красавица согласилась. Перед тем как отойти ко сну, монах решил пройти к речке, протекавшей в небольшой долине, и искупаться. Но вслед за иим явилась красавица и стала его обольщать. Оказалось, что это волшебница, обольщающая и превращающая поддававшихся ее чарам в животных или птиц. Незадолго до этого в ее руки попал заблудившийся торговец н был превращен ею в лошадь. Эту лошадь красавица отослала со своим стариком слугой в ближайшее селение для продажи. Монаху удалось не поддаться чарам красавицы, и наутро он отправился в дальний путь. Однако по дороге образ красавицы снова предстал перед ним, и он готов был повернуть обратно. Как раз в этот момент он повстречался со стариком слугой, возвращавшимся из города, и узнал от него все...
Кёка обычно склонен к трагическому. Рассказы его большей частью считаются очень печальными; он стремится исторгнуть у читателя слезы.
Достаточно мрачен тон и у писателя, обычно противопоставляемого Кёка, – Огури Фуё (1874—1926, Фуё – литературный псевдоним). Правда, сюжеты у него заимствуются из реальной действительности и воспринимаются более трезво. Но в стремлении всячески сгустить краски он не отстает от Кёка.
Лучшим произведением Фуё считается повесть «Рэмбо нагаси» (1898). В ней повествуется о несчастной судьбе двух любящих: юпоши-музыканта Хата, студента Музыкальной академии, и молодой девушки о-Йо, также обучающейся музыке. Их связь становится известной, и оба изгоняются из школы, где они живут в пансионе. Очутившись на улице, без всяких средств, они принуждены зарабатывать на жизнь уличной игрой. Не привыкшая к такому образу жизни о-Йо заболевает, а Хата бродит по улицам с другой группой уличных музыкантов. Хата, удрученный всеми этими несчастьями и соблазняемый новыми товарищами, в отчаянии предается разгулу. Он кутит в веселом доме, забыв о больной о-Йо и о том, что у него нет денег для расплаты за кутеж.
Его же возлюбленная, тщетно прождав его, больная поднимается с постели и идет его разыскивать. От одного из товарищей Хата она узнает, где он и что ему нужны деньги. Она уже готова на самую тяжелую жертву, по в самый последний момент ее удерживает старик рнкша, рассказывающий о такой же участи своей дочери, и уговаривает ее обратиться к своим родителям. О-Йо слушается его совета, но ее семья уже не может ей помочь – отец ее, потрясенный поступком дочери, стал пить, бросил дом и поступил сторожем в игорный притон. Мать же едва добывает себе на жизнь, торгуя на улице всяческой снедью. Коротко говоря, о-Йо нс находит своей семьи и, сознавая, что она является виною ее распада, хочет покончить с собой... Ее, однако, замечает полицейский и отводит в участок. Здесь она находит своего старого опустившегося отца, арестованного во время облавы, проведенной полицией в игорном притоне.
Однако в дело вмешивается хозяин игорного притона – Гэндзи, который из благодарности к старику, не выдавшему владельца заведения, берет о-Йо и ее младшую сестру к себе. Но тут ему самому приходится плохо: члены банды громил, связанные с его притоном, шантажируют его, требуя денег под угрозой выдать его. Гэндзи, не имея средств, уговаривает о-Йо продать свою сестру в веселый дом. Та отказывается, по он настаивает, и, не зная, что ей делать, совершенно разбитая о-Йо кончает с собой. Хата же остается бездомным музыкантом – скитальцем по чужим дворам.
Сентиментальная струя, присутствующая у всех главнейших писателей этих лет, существует рядом с другой, так же ясно ощущаемой во всех разветвлениях повествовательной прозы. Эта вторая струя – психологизм. Требование «всматриваться в жизнь, в ее глубины» могло быть понято – и было действительно понято рядом писателей – как требование раскрытия душевного мира людей того времени, тем более что сама эпоха с ее сложным переплетом действующих факторов – европейских, национальных, индивидуалистических, социальных – создавала все предпосылки для очень сложных психологических переживаний. Поэтому, строго говоря, у всех авторов эпохи в той или иной мере это психологическое задание, как существенный фактор творческой работы, налицо. У одних только оно – сочетание с другими заданиями, у некоторых же – как самостоятельное, как самоцель. Очень ярко это задание проявлено у Хигути Итиё, причем оно здесь настолько господствует над всем прочим, что многие критики склонны даже все творчество писательницы относить к жанру психологического романа («синри сёсэцу»). Однако с самой большой силой этот психологизм проявился, и притом сверх всякого ожидания, не у современника, а у писателя, корнями своими уходящего в предшествующую эпоху, у Койо.
Нужно сказать, что отношение молодого поколения к двум признанным столпам недавней литературы Койо и Рохан было очень недоброжелательно. Их произведения Подвергались переопенке; их стали находить неглубокими, чисто внешними, исполненными отголосками старой, феодальной, развлекательной литературы. Новому поколению, ищущему прежде всего глубины и серьезности, жаждущему видеть в литературе отражение и трактовку тех проблем и переживаний, которыми были заняты умы и сердца, произведения Рохан и особенно Койо ничего не давали. Отсюда – клич молодой критики: «Хороните Рохан и Койо!»
И вдруг одно время совсем было умолкнувший Койо в 1896 году, наперекор всем хоронившим его, выпускает новый роман. «Много чувств, много горестей» («Тадзё такой») и сразу повертывает к себе общественное внимание.
Разумеется, от Койо трудно было ожидать поворота к «идейной литературе»; легче всего ему было перестроиться на психологический лад. Крупный же талант, которым Койо, бесспорно, обладал, сделал свое дело: «Много чувств, много горестей» сразу занял положение признанного шедевра психологического романа.