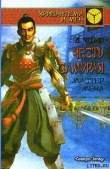Текст книги "Очерки японской литературы"
Автор книги: Николай Конрад
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Рэнга представляет собою любопытный продукт соединения хэйанского формального поэтического искусства и камакурских вкусов. При сложении этих «нанизывающихся» стихотворений поэты Муромати пользовались формами и приемами традиционных танка: так же слагалось «верхнее» полустишие – в три строчки (5—7—5), и «нижнее» – в две строчки (7—7), только первое в этом случае слагал один автор, второе – другой, затем первый (или третий) присочинял к нижней строфе – к окончанию – другое начало, а второй – к этому началу другое окончание, и так дальше без особого ограничения в количестве строф. Таким образом, получались часто забавные, часто неожиданные сплетения различнейших поэтических образов. Это развлекало, это забавляло, это услаждало самураев при дворе Асикага. Такое поэтическое «нанизывание» одних стихов на другие являлось любимым времяпрепровождением в очень широких кругах самурайского общества. То, что изредка делали хэйанцы в шутку, самураи Муромати делали всерьез. И они сумели поэтому создать из этой забавы особый жанр, отличающийся своеобразной прелестью и художественностью.
Кёгэн является первым в Японии как следует сформированным образцом комедийного жанра. Под названием «кёгэн» разумеются небольшие бытовые пьески, главным образом осмеивающие какой-нибудь всем хорошо известный тип тогдашнего общества, вроде недалекого умом феодала, хитрого слуги, проводящего его, шарлатанов– монахов и т. п. Кёгэн заимствовали материал из самой жизни, оформляли в драматическом виде наблюдаемые всеми жизненные перипетии, и все это – в преломлении иногда сатирического, иногда добродушного юмора.
Однако как ни интересны сами по себе эти рэнга и эти кёгэн, все же и не в них центр литературы Муромати. Ос-новное явление этой литературы, основной представитель ее, впитавший в себя все лучшее, все самое ценное, что в культуре Муромати было,– это драматический жанр, лирические пьесы театра Но, известные под именем ёкёку. Если в литературе Муромати есть что-либо прямо адекватное всей эпохе в целом, то этим будет именно Но. По Но можно понять эпоху, проникнуть в ее сокровенный дух; и в то же время только через эпоху можно подойти надлежащим образом и к Но: без знания ее не понять всей художественной ценности и сильнейшего очарования, скрытого в этих лирических пьесах.
1925
ЛИРИЧЕСКАЯ ДРАМА
I
Эпоха Муромати, правление сёгунов Асикага ознаменовалось событием для истории японской литературы первостепенной важности: в эти времена впервые за время существования японской художественной литературы появился некий особый литературный жанр, который по большинству его формальных признаков следует отнести не иначе, как к произведениям драматическим. Развитие приемов драматической обработки повествовательного материала – с одной стороны, и сильнейший расцвет театральных форм – с другой, своим соединенным воздействием обусловили появление на свет таких художественных произведений, которые как по своим внутренним свойствам, так и по внешней судьбе с полным правом могут именоваться театральными пьесами. Эти пьесы – так называемые ёкёку, те самые, что в соединении с музыкальным, хореографическим и вещественным оформлением образуют знаменитый в Японии и хорошо известный в Европе театр Но.
Этот первый в Японии драматический жанр в эпоху Муромати не только создался: под эгидой просвещенных меценатов – сёгунов Асикага, особенно Ёсимицу (1368– 1394) и Ёмисаса (1449—1472), он вырос, развился, выработал свои классические формы и – в них застыл. Конечно, с падением режима Асикага искусство Но не погибло; оно продолжало культивироваться и далее, как культивируется и в настоящее время. Однако история образования, роста, формирования Но – с Асикага закончилась. Дальше идет уже история жизни Но как вполне законченного формального жанра. Несомненно, эта последующая жизнь не могла не внести тех пли иных изменений и в само искусство: как ни прочна была традиция, со сменой поколений она должна была, может быть, н очень незаметно, трансформироваться. И такую трансформацию – известное обновление, переработку, если угодно – развитие, конечно, подметить можно. Японские исследователи нередко насчитывают целых четыре этапа в жизни Но: 1) период созидания, 2) период развития, 3) период Момояма и 4) период Токугава. И все-таки это не имеет особого значения для самого театра Но как такового. И если не имеет особого значения для Но как театрального жанра, тем менее это касается Но как литературной формы, то есть ёкёку. Пьесы – самый текст, с присущим ему стилем и строем, принял вполне устойчивую форму еще в руках Сэами и в этой форме держался все время и дальше.
Правда, история ёкёку говорит о большой редакторской работе, произведенной в годы Мэйва (1764—1772) Мотоакира – XV маэстро Кандзэ, то есть пятнадцатым наследственным представителем династии исполнителей Но из рода Каннами (отца) и Сэами (сына). Мотоакира предпринял пересмотр текстов пьес, причем руководствовался следующими соображениями:
«Искусство наше началось с Канъами, получило завершение с Сэами, стало передаваться с Онъами и существует уже свыше трехсот лет. Однако за это время кое-что упущено, кое-где появилось немало ошибок.
Во времена Сэами пьес было очень много, и исправлять их было некогда. Поэтому он оставил после себя только записи текстов и нот и указал своим потомкам все это выправить.
Ныне я, Мотоакира,– хоть и неразумен, но берусь за выполнение воли предков. Упущенное восстанавливаю, ошибочное исправляю; то, что существует теперь, но не согласуется с древпим смыслом, опускаю; пьесы упущенные или ни разу не исполнявшиеся, – если только они согласуются с древним смыслом,– добавляю... и т. д.» [1].
Работа Мотоакира хорошо известна в истории ёкёку и фигурирует под названием «Мэйва-но кайсэй», «исправление гг. Мэйва». Тексты, «исправленные» им, играют некоторую роль, но решающего значения не имеют. Все это «исправление» вызвано теми же стимулами, которые вообще действовали в известной части токугавского общества. Представители так называемой «национальной науки», ревнители «истинно японского» стремились всяческими средствами и путями вызвать к жизни, восстановить то «древнее», которое, по их мнению, было подавлено чужеземным, в первую очередь – китаизмом, с покровительствующим ему сёгунским режимом. Так Мотоори отряхнул «пыль веков» с «Кoдзики» и представил эту историкомифологическую книгу древности в таком виде, которым он надеялся привлечь к ней общественное внимание. Мабути проделал то же со знаменитым памятником древней поэзии – «Манъёсю». Целый ряд продолжателей этих великих исследователей положил немало трудов на восстановление в прежнем блеске других памятников древности. Иначе говоря, период Токугава характеризуется усиленной работой над «восстановлением» и «очищением» от позднейших наслоений наследия отцов. И труд Мотоакира, по-видимому, следует рассматривать сквозь призму именно этого движения. Он вызван не столько действительной необходимостью, сколько общими тенденциями века. И очень характерно, что тексты «Мэйва», то есть самые «подлинные» по замыслу редактора, не сыскали себе популярности: еще во времена самого Мотоакира опять вернулись к прежней редакции. Таким образом, то положение, что форма ёкёку не только создалась, но и застыла в эпоху Муромати, остается, несомненно, истинным.
Все это еще более усиливает значение ёкёку времен Асикага: в этих пьесах мы сталкиваемся с любопытпым образцом вполне законченного – как формально, так и исторически – литературного явления, обладающего уже хотя бы по этому одному огромной теоретической и историко-культурной значимостью.
II
Как было уже сказано, ёкёку – первый в Японии драматический жанр. До них драмы как таковой в Японии не было. И создалась эта первая драма в результате скрещивания различнейших влияний, идущих с разных сторон.
Весь строй ёкёку развился прежде всего из тех, иногда довольно устойчивых, форм драматизации повествова-тельных произведений, которые так процветали в эпоху Асикага. Эпоха эта, жившая в значительной мере реминисценциями, усиленно оглядывавшаяся на прошлое, любовно его вспоминавшая и идеализировавшая, с восторгом внимала рассказам о героической поре жизни воинского сословия. «Героическая сага» процветала. Сказаниям о величии и несчастьях Тайра, о победах и поражениях Тайра и Минамото, всему тому, что в полуисторической, полуромантической форме было закреплено в хрониках-эпопеях «Хэйкэ моногатари», «Гэмпэй сэйсуйки», «Тай хэйки», «Гикэйки», «Сога моногатари», внимали с волнением и любовью. И на этой почве и развились первые попытки драматизации повествовательного материала: в такой форме рассказ становился еще более занимательным, еще более действенным. Это является первым источником ёкёку. Второй идет с другой стороны: от театра как такового.
Если до ёкёку в Японии не существовало драматической литературы, то сказать того же о театре никоим образом нельзя. Элементы театрального действа в достаточной мере заключаются уже в так называемых кагура – древнейших священпых ритуалах религии Синто. К театру же относятся и те многочисленные и разнообразные виды «песен-плясок» (кабу) и «песен с музыкой» (каё), которые к эпохе Асикага распустились таким пышным цветом. Некоторые из них, как, например, «Эннэн-но-маи», отличались уже довольно развитым драматическим элементом. И эти самые кабу и каё и наложили свою печать на ёкёку; наложили в том смысле, что предопределили ход формирования Но как театрального представления на основе определенного текста; а этим самым заставили авторов придать уже самому тексту подходящий для такой театральной формы и удобный для сценического воплощения вид. Несомненно, что драма как таковая, то есть ёкёку, своими формами обязана прежде всего театру своего времени.
Таким образом, основными действующими факторами, создавшими форму ёкёку, были: по линии литературной – драматизация повествовательных произведений, преимущественно сказаний всякого рода; по линии театральной – те театральные жанры, которые обозначаются общими собирательными терминами: кабу и каё.
Для полного обрисования вопроса о происхождении первой японской драмы следует упомянуть еще о двух факторах, влиявших на создание Но в целом, то есть и как пьесы, и как театра. Первый из них – японский: народные театральные представления, бывшие, строго говоря, особыми увеселениями в дни деревенских нразднеств. Второй – китайский: китайская драма и театр. Первый фактор выступал преимущественно в виде наиболее сложного явления в этой области: так называемого, дэнгаку; второй – в виде знаменитой драмы эиохц Юаньской империи. Впрочем, влияние этой последней сильно оспаривается: существуют убежденные сторонники этого влияния, есть и горячие противники его'. Так или иначе, если вопрос об известном влиянии дэнгаку давно уже ясен, вопрос о воздействии юаньской драмы пока все еще остается окончательно не решенным.
III
История ёкёку может похвастаться таким крупным автором, который может составить славу любой драме, любой литературе. Этот автор знаменитый Юсаки Мотокиё в монашестве – Сэами (1374—1455), каковым именем он преимущественно и обозначается; второй представитель до наших дней процветающей династии мастеров Но из рода Кандзэ. Сэами – величайшая фигура в истории Но и один из великих деятелей японской литературы и театра в целом, создавший новые формы как в области первой, так и в сфере второго.
Сэами прежде всего, конечно, актер-исполнитель тех театральных представлений, которые процветали при дворе сёгунов Асикага; при этом актер искуснейший, подлинный «мастер» своего искусства. Затем он – автор тех пьес, которые им самим и его «труппой» – исполнялись; иными словами, он – автор ёкёку, и притом тех, которые до сего времени считаются самыми лучшими, совершенными по форме. В-третьих, Сэами – композитор, автор той музыки, которая является неотъемлемой частью представления. Далее, он – автор хореографической части Но, то есть тех выразительных движений, часто граничащих с танцем, а временами прямо в него переходящих, которые сливаются в единый комплекс с музыкой. Другими словами, Сэами – автор не только ёкёку, но и Но, то есть всего жанра в целом[2]. Но и этого мало: Сэами – теоретик своего искусства, создавший целую философию Но, обрисовавший их эстетику и психологию; указавший, как учиться этому искусству, как подготовлять актера, как писать пьесу. Роль Сэами в области Но – всеобъемлюща; она охватывает решительно все стороны этого жанра, как в его драматической, так и в театральной области. Профессор Игараси готов поставить его в один ряд с Вагнером: «На всем Востоке и Западе, во всем прошлом и настоящем лишь только один человек может быть сравниваем с Сэами: Вагнер» – говорит он. Если в этих словах многое от излишнего преклонения перед любимым героем, то в одном Игараси прав: в лице Сэами мы имеем несомненного гения, и гения, действительно, в духе Вагнера. Классические формы ёкёку, каковые прошли незыблемо чрез века и сохранились до настоящего времени,– создание рук этого основоположника японской драмы. Творчество всех прочих авторов ёкёку всецело укладывается в то русло, которое проложил Сэами. Большинство же Но – пли непосредственно им самим написаны, или же им обработаны (как, например, многие из пьес его отца – Канъами). С него же установился уже непреклонно факт обычного для позднейших времен соединения в одном лице авторов-пнсателей и актеров-исполнителей, сочетание, ставшее для Японии совершенно закономерным и, по существу, единственно признаваемым.
IV
Европейские переводчики (например, Н. Пери) пьес ёкёку, часто именуемых Но, обычно считают, что пьесы, известные под этим названием, по своей структуре являются как бы двухактными; соответственно этому они и распределяют в своих переводах все сцены, из коих слагается действие. Японские исследователи этого рода пьес либо вообще не занимаются вопросом о драматической их композиции, либо говорят о том же. К числу таких исследователей принадлежит, между прочим, профессор Игараси, который утверждает прямо: «Суть драматической обработки пьес этого рода заключается в двухактной композиции. Правда,– оговаривается он,– существуют и одноактные пьесы – вроде «Цурукамэ»[3]. В старинных пьесах, до Канъами,– двухактная конструкция отчетливо не выражена. Есть пьесы вроде «Мацукадзэ», где главный персонаж действует без перерыва... Но так или иначе,– заканчивает Игараси,– в общем не подлежит ни малейшему сомнению, что двухактная структура составляет основной прием драматической обработки Но»
Оснований для такого вывода как будто очень много. Тот же Игараси для подтверждения своего взгляда обращается к содержанию пьес, анализирует это последнее и показывает, по его мнению, достаточно убедительно, что по развитию своего действия пьесы Но явно распадаются на две части. В самом деле, возьмем для примера несколько ёкёку.
Вот пьеса, называющаяся «Лук и стрелы Хатимана» («Юми Явата»); она принадлежит к категории «мистери– альных Но», написана Сэами и считается одной из наиболее типичных по своему драматургическому складу. Содержание ее,– в том виде, как оно представляется читателю,– сводится к следующему.
Храм, посвященный богу Хатиману, празднует свой ежегодный «престольный праздник». В этот день обычно совершаются особые торжественные богослужения и религиозные церемонии. Для присутствия и участия в них из дворца посылается особый посол.
Посол этот, вступив в ограду храма, замечает старца – по виду богомольца, который идет ему навстречу. После короткого обмена несколькими фразами старец подает послу лук, завернутый в парчовую оболочку, и просит поднести его в дар государю. В ответ на изумленные вопросы посла старец объясняет, что «лук из тутового дерева» и «стрелы из чернобыльника» со времен глубокой древности почитаются за эмблемы и символы благополучного управления монархом его страною и что этот дар послужит и для ныне царствующего государя залогом мирного и счастливого правления. К тому же, поясняет старец, он поступает так не по собственному почину, но по повелению самого Хатимана, и заканчивает свою речь сообщением, что он сам не благочестивый паломник, пришедший на празднество, но прославляемый здесь же бог Такара. При этих словах чудесный старец исчезает из глаз ошеломленного посла и появляется снова уже в своем истинном, божественном облике. Он исполняет священную пляску[4], восславляет страну Ямато и сулит ей вечное процветание, равно как и ее монархам.
Это содержание, действительно, как будто распадается на две части: с одной стороны, все действие со старцем до его чудесного исчезновения, с другой – действие с богом Такара. Двухактная структура как будто бы здесь несомненна.
Возьмем еще одну пьесу, тоже принадлежащую Саами,– из цикла «героических»: «Санэмори». Действие этой пьесы развертывается следующим образом.
Некий буддийский вероучитель, одушевляемый проповедническим рвением, предпринимает путешествие и обходит всю страну, всюду проповедуя святой закон Будды. Во время своих странствований он попадает на знаменитое место старинной битвы, на равнину Синохара. Здесь он задерживается, изъясняя окрестным поселянам тайны Священного писания. В числе наиболее ревностных его слушателей оказывается один старик, не пропускающий ни одного его поучения и пламенно внимающий каждому его слову. Проповедник обращает на него внимание, заговаривает с ним и – о, чудо! – открывает, что видит и слышит этого старика лишь он один; никто из прочих, приходящих слушать его поучения, и не подозревает о существовании какого-то старика. Пораженный вероучитель обращается к таинственному старцу с просьбой открыться, кто он таков. Тот после некоторого колебания наконец объявляет, что он – дух умершего на этом поле сражения древнего воина; что он под тяжестью своих прегрешений не знает после смерти покоя и принужден скитаться все еще в этом суетном мире; ныне же, услыхав слова проповедника, он возымел надежду спастись через веру и покаяние и просит теперь помочь ему в этом своею молитвою. Объяснив все это, старик исчезает бесследно.
По прошествии некоторого времени проповедник начинает совершать моления за упокой мятущейся души покойного воителя, и перед ним предстает он сам, в своем подлинном облике – героя Санэмори. Санэмори благодарит странствующего вероучителя за его молитвы, открывшие ему врата обители покоя, и в знак признательности рассказывает ему о битве при Синохара и о своих подвигах в ней, с тем чтобы после этого рассказа проститься с ним п с этим миром уже навсегда.
Общая структура этой пьесы очень сходна с предыдущей: то же явное разделение на две части, с героем в одном облике – в первой и в другом – во второй. Таким образом, пьесы и этого типа могут быть названы двухактными.
Возьмем еще одну пьесу – «Баба-яга» («Яма-уба»), принадлежащую Дзэнтику и относящуюся к категории пьес «демонических». Ее содержание развертывается в следующем виде.
В столичном городе проживает знаменитая танцовщица, особенно славящаяся своим искусством исполнять танец «Бабы-яги» и в связи с этим так «Бабой-ягой» и прозванная. Как-то раз она решает предпринять благочестивое путешествие на поклонение в монастырь Цзэнкодзи; пускается в путь и попадает в безлюдные горы. Здесь ей навстречу попадается некая женщина, которая заявляет, что она знает ее, слыхала про ее искусство в исполнении пляски «Бабы-яги», и просит ее показать теперь эту пляску. Танцовщица не расположена плясать здесь, в пустынных горах, но из страха перед неведомой горной женщиной соглашается. Она готова уже начать танец, как та ее останавливает и предлагает ей иное: дождаться ночи, отойти в глубь гор и приняться за пляску, когда взойдет луна. Тогда и она сама покажет эту пляску, ибо она и есть настоящая, а не только названная Баба-яга.
С наступлением ночи танцовщица готовится к танцу. Появляется Баба-яга в своем ужасном обличье, говорит о своей судьбе; потом принимается за свою неистовую пляску и в диком вихре пропадает из вида.
Структура этой Но, в общем, аналогична первым двум: такое же разделение роли главного персонажа на две половины, сначала – в одном облике, затем – в другом. Поэтому ничто не препятствует и «Бабу-ягу» отнести к двухактным пьесам.
Пьес, действие которых развивается приблизительно по плану вышеприведенных, очень много; в сущности говоря, этот план является своего рода трафаретом или образцом для построения многих ёкёку. Поэтому, если исходить из него, в самом деле придется признать, что, по крайней мере, для очень большого числа Но двухактная схема оказывается действительной.
На такое же заключение могут натолкнуть и еще некоторые соображения, связанные на этот раз уже не столько с содержанием или планом пьес, сколько с техническими обозначениями некоторых их элементов. Так, например, существует два особых термина для роли главного актера (ситэ – протагониста): выступая в пьесах типа вышеприведенных – в двух разных обликах, он в первом случае носит папмеповапие маэдзитэ, то ость «первоначальный протагонист'), во втором же – нотидзитэ, то есть «последующий протагонист». Этим самым сама техническая терминология как будто отражает ту же двойственную структуру пьес: «маэдзитэ» в первом акте, «нотидзи– тэ» – во втором.
Подкреплением тех же соображений служит и термин накаири. Термин этот, встречающийся как в программах, так и в самых текстах пьес, означает буквально «вход внутрь», то есть уход главного актера со сцены и вхождение его в артистическую уборную. Делается это для того, чтобы иметь возможность приготовиться к выступлению в новом облике: переодеться, перегримироваться, отчасти отдохнуть и т. п. Выходит поэтому, что накаири образует, с одной стороны, нечто вроде антракта, с другой – некую грань в развитии действия: до накаири– первый акт, после накаири – второй.
Таким образом, ряд существенных моментов, извлекаемых из самой области Но, свидетельствует, что в большинстве случаев мы имеем дело как будто с двухактной схемой. И тем не менее с этим согласиться трудно по целому ряду причин.
Начать с того, что очень большое количество пьес никак нельзя с такой же легкостью, как вышеприведенные, разделить по содержанию на два акта. К таким пьесам нужно отнести прежде всего добрую часть всех бытовых и романтических ёкёку. Сюда же относится и целый ряд пьес героического, мистериального и демонического характера. Для образца возьмем одну из знаменитых романтических ёкёку «Юя», принадлежащую самому Сэами.
У могущественного и великолепного Мунэмори есть любимая наложница по имени Юя. Она родом из далекой провинции, где до сих пор проживает ее старая мать. Она – все время при своем повелителе, в столице; мать же – одна в далеком родном селенье. Юя увеселяет своего властелина, мать тоскует в одиночестве. От тоски по дочери она заболевает. Дочь стремится к ней, но Мунэмори не пускает: он не в состоянии расстаться с любимой наложницей ни на миг. Наконец мать, которой становится все хуже и хуже, посылает в столицу свою верную служанку с письмом. Дочь со слезами читает жалобы матери и ее мольбы о приезде, снова просит Мунэмори отпустить ее и снова получает отказ: Мунэмори непреклонен. Как раз теперь Юя ему нужна больше, чем когда-либо: предстоит увеселительная поездка в храм Киёмидзу – полюбоваться там цветущими вишнями. Юя повинуется, но по прибытии в храм обращается к милосердной Капнон с жалобами на свою участь и с мольбами о здоровье матери. Однако и это ей не удается сделать без помехи: властелин требует ее присутствия на празднике. Тут она слагает такую печальную танка, что трогает наконец сердце Мунэмори: он дает ей разрешение уехать. Юя, вне себя от радости, возносит благодарения Каннон и собирается в дорогу.
В этой пьесе деление на две части не столь ясно, если оно вообще существует. Главная героиня, Юя, выступает на протяжении всей пьесы в одном и том же облике. Никакого «входа внутрь», накаири, в прямом значении этого слова, для нее не требуется. Накаири здесь не мотивируется теми же соображениями, что в пьесах типа рассказанных выше. Если действие как-нибудь и раскалывается на две части, то только в общесюжетном, но не в чисто композиционном отношении. Поэтому вопрос о двухактной схеме в приложении к пьесам типа «Юя» следует рассмотреть особо.
Еще менее приближается к двухактной схеме одна из бытовых ёкёку «Река Сумида» («Сумидагава»), являющаяся типичнейшим представителем этого рода пьес. Содержание ее рисуется следующим образом.
Перевозчик на реке Сумида объявляет, что сегодня на том берегу будет совершаться большое богослужение, и просит всех пройти и помолиться вместе с окрестными жителями. По дороге из столицы показывается путник и просит перевезти его на тот берег. Перевозчик уже готов взяться за весло, как замечает толпу, идущую по дороге и окружающую какую-то женщину. От путника он узнает, что это – безумная, идущая из самого столичного города. Перевозчик задерживает свою лодку и поджидает эту безумную. Та подходит к берегу и в горьких словах сетует на свою судьбу, судьбу матери, потерявшей пропавшего без вести единственного ребенка и тщетно его всюду ищущей. После переговоров перевозчик берет и ее к себе в лодку. Лодка едет по реке. На том берегу виден могильный курган и сходящийся к нему народ. Путник заинтересовывается этим и начинает расспрашивать перевозчика. Тот рассказывает, что этот курган – могила одного мальчика, год тому назад подобранного умирающим здесь, на дороге, где его как больного бросили проходившие работорговцы. Местные жители нашли его, но спасти не могли: им оставалось только похоронить его. И вот как раз сегодня, в годовщину его смерти, собираются совершать заупокойную службу. К концу рассказа лодка пристает к берегу; все выходят, кроме безумной матери. Она слышала рассказ перевозчика и объята ужасным подозрением. Расспросы подтверждают ее догадки: перед ней могила ее сына. Она бросается к могильному холму и начинает призывать будду Амитаба. Все присутствующие ей вторят. Вторит и ветер, и вся природа. И вдруг средь общей молитвы слышится детский голосок, также призывающий Будду. Мать узнает голос ребенка и на мгновенье видит его тень. Это – последнее, что им было дано. Сейчас же все исчезает.
В этой пьесе несомненная наличность не двух, но трех моментов: действие на одном берегу (перевозчик, путник и женщина), действие на реке во время переправы (перевозчик, путник и женщина) и действие на другом берегу сначала у лодки, потом у могилы. Разбить всю пьесу на два акта не представляется возможным.
Еще менее возможно разбить на два акта и действие «Кагэкйё». С сюжетной точки зрения действие в ней слагается из целого ряда моментов:
1) Путешествие дочери Кагэкйё в Хюга, 2) сцена у шалаша слепого воина, 3) сцена на дороге с поселянином, 4) новая сцена у шалаша, 5) сцена с вышедшим из шалаша Кагэкиё.
Таких пьес, которые никак не укладываются в двухактную схему, настолько много, что вполне позволительно сомневаться в правильности утверждения Игараси. Сомнения эти возникают даже без всякой зависимости от проверки правильности самого метода, с которым оперируют подобные исследователи Но при постановке и решении вопросов композиции, проверки – могущей привести к отрицательным результатам.
Путеводную нить при решении вопроса о композиции Но лучше всего искать у того же, от которого идет вся Теория Но, у Сэами. Этот великий драматург Японии был в то же время превосходнейшим теоретиком своего искусства. У него должны быть и указания по этому поводу.
В самом деле: в своем «Руководстве к творению Но» («Но сакусё») Сэами говорит буквально следующее:
«В «дзё», «ха» и «кю» содержится всего пять частей: в дзё – одна часть, в ха – три части, в кю – одна часть. С момента выхода актера, открывающего действие, начиная со слов его выходного речитатива и кончая пепием,– все составляет первую часть, дзё. После этого идет ха. С выхода главного актера вплоть до его пения включительно – новая часть. Затем следует диалог первого актера со вторым и их пение: это опять новая часть. Затем следует рассказ, танец, пенис: все это – новая часть. После этого идет кю... а всего – пять частей» [5].
Эти слова Сэами имеют огромное и, в сущности, исчерпывающее значение для всего вопроса о композиции Но; следует только должным образом оценить их.
Термины – дзё, ха и кю, употребленные здесь, играют большую роль прежде всего в музыкальной стороне Но: они прилагаются к музыке инструментальной и вокальной. Раскрыть их значение без анализа музыкальной композиции Но нелегко, но скорее всего они служат обозначением известного темпа исполнения. Так, например, некоторые части Но, вроде кусэ («рассказ»), исполняются в разном темпе: сначала – дзё, потом – ха и затем – кю. Даже одна фраза может произноситься или петься в трех темпах, как, например:
Хару-нн (дзё) ау кото (ха) ясуки нару (кю) [6].
Если искать каких-нибудь подходящих обозначений в европейской музыкальной системе, то условно близкими к этим японским (и китайским), по всей вероятности, будут: шойега!о (дзё – сидзукапи), аllegro (ха – сусуми) и ргеstо (кю – хаяки).
Однако, наряду с таким своим употреблением, эти три термина встречаются и в китайско-япопской поэтике, причем в отделе именно композиции, служа обозначением составных элементов трехчастной композиционной схемы для некоторых литературных жанров. В этом аспекте дзё имеет смысл «вступления», ха – «изложения» и кю– «заключения», или более точно – в согласии с буквальным значением самих иероглифов – «предварения» (сюжета), «прорыва» (к основному моменту сюжета) и «стремительного бега» (к завершению сюжета). Сэами в вышеприведенных словах, несомненно, имеет в виду именно такое значение этих терминов.
Такое понимание находит себе подтверждение – и очень веское – в том факте, что Сэами рядом со словами дзё, ха и кю пользуется термином дан – часть (точнее: «ступень»). Этот термин имеет самое широкое применение именно в композиции, служа всегда обозначением отдельной части в композиционном членении произведения. Если так, то композиционная структура Но принимает следующий вид: Но состоит из трех основных больших частей, так сказать, актов или картин; каждый же акт, в свою очередь, распадается на картины или сцены.
I акт (дзб) – одна картина.
II акт (ха) – три картины.
3 акт (кю) – одна картина.
Сэами указывает не только на количественную сторону композиционной структуры Но, но обозначает даже – и очень притом точно – границы и каждого акта (или картины), и каждой картины (или сцены). И насколько такое членение оказывается действптельно драматургическим, показывает простое приложение этой схемы к такой, казалось бы, явно двухактной пьесе, как «Бо Лэтянь».