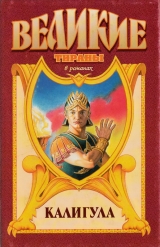
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
«Да о чем же это?» – сказал я себе и никак не мог вспомнить то, что хотел, и не мог понять, почему эта девушка, Акта, дочь Сервилия Кантона, стоит здесь, передо мной, и что ей нужно. Ах, да, любить меня. Но разве это не ее обязанность, любить своего императора?
А если развратничать со мной, то для этого есть другие женщины, более к этому ремеслу приспособленные и лучше умеющие возбуждать во мне желание…
– Акта, а ты сможешь любить меня? – сказал я, сдержав усмешку.
– Да, – еле слышно ответила она, продолжая смотреть не меня не мигая и словно бы не поняв вопроса.
– Ты понимаешь, о чем я спрашиваю?
И снова:
– Да, – судорогой губ на каменно застывшем лице.
Ну да, добродетельная любовь, я вспомнил. Такая,
чтобы не помышляла о богатстве, о славе, об особых привилегиях. И даже чтобы о собственном удовольствии и счастье не думала. По-настоящему, любовь без смысла. И зачем мне это? Теперь я не знал.
Лучше всего было отправить ее домой, к отцу, добродетельному Сервилию Кантону. Возвратить сорванный цветок. Не бросить его к ногам увядшим, но возвратить благосклонно. И сорванный цветок перестанет быть сорванным, потому что получен будет из рук императора. Императорская высшая власть преобразит собственность в подарок. Тем более что не может быть никакой настоящей собственности у того, кто подчинен высшей власти. И даже собственная жизнь не есть собственность – если император не казнит человека, то, значит, он просто дарит ему жизнь.
Лучше было бы отправить ее, а самому отправиться в Рим, чтобы… чтобы править, конечно. Но еще и чтобы удостовериться, что правлю. Последнее я даже не произнес про себя, даже не подумал, а едва только ощутил. И испугался возможной верности ощущения. Стал заставлять себя забыть, и верил, что забыл, и говорил: «Нет, не было». А оно, это ощущение, будто нарочно,! не выявляясь ясно, не облекаясь в помыслы, словно затаившись, продолжало существовать, не позволяя мне отвернуться с равнодушием. Не равнодушно забыть, а равнодушно не помнить.
– Милая Акта, ведь я так люблю тебя. Мы будем счастливы, – произнес я и сам поверил в то, что произнес. Почти равнодушно поверил.
Акта осталась у меня… Казалось, что она пробыла здесь долгие дни. Я гладил ее мраморные плечи, прикасался губами к шее – и не испытывал ничего: ни желания, ни добродетели, ни счастья. Я бы бросил все это и оттолкнул бы ее с презрением, если бы не проклятое ощущение, что там, в Риме… Не избавиться от него хотел и не победить, а вернуть время назад, за мгновение до того, как ощущение явилось. И снова пустить ход времени, но уже без этого.
Мы не покидали шатра, и никто не входил внутрь, а снаружи не было слышно ни единого движения. Ночами меня, как и прежде, мучила бессонница, но я не вставал и не бродил, как раньше, а лежал, полузакрыв глаза, и слушал ночь. Акта лежала рядом, тоже недвижимая, холодная, и, как я ни прислушивался, не мог различить в тишине звук ее дыхания. Будто холодную статую кто-то подкладывал мне на ночь в постель. Все эти дни я не трогал ее, а только прикасался.
Она пела и читала мне стихи, она знала их много. Но мне порой казалось, что, произнося слова, она не понимает их смысла… Но, наверное, в словах не было смысла и ничего понять было невозможно по-настоящему. Были красиво сочетающиеся звуки, хорошо организованные строки, но смысла… нет, смысла не было. Слова, которые не говорили, как нужно жить и что делать. В них столько раз повторялись имена богов и героев, и имена так умело сочетались с не именами, что и те и другие оставались только звуками: герои и боги лишь какими-то названиями, а их деяния – лишь комбинациями слов. Поэты выдумывали жизнь, а не объясняли ее смысл. Не было какой-то главной точки, куда устремлялось бы чувство, слыша гармонию слов. А без этой точки слова походили на изящные сосуды, в которых предполагалось вино, но которого в них, по всей видимости, не было. Поэты словно кричали: «Пейте, оно никогда не иссякнет!» – и человек, прикрыв глаза от удовольствия, представлял, что пьет, что пьянеет и насыщается, и даже как будто пьянел и насыщался, но все равно не утолял жажды. И опять повторял слова, потому что хотел пить.
Прежде я не думал об этом, и только теперь, когда Акта читала мне, когда добродетельная холодная Акта произносила красиво сочетающиеся звуки, я понял, что в сосудах пусто, и утолять жажду воображением больше не хотел.
Еще Акта рассказывала мне об отцовском доме, о сестрах, о коне по имени Минерон, который любил ее и, когда она подходила, приветствовал особенным, только ей предназначенным ржанием и тыкался теплыми губами в ее плечо. Рассказывала о своих играх и проказах и радовалась собственным воспоминаниям.
Как-то так просто получилось – или я забыл ей сказать о запрете, – что однажды она откинула полог шатра и вышла наружу. И я, как во сне, вышел за ней. Была ночь, и на небе сияло множество звезд. Акта радовалась, по-детски подпрыгивая, кружилась вокруг меня. А я, запрокинув голову, смотрел на звезды. Акта приговаривала:
– Ну же, ну же! – брала меня за руку, дергала, приглашая к танцу. Но я не мог, стоял, замерев, и с тревогой глядел на звезды.
Сулла объяснил мне, что их видно отовсюду, с любого конца земли. И видно точно так же, как и мне сейчас, – у каждого смотрящего они всегда над головой: и у императора, и у раба. И смысл этого равенства тревожен и непонятен. И над теми, кто уже сидит в Риме на моем месте, – и над ними те же звезды и точно над головой. И, значит, участь императора и участь раба, возвышение и падение есть одно только случайное сочетание точек, выпавших при игре в кости. Мы взбираемся на вершину власти, падаем в пропасть рабства, гордимся величием и плачем от унижения, говорим, что жизнь выиграна или проиграна. Но на самом деле, как в примере с сосудом, в котором лишь воображаемое вино, мы только представляем себе падения и взлеты и печалимся и радуемся единственно от этих представлений, тогда как на самом деле… Не знаю, что на самом деле. Но стоит поднять глаза к небу, как окажется, что звезды всегда над головой, неизменно. Что бы ты себе ни воображал.
Нельзя поднимать глаза к небу, когда там звезды. Только днем, когда солнце то с одной стороны, то с другой. Только ночью нельзя, ночью нужно спать, а не смотреть на звезды. Или, как Акта, смотреть на них, словно на украшение небес. И радоваться им, как украшению.
Мы выходили и днем, гуляли по окрестностям. Кругом было пусто и голо, и ни одной живой души. Хорошо, что в эти дни солнце светило ярко и трудно было поднять глаза к небу – оно ослепляло. Но даже и не поднимая глаз, я видел за белесой голубизной небесного пространства черноту со множеством белых точек. И тут же видел Рим, мой дворец и людей во дворце, чужих и враждебных. И слышал голос Акты:
– «…и я так любила: сорвешь, подуешь посильней, а они летят, летят. А ты держишь в руке другой и дуешь опять, и те еще не долетели, а эти летят. Я так любила…»
Я смотрел вдаль. Когда смотрел, звук ее голоса исчезал, и она сама, кажется, исчезала тоже. Потом слушал опять. И всякий раз, когда возвращался к ее голосу, во мне нарастало удивление. Самое настоящее и без примеси, отдельное от меня, мое, но висевшее в воздухе рядом. И я просто удивлялся, сам не понимая чему. Оно достигло того предела, когда я стал бояться, что схожу с ума. Голос рядом, пустыня передо мной, удивление, словно висящее между небом и землей – и боязнь сойти с ума. Вот это: пустыня, небо, удивление, голос, и больше никого и ничего. И самого меня нет ни здесь, ни рядом. Такое безумие наступало, и оно было страшнее смерти.
И вдруг безумие мое, как бы споткнувшись перед той чертой, за которой нет возврата, упало навзничь и уже не сумело подняться. Я увидел его лежащим и осторожно, будто боясь потревожить, отошел в сторону.
Сразу же удивление обрело смысл. Я взглянул на Акту, услышал:
– «И когда падали, то не плакали, а вставали и бежали дальше. И всем было весело…»
Услышал и перестал слышать. И сказал себе: «Зачем она здесь?» И тут же: «Почему я здесь?» Ну да, Сулла сказал, что мне нужно разочароваться в счастье. Но разочароваться в счастье – значит: песок, небо, обрывки голоса рядом, а меня нет. Ни меня, ни Рима, ни власти, ни вина, ни женщин, ни содрогания тела, ни крови – особенно той, что била фонтаном от одного только удара Клувия. И Клувия тоже нет. И нет солдат с их тяжелой поступью, когда звук их шагов равен немоте приближающейся ко мне смерти.
Разочароваться в счастье значило принять безумие. И стать бессмертным, потому что безумец не знает о смерти. А если не знает, то ее и нет.
Разочароваться в счастье. Да разве я знаю, что такое счастье! Мне приелись удовольствия, потому что я вполне познал их. От начала и до конца – ведь удовольствия, как и сама жизнь, имеют свой предел. И не со смертью наступает их предел, а много раньше. Настолько, чтобы успеть в них разочароваться. Разочароваться, возненавидеть и впасть в тоску. Попытаться отказаться от них, отнять у них определение счастья.
Но стоит только, пресытившись, уйти от них, как через некоторое время начинаешь тосковать – и опять возвращаешься к ним, возвращая им определение счастья. И если нет такого счастья, то остается тоска, уныние, одиночество. Из этих трех одиночество страшнее всего.
Есть еще семейное счастье, любовь и дети. Но это кому-то дается, а кому-то нет. Дети вырастают и уходят, жена стареет и уже не может соответствовать желанию любви. Она уже не та, которую ты любил, а другая, и хорошо, если сумеешь полюбить эту другую.
А если нет? Снова тоска, уныние, одиночество. И последнее из трех страшнее всего.
– О, боги! – воскликнул я, хотя мне казалось, что только подумал.
Акта вздрогнула и испуганно посмотрела на меня.
– Так ты, значит, можешь любить меня? – спросил я Акту.
Она не поняла, и страх в ее глазах превратился из человеческого в животный. Я на одно мгновение увидел в них самого себя. Только на одно мгновение, как при вспышке. Увидел и ослеп. И бросился вперед, больше от неожиданности, чем желая. Коснулся Акты. Но она, хотя я только коснулся ее, вырвалась и побежала.
Вслепую, только по звуку шагов, я бросился за нею, не видел ее и даже уже не слышал, но зато ясно ощущал исходившее от нее тепло, усиленное еще и движением. И собственное свое тепло, усиленное бегом, я хорошо ощущал. Им нужно было – ее теплу и моему – соприкоснуться и слиться. Почему и зачем, я не знал. Не мог знать, не умел, и незачем было.
Даже если бы я захотел остановиться, то не смог бы этого сделать. Мое телесное тепло стремилось к ее телесному теплу неукротимо. Я не схватил ее, а ударился о ее тело собственным. И повалил ее, и упал на нее. И только потом руки – тоже сами по себе – резкими, неровными и неосознанными движениями, больше судорожно, чем с направленной силой, стали рвать ее одежду, отбрасывать клочья в стороны, как мне кажется, далеко. Уже не было одежды, а руки все рвали, и рвали, и отбрасывали, и не могли остановиться. И я не мог понять, что это уже не одежда, а ее тело, живая теплая плоть, которую я пытаюсь разрывать и отбрасывать. Руки сделались мокрыми, ноздри втягивали запах крови, и я уже ничего не хотел, и мне уже ничего не нужно было, а просто я не мог остановиться.
Наверное, она кричала, не могла не кричать, только я не слышал ничего и ничего не видел. Все тепло ее плоти вошло в меня, и нечему было больше входить – Акта лежала подо мной недвижимо. И сам я, переполненный теплом, де мог пошевелиться и не обладал собственным телом. Но оно обладало мной.
Я вернулся в Рим. Оказалось, было достаточно только открыть глаза.
Да, наверное, меня подняли и несли на руках, а потом на носилках, наверное, смывали с меня ее кровь, и врачи делали все, чтобы я не умер, конечно же не понимая, что умереть я теперь не могу. Но я всего этого не знал и не хотел знать. Не чувствовал и не хотел чувствовать. И помнить все это: пустыню, и Акту, и звезды, и свое одиночество, и свой страх – помнить все это я тоже не хотел. И не помнил.
Рим встретил меня так, будто я не отсутствовал вовсе. То есть даже не встречал. Сам я не чувствовал, что люблю Рим и радуюсь встрече с ним. Но также не ощущал, что его ненавижу. Мне было все равно. Рим перестал существовать для меня – как город, как родина, как символ моей власти. И сама власть больше не казалась мне ни сладкой, ни обременительной, ни необходимой. Она просто была, как был я сам, и могла исчезнуть только со мной. Но разве я мог исчезнуть! Я сам – это было одно только мое тело, оно управляло всем, но не могло управлять самим собой. Только желания – естественные или неестественные, но только они. И больше ничего. И нет вопросов: зачем и почему? что было и что будет? – потому что, кроме желаний тела, больше не было ничего.
Меня снова мучила бессонница. И я опять ходил по ночам, с фонарем или без, и снова видел вокруг грязный разврат, удовлетворение похоти, то есть то же самое, что и у меня, – необъятная власть тела.
Я позвал к себе Суллу и сказал ему:
– Ты знаешь, мой Сулла, оказывается, тело правит мной. И все эти принципы государственности и морали есть один только пустой звук. Все это уже даже не одежды моего тела, оно больше не желает носить одежды, а желает оставаться обнаженным. И пусть о нем говорят все что угодно – ему, телу, все равно.
– Да, император, – отвечал он. – Ему все равно. И это высшая истина и высший закон. Потому высший, что неписаный. И это высшая свобода, без ограничений. Она только тогда истинная, когда без ограничений.
– Но скажи, мой Сулла, разве ты не учил меня иному? Разве ты не говорил мне о моем обязательном бессмертии, о достижении мной божественной сущности? Неужели власть тела есть бесконечность и бессмертие? И божественная суть?
Сулла молчал некоторое время, потом сказал:
– Я этого не говорил.
– Чего этого? – нетерпеливо проговорил я, и мне захотелось его ударить. Я едва сдержался, а он быстро ответил:
– Я не говорил того, что власть тела есть божественная сущность. Но я говорю, что полная власть тела есть путь, ведущий к божественной сущности. Потому что ты должен пройти все человеческое, чтобы сделаться богом. Знать и познать все человеческое, чтобы сделаться богом. Чтобы сделаться богом, тебе должно опротиветь все человеческое. И собственное тело должно опротиветь в первую очередь.
– Уйди, – процедил я сквозь зубы. – Уйди и исчезни, так, чтобы во мне стерлась память о тебе. Иначе тебе больше не жить, потому что мое тело хочет твоей крови. А меня самого нет, и я не могу противиться ему…
В самом деле, власть тела сделалась законом. Я казнил и разорял, совокуплялся с женщинами и мужчинами, выдумывал неслыханные наслаждения и невиданные игры в цирках. Наряжался актером и декламировал или пел с подмостков. И опять казнил, разорял, удовлетворялся. И все равно мое тело не могло насытиться, а желания стали повторяться, и никаких новых желаний оно выдумать уже не могло.
Оно сделалось вялым. Оказывается, силы его имели предел. И наступило время, когда оно больше уже ничего не хотело, а если и хотело, то не было сил удовлетворить желание. И тут я почувствовал, что тело перестает властвовать надо мной. Что оно, оставаясь и не исчезая, делается просто оболочкой, к тому же – вялой и тяжкой, которую так трудно носить на себе. Мало того, что тело сделалось тяжелым и слабым, оно еще стало больным. Недомогания изводили меня, и никакие снадобья врачей не приносили облегчения. Оно снова правило мной, но теперь по-иному. Прежде власть тела заключалась в его силе – и это была власть силы. Теперь она заключалась в немощи и болезнях и это была власть немощей и болезней. Я уже готов был отдаться немощам и болезням, но разве я мог! Мне необходимо было прикрывать болезни одеждами уверенности и здоровья. Власть всегда больна, но она не смеет сказаться больной.
Пиры вызывали у меня отвращение, но я пировал. Женщины не возбуждали во мне прежнего желания, но я изображал страсть, и они ничего не замечали.
Запираясь в своей комнате – а с некоторых пор я стал в ней запираться, – я полностью предавался власти болезни и немощи, лежал неподвижно и тихо стонал. Я никого не мог видеть, мне некого было пригласить к себе. Я был настолько одинок, что не мог испытывать к себе даже и жалости. Мечтал об одном – хотя и как животное страшился этого, – мечтал, чтобы заговорщики, желающие убить меня (а такие, конечно же, были), проявили бы себя умно и милосердно. Не тяжелый топот солдат за дверью, не бряцание железа и скрип ремней, а тишина, полная и абсолютная тишина за дверью, и невидимое, неслышимое приближение смерти. Лучше всего, если они подойдут к двери босиком, а еще лучше, если обнаженными. А еще лучше, если как-нибудь без движения достигнут двери. Пусть они войдут, когда меня сморит сон, пусть они дождутся этого самого глубокого сна, похожего на смерть. Когда на краткое мгновение, необходимое, чтобы от дверей добежать до моего ложа, я буду мертв. И когда они вонзят в меня лезвия мечей, мое тело не откликнется, потому что будет мертво и будет находиться не только вне пространства боли, но и вне пространства жизни. Они совершат этот ритуал моего убийства, возрадуются удачности содеянного, но я уже, даже мертвый, не буду с ними. Они станут таскать мое тело, терзать его, может быть, поволокут, привязав к хвосту лошади, по площади перед дворцом и по улицам. Они сделают мое тело непохожим на мое, сделают его не моим. Наивные, они будут думать, что расправились со мной, тогда как я буду знать, что они убили моего мучителя и власть его надо мной закончилась. Вместе с жизнью. Я и рад, что вместе с жизнью.
Тело живет в пространстве жизни и властвует в пространстве жизни и, умирая, забирает с собой это пространство. А я оказываюсь в другом, где нет тела. Где нет, может быть, ничего, но нет и этой невыносимой, унизительной, страшной, позорной власти тела.
Подземное царство Аида или небесное царство Юпитера – все это, скорее всего, выдумки, потому что два этих царства так похожи на пространство жизни. А тело, умирая, забирает с собой это пространство. Не ты оставляешь его, а оно оставляет тебя. И оказывается или должно оказаться, что пространство жизни есть только временное и, больше того, ложное пространство, которое прикрывает настоящее. Настолько плотно прикрывает, что человек и не догадывается о другом, настоящем, и принимает это, жизненное, за единственное и настоящее. Хотя если только задуматься – как же оно может быть настоящим, когда оно временно?
Если нет бессмертия, то и нет ничего, а жизнь, в самом деле, хоть краткий, хоть долгий, но миг. Я бы принял удовольствия за смысл и суть жизни, если бы они были вечными. Или если бы хоть в этой жизни представлялись вечными. Но тело дряхлеет, пространство жизни сужается, а удовольствия остаются где-то там, за границей сужения. И тогда не остается ничего – дряхлость, болезни, страх смерти. Страх потерять эту временность, которую все равно придется потерять. И ты тешишь себя мыслью – и не можешь не тешить, потому что страшно, – что, когда закончится эта временность, начнется другая временность – либо в царстве Аида, либо в царстве Юпитера. Подобие или та же самая жизнь, которую ты вот-вот потеряешь. Временность сменится временностью, а потом еще какой-нибудь временностью. И – я смеюсь над этим – разве сумма временностей дает бессмертие и бесконечность! Не дает, и, значит, есть одна только временность и одна только вечность, одна только человеческая жизнь и одно только бессмертие… Бессмертие чего, если нет тела? Я не знаю чего, но чего-то. Я хочу уснуть в то бессмертие. Заговорщики! Избавители мои! Придите, я жду вас.
Так я мечтал, и так я страшился воплощения мечты. Вот придет мой сон-смерть, вот подкрадутся они и встанут у двери, вот взломают ее, "и бросятся на меня, и пересекут расстояние от двери до ложа (всего только в краткий миг, равный времени моей жизни)… И тогда я вскакивал с постели и забывал о немощи своего тела. Что-то еще в пространстве жизни, которую я так хотел потерять, оставалось необходимым мне – сад, овраг, ствол поваленного дерева и моя сестра Друзилла, сидевшая на нем. Моя сестра Друзилла, моя жена Друзилла. Нет, нечто большее, чем сестра и жена, что-то такое единственное, что не давало мне свободно и покойно уснуть сном смерти. Что-то такое единственное я оставлял здесь, чего нельзя было оставлять. Чего нельзя было взять с собой – я знал это, – но и оставлять было нельзя.
Я крикнул. Слуги хотели войти, но дверь была заперта. Я крикнул еще раз, так громко, что оглушился собственным криком и уже не слышал его. И тогда они стали бить в дверь и ломать ее. И я забыл о слугах и решил, что это заговорщики, вскочил на ноги и бросился к противоположной стене, прижался к ней и застыл. Вот оно, избавление от позорного немощного тела. И как я страшусь избавления, и как проклинаю его!
Я должен лишиться его сам, оно само должно лишиться меня, и никто не смеет вмешаться. Зло не в том, чтобы лишиться, – это не зло, а счастье; зло в том, что никто не имеет права лишать. И когда дверь затрещала и распахнулась и люди в одно мгновение пересекли пространство от двери до ложа и остановились, как перед преградой, не имея сил преодолеть пространство от ложа до стены, где я стоял, я понял, что это пространство не может пересечь никто.
Я не понял, а только почувствовал, что же такое бессмертие и что оно есть. Это то пространство, которое никто не может пересечь, но может в нем находиться.
Мне страшно было оставаться одному, но я пересилил себя и велел слугам уйти. Сел на ложе – не лег, а сел на самый край. Неудобно сел и хотел, чтобы было неудобно. И что-то такое понял тогда, чего-то такого испугался, что уже не позволяло мне свободно возлежать на ложе. И многое, многое из того, что присуще императору, я, кажется, уже не мог делать.
И снова я почувствовал себя одиноким, еще сильнее, чем прежде. Но теперешнее чувство стало совсем иным. То есть пространство одиночества стало наполнено совсем иным. Не среди людей я был теперь одинок, а одинок сам по себе. Я, один-единственный перед огромностью неба над головой, перед звездами на небе, перед тем, что за звездами, перед тем бесконечным и вечным, что я только вот недавно сумел ощутить. И еще – я понял и почувствовал, что не я один так одинок, но что все люди вокруг – все, все, любой из живущих на земле, и даже те, кто еще не родился, а родится и будет жить, – все они так же, как я, одиноки.
Но отчего-то это новое ощущение одиночества приходило без тоски. И мало того, что без тоски, но я ощутил даже нечто бодрящее, какую-то смутную надежду на очень хорошее, которое обязательно воплотится. Стоит сделать всего только шаг, один-единственный шаг (это я отчего-то хорошо и ясно понял). Нужно было сделать шаг и пройти что-то.
Мы все одиноки под небом. Да, да, я понял – каждый сам по себе. И каждый связан с небом. Именно каждый и именно сам по себе. И все люди, страдающие таким же одиночеством, что и я, вдруг стали мне ближе и роднее. Это одиночество делало нас братьями.
Я обвел свою комнату взглядом, медленным, вглядываясь в каждый предмет и каждую вещь. Золото, дорогой металл, дорогое дерево, дорогие сосуды, и я – одинокий перед небом, укрытый от этого неба потолком. Четыре стены, пол, потолок – я внутри клетки. Я заперт и одинок. Я хочу принять в свое одиночество только двоих – Друзиллу и Суллу. Не знаю, я тогда не смог объяснить себе, но не мной, а кем-то другим надо мной, там, за границей потолка и за границей крыши, было произнесено: «Братство одиноких».
Я не спал до утра, но не уснул и утром. Бессонница, впрочем, мучила меня едва ли не еженощно. Но сейчас было другое: не бессонница, а как будто служение без сна. Кому? Небу или своему одиночеству? Я это не мог объяснить, это было выше моего разумения. Но и объяснять не хотелось, потому что слова не могли объяснить ничего. То, что я испытал и испытывал, было тем чувством, которому на человеческом языке нет объяснения и, наверное, не может быть.
Солнце поднялось уже высоко, а я все не выходил. Не то чтобы я не хотел или боялся, но я не знал – как? Как я выйду таким? Как же они, все они или даже только те, что за дверью, смогут узнать меня, опознать меня такого? Что я скажу им и что я вообще в силах теперь сказать? Мне хотелось сейчас же, тут же увидеть свое лицо, но я больше всего страшился этого. Нет, не смогу посмотреть себе в глаза, не смогу и не стану пытаться. Но что делать – выйти как-нибудь тайно и бежать? А Друзилла? А Сулла? Да и не получится выйти тайно.
Оставалось одно – притвориться прежним. Жестоким, необузданным, непредсказуемым Гаем, которого ненавидят все и никто не в силах полюбить.
Я уже понял, что жить так, как я жил, и жить здесь я больше не смогу. Понимание этого явилось мне очень просто. И даже словно бы не явилось, а жило во мне всегда. Я родился, жил как жил, но при этом знал, что все это временно, и ждал, когда можно будет перестать так жить и возможно будет уйти отсюда навсегда. То есть я помнил об этом так же, как человек помнит о смерти. Только я не боялся ухода так, как человек боится смерти, а, напротив, верил в него, хотел его и ждал. И потому теперь, когда время моего ухода было столь близко, в предвкушении его я ощущал себя почти счастливым. И еще. Мне было счастливо от того, что я все это могу рассказать Друзилле и могу рассказать Сулле, и они поймут, поверят, ощутят это каждый в себе и радостно пойдут со мной.
Нужно только дождаться их и поговорить с ними, а для этого нужно проявить терпение. Ведь если взять время всей моей прежней жизни и этот короткий отрезок, то терпеть осталось совсем недолго. Хотя, конечно, последние минуты перед свободой узнику даются, наверное, труднее всего.
Но не это казалось мне самым трудным. Самым трудным было представляться прежним Гаем. Чтобы никто ничего не мог заметить и, следовательно, не смог бы помешать… Все вокруг – во всяком случае, все вокруг меня – жили в темнице. Пусть и не зная этого, как я не знал, пока не понял другое. И они просто так не выпустят меня. Нас. Потому что как же это так – они останутся здесь, а мы вырвемся на свободу? Единственным выходом, который они признавали, была смерть. Единственным выходом и единственной свободой. И они позволят нам уйти только в смерть.
Я не держал на них зла. Ведь они, родившиеся в темнице, не знали, что есть другое, и не знали другого закона, чем закон жизни в темнице. Тогда-то, в первую минуту жалости к ним, я и подумал, что власть моя, которой я теперь не хотел, еще может оказать мне услугу. Нет, не мне, а им. Мне нужно суметь показать им то, что я открыл, и рассказать это тем языком, теми словами и в тех образах, которые будут понятны им, которые вполне соответствуют законам, образам, понятиям темницы.
Я разволновался и ходил по комнате из угла в угол. Не замечал ни времени, которое было уже поздним, ни места, где находился, ни власти, которой все еще облечен.
Услышал за дверью шорох и голосом, которому предал прежние мои капризность и властность (что, к удивлению, далось мне трудно), позвал слуг. Я правильно все сделал со своим голосом и со своим лицом, потому что, когда они вошли и наши взгляды встретились, в их глазах были почтение и страх. И страха значительно больше.
Я потребовал – ведь император не мог разговаривать иначе, – чтобы срочно послали за Марком Силаном и его женой Друзиллой. И еще чтобы охранявшие Суллу охраняли его как можно строже, не выпускали никуда и ждали бы той минуты, когда я позову его.
Слуги удалились, а мой секретарь слегка дрогнувшим голосом напомнил мне, что сегодня заседание сената.
– А кто тебе сказал, что я забыл об этом? – надвигаясь на него, мрачно проговорил я.
Он думал, что я ударю его, съежился и втянул голову в плечи. Но я, грозно постояв над ним несколько мгновений, отправил его слабым движением руки.
Я вошел, сел на свое место, капризно выпятив нижнюю губу, и оглядел ряды сенаторов с каким-то даже кровожадным выражением лица. Может, и излишне кровожадным, но я совершенно не помнил, каким был раньше, и мне все нужно было придумывать и представлять на ходу. Я видел их напряженные лица и глаза, устремленные в одну точку, на меня.
Я всегда презирал их, чего только я не проделывал с ними! Заставлял до полной потери сил бежать за моей колесницей, забирал их жен и, насладившись, возвращал обратно, расписывая мужьям все их женские прелести, движения и позы. При этом заставлял их внимательно слушать (вернее, это они себя заставляли под моим взглядом) и почтительно улыбаться. Если бы не моя власть и не их страх потерять должности, а с должностью потерять богатство и сладкую удобную жизнь, то, может быть, у меня с ними сложились бы иные отношения. Они, конечно, были людьми, как и все другие, но все-таки, как обладавшие богатством, почетом и властью, они уже и не были, собственно, людьми, но были придатком почета и власти и служили им с таким рвением, так изворотливо и хитро, будто знали, что они бессмертны.
Не знаю, что бы с ними стало и какими стали бы они, если бы у них отобрали богатство и почет. Беднее и ничтожнее, но вряд ли лучше. Тут не в богатстве и почете дело, а в осознании такого одиночества перед небом, какое осознал я. Власть и почет – это только одежды, прикрывающие человека. Но бедность и нищета – такие же одежды, только грязные и ветхие. Если человек скинет их и останется голым или если переоденется в другие одежды, внутри его самого не изменится ничего. Дело не во власти, богатстве, нищете или бедности, но в другом. Только кто же в силах объяснить им это? Кто в силах заставить их почувствовать это? Боги, которым поклоняются, потому что нужно же кому-то поклоняться? Которым поклоняются, но перед которыми нет страха. Того самого, настоящего, что может изменить жизнь – каждого и всех. Все, все родились и живут в темнице. И боги – я только здесь понял это по-настоящему – они тоже родились в темнице и живут там вместе с людьми.
Они еще что-то говорили и обсуждали, но я уже» ничего не слышал и не смотрел на них. Я встал и вышел и помню только, что за моей спиной наступила тишина. Враждебная тишина, из которой могла легко протянуться и ударить мне в спину рука с мечом или кинжалом или легко могли выступить руки, которые одним движением сомкнут пальцы на моем горле по-настоящему твердой и по-настоящему окончательной хваткой.
Теперь я страшился смерти больше, чем прежде. Со смертью моя жизнь в темнице окончилась бы темницей, и я, чувствуя, как застыла и окаменела спина, шея и руки, бросился вперед на уже каменеющих ногах, ощущая каждый свой шаг как последний и боясь упасть, удариться и развалиться на части, которые с тяжелым грохотом раскатятся в разные стороны.








