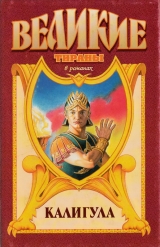
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Хотя не это все было причиной моего промедления, но то, что Макрон всегда стоял за спиной, как Клувий, и эта игра со смертью, представляющаяся бессмертием… пусть и просто игра со смертью, но она доставляла мне особое удовольствие. Я не хотел умирать и боялся смерти, но ведь и невозможно мне было думать, что я просто император, император-человек и какие-то вбежавшие в мою комнату солдаты, которых я, может быть, не знаю в лицо – ничтожный Макрон или мерзкий Клувий, – способны лишить меня бессмертия. Разве можно лишить или лишиться бессмертия так же, как лишить или лишиться жизни?
День их смерти – Эннии и Макрона – настал тогда, когда я захотел этого. Энния прислала сказать, что ей необходимо меня видеть, она еще полагала, что я хоть на сколько-то принадлежу ей. Может быть, она хотела показать мне расписку и потребовать, чтобы я сделал ее женой императора. Не думаю. Впрочем, какая разница.
Да, утром я встал в дурном настроении, и, значит, власть моя с утра, по крайней мере, была настроена не на веселье, а на жестокость. И если бы Энния не прислала сказать, что ей необходимо видеть меня, то они с Макроном пожили бы еще. А так – у меня было дурное настроение, и Энния сама позвала свою смерть. Боги! Я обращаюсь к вам, ведь их время настало.
Забыл, говорил ли я, что Клувий был человеком Макрона. Макрон сам сказал мне: «Предан мне так же, как моя правая рука». Если та, которая отказалась подать мне меч во время последнего обеда с Тиберием, то цена преданности равна цене произнесенного слова. Думаю, что рука Клувия была предана самому Клувию значительно больше.
Я объяснил Клувию, как ему идти за мной, как войти туда, куда войду я, и пройти… и встать за моей спиной – тихо, бесшумно, тенью. И все остальное я ему объяснил подробно. Объяснил как, но не сказал кого. Только потому, что он – рука, а руке предназначено действие, а не мысль.
…Мы вошли в ее спальню вместе с Макроном. Она лежала, когда мы вошли, и встала, когда увидела нас. В лице ее был испуг. Это удивило меня, потому что я ожидал разочарованности. Жена императора или желавшая стать женой может бояться только одного – смерти. Неужели она сейчас почувствовала ее? Мне хотелось спросить, но мы были не одни, и я сказал другое:
– Я узнал, моя Энния, что у тебя есть любовник. Я не стал бы придавать этому значения, если бы твоим мужем был другой, а не Макрон – опора императорского трона. Чтобы мне опереться на него, его личная жизнь должна быть безоблачна: ты его опора, а он моя. И, заботясь о незыблемости императорской власти, а значит, и о процветании римского народа, отец которого я, я пришел увидеть, как мой Макрон сполна получает то, что необходимо мужчине, воину и… опоре.
Последнее определение, может быть, нарушило торжественность стиля, но общее впечатление было благоприятным. Для меня самого.
Итак, – сказал я, обернувшись к Макрону, – твоя жена готова к исполнению супружеского долга, а я готов удостовериться в этом.
Так как он медлил, а Энния отступила на несколько шагов, пока стена не остановила ее, я сказал:
– Смелее, мой Макрон, смелее, моя Энния. Помните, что император подобен богу, а они все время с вами и наблюдают за каждым вашим шагом. Так забудьте же о вашем императоре, как вы забываете о богах. Женщина, исполняющая супружеский долг, всякий раз приносит жертву богам.
Я так возбудился от собственных речей, что сам был готов наброситься на Эннию. Макрон не мог быть помехой – напротив, его присутствие еще сильнее возбуждало меня. Помехой был Клувий, который по моему плану сейчас должен был стоять у дверей. Я слишком подробно объяснил ему – как, но не сказал – кого.
Если бы Макрон сказал «нет», то, может быть, я умер бы тут же от досады. Или от стыда. Или оттого, что я никакой не император и никакой не бессмертный, а просто тварь. Скорее от всего разом. Я бы упал, извивался бы на полу, источая дурной запах, и никто не захотел бы даже наступить на меня и не решился бы переступить.
Это если бы Макрон сказал «нет». А он не сказал. Макрон, мой боевой соратник, префект, опора трона и друг императора, кажется, одним движением скинул с себя одежду и решительным шагом подошел к Эннии и, взяв ее за плечи, рывком оторвал от стены. И бросил на постель. И бросился на нее. Стал сдирать с нее одежду, вырывая ее лоскутами, и пол перед ложем покрылся этими рваными, с зазубренными краями белыми пятнами. Энния молчала. Треск рвущейся одежды был ее криком.
Я почувствовал, как за моей спиной встал Клувий. Я смотрел, как ходил взад и вперед затылок Макрона, то скрывая лицо Эннии, то открывая его. Всего на одно мгновение, и даже на половину его, их шеи находились ровно друг над другом. Да, на очень малую долю мгновения, но кто же мог ожидать, что Макрон будет столь неистов.
Я сделал Клувию знак, при этом шея моя напряглась в ощущении удара. Но Клувий шагнул из-за моей спины и взмахнул мечом. Ударил не сразу, а переждал несколько мгновений. Он не попал в ритм движений головы Макрона. Ритм этот при всей видимой частоте был не абсолютно ровным. Это краткое промедление было ошибкой. Клувий-рука никогда не медлил. И не ошибался. Клувий-человек был уже не столь совершенен.
Меч опустился молниеносно. Но голова Макрона не отскочила, как я ожидал, – Клувий попал по затылку. Макрон только охнул, кровь брызнула в разные стороны, достала до моего лица. Проклятый Клувий! Казалось, что кровь Макрона прожжет мне щеки. От испуга и жжения кожи я закричал. И тут же закричала Энния. Не закричала, завыла. Судорожными движениями она пыталась столкнуть с себя мужа, но не могла. Вой ее был невыносим для слуха, тем более что в нем не было перерыва, словно выдох мог продолжаться беспрерывно, без вдоха. Клувий стоял на прежнем месте, опустив меч, который, мне казалось, просто прилип к ладони, потому что пальцы были безвольно распущены. Он был парализован воем Эннии и смотрел на нее широко раскрытыми пустыми глазами.
– Бей! – закричал я, и еще раз – Бей!
Но он стоял неподвижно и даже не вздрогнул от моего крика.
Наконец Энния сумела сбросить тело Макрона. Оно свалилось на пол, ткнулось в ноги Клувия, тот качнулся, и меч выпал из его пальцев. Я быстро нагнулся и поднял его. И бросился на Эннию, которая еще не успела подняться, а только приподнялась на локтях и поджала под себя ноги. Она была в крови мужа, и лоскуты ее одежды вокруг тоже сделались красными. Руку с мечом я держал перед собой, когда падал на нее. Я промахнулся. Знаю, что я намеренно промахнулся. Я хочу это знать.
Я навалился на нее, все не выпуская меч, но рука как бы сама собой оттягивалась в сторону, будто боялась даже только задеть тело Эннии. Но зато другая рука с каким-то особенным проворством и силой тянулась к ее рту. Дотянулась. Вой прекратился. В ее глазах был ужас. Я впервые увидел, как ужас может до неузнаваемости изменить лицо, сделать его лицом другого человека, чужого, сделать его не мужским, не женским, но лицом самого себя – ужаса.
Еще несколько мгновений, и я потерял бы сознание. Я рывком разжал пальцы, сжимавшие рукоять меча, рывком выдернул подушку из-под головы Эннии и накрыл ее лицо. И, оттолкнувшись ногами – не понимаю обо что, потому что все было скользким и не имелось опоры, – навалился на подушку грудью. Тело Эннии дергалось подо мной, я все понимал, но ничем помочь не мог: силы покинули меня, я осознавал, что лежу, но лежал как мертвый; не было даже сил позвать Клувия или даже просто скосить глаза в ту сторону, где он должен был стоять.
Не знаю, сколько я так пролежал, меня поднял Клувий. Он поставил меня на ноги и потряс за плечи раз и еще; последний раз очень сильно, так, что голова моя сотряслась, а боль из шеи ударила в затылок. Боль прояснила мое сознание и, главное, вернула слух. Я услышал топот и бряцанье железа о железо. Характерное. Знакомое. Я оттолкнул Клувия, чтобы бежать, но на первом же шаге упал, с размаху, едва не разбив лицо. Развороченный кровавый затылок Макрона был совсем близко от моих глаз. Я ощутил удушливый запах крови, и меня едва не стошнило.
В комнату вбежали солдаты, я видел только их обутые в калиги ноги [14]14
…обутые в калиги. – Обувь воинов Древнего Рима, полусапоги, преимущественно солдатские, до половины покрывающие голень. Позднее этим словом обозначали обувь епископов и сандалии богомольцев. Именно от этого слова произошла кличка императора – Калигула («Сапожок»). В детстве юному Гаю, сыну Германика, приходилось Сопровождать отца в его походах, он провел несколько лет в военном лагере и носил форму рядового солдата.
[Закрыть]. Я почувствовал смерть так близко, как не чувствовал никогда. Все мое тело, каждая его частица, до последнего волоска, напряглась так, как напрягалась шея, когда Клувий стоял за моей спиной. На пирах.
Что кричали солдаты, я не мог разобрать, я слышал только крики. Но по тому, как они переступили через меня, а развороченный затылок Макрона сначала отодвинулся, а потом исчез совсем (я смотрел сквозь ресницы), я понял, что стоит мне пошевелиться, смерть тут же набросится на меня. Я не пошевелился и затаил дыхание до последней возможности.
Тут сквозь крики солдат прорвался крик Клувия. Я понял, что это был предсмертный крик, хотя Клувий, может быть, еще не был даже ранен. Железо ударилось о железо всего два или три раза – вряд ли Клувий мог долго сопротивляться. Сейчас с ним покончат, станут поднимать тела и тогда обнаружат, что я не мертвое тело, и убьют меня. Страх мой был столь велик, что, казалось, лишь только они дотронутся до меня, я умру. Я сам брошусь к смерти, спасаясь от них. Или умру сейчас же, не дожидаясь, когда они прикоснутся ко мне. Я напрягся, стараясь умереть, но именно напряжение – и я это почувствовал – отдалило меня от смерти. Можно умереть от страха, но нельзя умереть, если думаешь, что умрешь от него.
Клувий больше не кричал, и не кричали солдаты, но за моей спиной, где-то в углу, шла возня.
И тут я вскочил. Вернее, страх оттолкнул меня от пола, поставил на ноги и толкнул к выходу. То ли я успел увидеть, то ли мне так представилось: глаза Клувия за спинами солдат. Пронзительно-грустные глаза обиженного ребенка. Невозможно, чтобы Клувий когда-то был ребенком. Так же как и я им не был, потому что был всегда. Но глаза из-за спин…
Когда я уже был за порогом, сзади раздались крики. Я едва не споткнулся о солдата, лежавшего ничком. Я бы споткнулся, если бы бежал, но я летел. Еще несколько тел лежало на моем пути – окровавленные тела моих неудачных защитников. Боги даровали им право умереть за императора.
Когда я выбежал на улицу, несколько солдат бросились ко мне. Я страшно закричал. И, оглушенный собственным криком, на мощных волнах его, я полетел дальше. Люди, встречавшиеся на моем пути, бросались ко мне, но никто не смог задержать меня – я летел слишком стремительно.
Больше всего жалею, что стремительность моего бега и страх не дали мне возможности ощутить себя богом. По-настоящему, ощутить без хотения ощутить, то есть не чувствуя, что ощущаю. Если бы… Наверное, я тогда бы поднялся в воздух, над улицей и домами, и никогда бы не вернулся обратно. Ни за что.
Они настигали меня, их топот за спиной сделался нестерпимым для слуха. Он все усиливался, затоплял и топил меня. Я задыхался. Я уже не летел, а бежал. И уже не бежал, но барахтался в море их топота. Весь город преследовал меня, весь Рим. Мгновения бога прошли, они преследовали императора, а не бога.
Я упал. С такой высоты, что должен был расшибиться насмерть. Если бы я был богом. Нет, если бы был императором, потому что бегущий как заяц от собак император уже…
Император. Когда я открыл глаза, они радостно закричали. Сначала стоявшие возле, потом те, что за их спинами, потом те, кто не мог видеть меня, но просто отзываясь на радостный крик других. Снова их крик – ведь кричал весь Рим – затопил меня, но я не барахтался и не задыхался, а поднимался на волнах их крика, вдыхая его, переполняясь им. Они подняли меня и понесли. Навстречу шествию выбежала Друзилла, лицо ее было белым, а в глазах застыл испуг. Она не вскрикнула, не всплеснула руками, она взяла мою руку и так шла рядом, не отпуская, до самого дворца. Живительное тепло ее тела вернуло мне силы, я уже способен был встать и идти самостоятельно. Но как я мог воспротивиться любви народа, как мог нарушить всеобщее ликование!
Они не внесли меня внутрь, но, подстелив ковры, положили на лестнице у входа – не хотели отпускать меня и больше моего удобства и даже здоровья любили собственную свою любовь ко мне. Друзилла опустилась рядом, продолжая питать меня своим теплом.
Так я пролежал некоторое время, а толпа обступила меня и любила меня. И я любил их всех. Я был их императором и был счастлив, что был. Только я ощущал себя не отцом народа, а его сыном.
Вдруг раздались негодующие крики. Толпа расступилась и вынесла к моим ногам нескольких. То были те самые солдаты, что убили людей моей охраны и Клувия, заговорщики. Вид их был жалким: кровоподтеки и ссадины, помятые остатки доспехов. «Униженные римские орлы», – неожиданно подумал я, и мне сделалось не по себе. Все-таки и опозоренные знамена нужно уничтожать в определенном порядке, не унижая. Они были заговорщиками и подлежали смерти, Но ведь они были солдатами Рима.
Они были так избиты и истерзаны, оглушены криками, что, наверное, плохо понимали, где они и перед кем. Я сделал знак, чтобы их не трогали, и сказал:
– У меня не может быть врагов. Я прощаю их.
(Сейчас я смеюсь над своими историческими словами, но в ту минуту я гордился сказанным; и милосердием императора в первую очередь.) Но слова мои произвели на толпу единственно историческое впечатление – она не желала поступиться частью своей любви ко мне. Толпа набросилась на солдат и, кажется, в одно мгновение разорвала их на части. Лоскуты их одежды взлетали над толпой, над площадью, над головами орущих и машущих. Не падали на землю, но, как будто испуганные ревом и поднимаемые потоками воздуха, разогретого горячим дыханием и смятенного резкими движениями тел, они уходили все выше и выше, будто живая часть растерзанных не желала сливаться с прахом и не признавала смерти.
Я с грустью смотрел, как они улетали от нас. Неужели и я был частью толпы, обреченной стать прахом? Я велел отнести себя внутрь. Толпа не протестовала.
Я уже говорил, что впал в безумие. Но теперь оно сделалось неистовым. Как никогда отчетливо я ощутил себя прахом (впервые, на площади), но не хотел и не мог смириться с ощущением. Я, Гай, император по прозвищу Калигула, не мог быть прахом. «Божественный Август», «Божественный Юлий» [15]15
«Божественный Юлий», – Имеется в виду Гай Юлий Цезарь (100 – 44 гг. до н. э.), знаменитый полководец и диктатор, образовавший в 60 г. союз с Помпеем и Крассом (1-й триумвират). Консул и наместник Галлии. Опираясь на армию, он начал победоносную борьбу за единовластие. Сосредоточив в своих руках ряд важнейших республиканских должностей, стал фактически монархом, из-за чего и был убит. Цезарь первым получил титул «Божественного».
[Закрыть]– присыпанные прахом, превратившиеся в прах божества.
После смерти Эннии и Макрона всякая последующая смерть так называемых близких уже не могла иметь никакого значения для моих чувств. Ни ненависти, ни любви, ни сострадания, ни радости – ничего. Всякая последующая смерть только доказывала, что человек есть прах, а все то, что не вечно, может умереть в любое мгновение – безразлично в какое. Я только определял это мгновение, подобно богам.
Я призвал к себе Суллу. Я сказал, что и его мгновение будет определено мной. И еще я сказал ему, что не спрашиваю, бог ли я, бессмертен ли я, – потому что я бог и бессмертен. А он – прах. Всего-навсего черная, пачкающая руки грязь.
Сколько раз я говорил ему, что убью его, что больше всего на свете желаю видеть его распятым. И никогда он не пугался и всегда продолжал называть меня – Гай. А тут вдруг сказал:
– Да, император. – И в его глазах появился страх.
Все внутри меня содрогнулось. Будто собственная моя смерть то ли родилась, то ли ожила во мне. Мой страх был неизмеримо большим, чем его. Я утверждаю это. Он достал какие-то таблицы и чертежи. Когда раскладывал их на столе, руки его дрожали. Звезды, их ход и соотношения, моя великая судьба, что-то еще и еще… Я не помню, я не понимал, не мог его слышать.
Смерть не содрогнулась больше во мне, но страх, вызванный содроганием, не ушел, остался, стыл внутри, источая холод. Я повернулся и вышел: медленно, слепо, боясь упасть. Звездное небо осталось за спиной. Я отдалялся от него. Мне больше никогда не приблизиться к нему. Сулла умер, его слова о бессмертии такой же прах, как и он сам. Как мой страх, мой холод.
…Я не взял руку Друзиллы, а схватил – она была холодна. Другой рукой она гладила мое лицо, прижималась губами к моим губам. Все было напрасно, потому что не было тепла. Она шептала мне:
– Гай, я никому тебя не отдам.
Но мой слух был холоден, и ее слова оставались только словами, были таким же прахом, как и она сама. Я смотрел на нее с удивлением. Я не оговорился, не ошибся – было одно только удивление, и больше ничего. Друзилла, которая есть я сам, – прах. Холод, безмолвие, прах, испачканные черным руки, черные полосы на лице и груди.
Я велел позвать Суллу. Я велел Друзилле раздеться. Когда он вошел, она нагая стояла у ложа. Я велел ей стать дальше, чтобы Сулла увидел ее всю.
– Смотри! – крикнул я, потому что он опустил глаза. – Подойди к ней.
Он подошел.
– Дотронься до ее груди. Нет, не так, губами, – Я подошел к ним. В комнате было жарко, но Друзилла дрожала от холода, – Здесь. Здесь.
Он прикасался губами к тем местам, на которые я указывал. Теперь и Сулла дрожал тоже, все время ошибался, и мне приходилось повторять и указывать дважды.
Я смотрел, как ее тело оскверняется прикосновениями Суллы – прахом и ложью. Никогда не было в ней необходимого мне тепла, не мог я, бессмертный, питаться и согреваться прахом.
Я не мог этого вынести, оттолкнул Суллу, он упал на Друзиллу, она закричала. Я бежал прочь. Оказывается, Сулла, которому я говорил «мой друг», – обыкновенный придворный, а она, Друзилла, любимая, необходимая… Обыкновенность, прах. Не оттолкнуться от земли, праха и не улететь туда, где его нет. Ничего, может быть, нет, но и его тоже.
Метался, не знал, что делать, ни Друзиллу, ни Суллу видеть не мог. Все вокруг было обыкновенным, и даже лучшие из моих предшественников: Август, Юлий, которых толпа именовала великими, тоже были обыкновенными – какие бы деяния они ни совершали, все равно не могли оторваться от праха. И ушли в прах. В ничто. Боги вечны, и прах вечен, а люди – ничто. Что мне до того, что будет после меня, когда после меня для меня ничего не будет. Будет то, что не имеет названия, во что никогда не сможет проникнуть ум. Ничей. Потому что и боги не могут знать об этом: они вечны.
Значит, и мне, что бы я ни делал, что бы ни предпринимал или совершал, все равно уготован прах, и как бы я ни разбегался, взлететь все равно не удастся. Разве что подпрыгнуть высоко, чтобы снова упасть на землю. Не пасть, но именно просто и обыденно упасть.
Я не мог с этим смириться. Не имел возможности. Никакого другого пути, как только то, по которому шли мои предшественники, у меня не было. Сейчас я горестно вспоминал свое восхождение к вершинам власти и усмехался прошлому своему наивному нетерпению. Если бы я знал, что после вершины пропасть, разве бы я так торопился! На вершине заканчивалось движение вверх, и оставалось два пути: броситься вниз и умереть мгновенно либо, стоя на месте, похожими движениями изображать дальнейшее восхождение и мучительно ждать того мгновения, когда смерть, коснувшись, обратит тебя во прах.
Я чувствовал, как старею. Мне не было и тридцати, я был императором, Рим, а то и весь мир, лежал у моих ног. Народ любил меня, придворные боялись, у меня не было врагов, любая женщина, которую я только мог пожелать, делалась моей. Но молодость ушла безвозвратно, и я даже не мог понять: была ли. Моя стареющая сущность только наружно представлялась молодой, а сама была ослаблена сомнениями, неудовлетворенностью желаний, быстро дряхлела от близкого присутствия смерти. Для всех я оставался баловнем судьбы. Той судьбы, которой не было у меня. А та, что была, не известна никому, и мне самому тоже. Я чувствовал, что все дальше отдаляюсь от бессмертия. Оно представлялось мне храмом, стоящим на высоком утесе. Чтобы приблизиться к нему, нужно напряжение всех сил и безостановочность движения. Но и это совсем не означало, что ты достигнешь его: многие приближались и приблизились, но никто не коснулся рукой его стен. И осознание этого лишало сил двигаться, и ты ложился на воду, и волны относили тебя назад или просто захлестывали.
Несколько дней подряд мне снился один и тот же сон: прах от погребального костра моей бабки Антонии падает на меня хлопьями. Прикасаясь к моему телу, он застывает камнем; и то место на теле, которого он коснется, каменеет тоже. На груди, ногах, спине. И вот уже я не могу пошевелиться: я камень, и только голова моя живет, и хлопья почему-то пролетают мимо, не касаясь ее. Я не в силах выносить живую голову на каменном теле. Я зову на помощь, но никто не является, и я понимаю, что нет никого вокруг: ни во дворце, ни за стенами дворца, нигде. И еще понимаю, что не они, люди, покинули меня, а я их. И тогда я кричу от ужаса. Человеческое разумение не в силах определить меру такого ужаса – он нечеловеческий. Я кричу, готовый и желающий умереть. Я кричу не воздухом дыхания, которого нет, а как будто собственной кровью, что выплескивается из меня, заливая глаза, лоб, волосы. Выплескивается непрерывно и не кончается никогда.
Не могу сказать, что приснилось: то не сон, а это не пробуждение. Я трогаю ложе возле себя: колено, бедро, жесткость или мягкость пучка волос, крутость, нежность или упругость живота… Дальше рука не выворачивается, а тело еще каменное, и его невозможно повернуть. Обычно я не узнаю – кто, ведь женщины меняются так часто. Обычно я просто отталкиваю чужое тело резко от себя, и если оно произносит жалобно или приторно-жалобно: «Гай», то я толкаю его еще резче, с остервенением. Удаляющиеся шлепки босых ног еще долго звучат во мне, но даже по их отпечаткам в моем мозгу я не могу определить: кто? Только Друзилла была «кто», все остальные – бьющееся в конвульсиях тело, придавленное моим, каменным.
Все, кто пировал со мной в тот день, когда пепел Антонии накрыл нас, – все по моему приказу переспали с Друзиллой. Иные по двое и по трое за ночь, так что Друзилла была уже не в силах даже стонать от боли и шевелиться, и только кончики ее пальцев мелко подрагивали. А эти старались вовсю, и их спины лоснились от пота, а запах был непереносим. Один и тот же – горячего праха – у всех. Не знаю, подвержен ли прах гниению, но этот был гниющим. Он преследовал меня всюду, я не мог избавиться от него и даже привык. Настолько, что желание вдыхать его сделалось необходимостью. Только Друзилла и эти над ней производили такой запах. Два, три, четыре раза на день мне необходимо было напитаться этим запахом, и тогда Друзилла и эти производили мне его. Ни их лиц, ни лица Друзиллы я больше не видел – только лоснящаяся мужская спина, женская нога, чуть подвернутая под себя, и женская рука, безвольно свисающая с ложа. Вздрагивают ее пальцы или нет, мне было безразлично. Друзилла почти безвыходно находилась в своей комнате, а эти никогда не должны были показываться мне на глаза.
Мне думалось, что прошли годы такого моего сна, но оказалось, что всего несколько месяцев. Я ощущал, что превращаюсь в какое-то вместилище гниения, и все вокруг – Рим, римский народ, каждый человек от младенца до старца, от раба до сенатора – такое же, как и я, вместилище. Я что-то делал: утверждал законы, строил дамбы, казнил, награждал, пил, пировал, спал с женщинами, пробовал мужчин. Историки разберутся и составят точный список того, что я делал, и того, что только приписывали мне. Но все это для меня самого не имеет ни малейшего значения, потому что я был вместилищем гниения и уже не мог существовать без этого запаха и постоянного ощущения его в себе.
Время от времени я приглашал к себе Суллу. Я не смотрел на те таблицы и схемы, что он раскладывал передо мной, не слушал объяснений и пророчеств, хотя там и возникали определения «божественный», «бессмертие» (этого мой слух все-таки не научился не слышать). Но все это не имело смысла и не представляло для меня интереса: я только смотрел на Суллу. И ждал от него одного, чтобы он сказал мне: «Гай». Я не мог видеть, как он склоняется передо мной, произносит ненавистное «император», не мог слышать сам тон его голоса. Но смотрел, слушал, ждал. Убить его не составляло никакого труда, и, как было всегда, убить его очень хотелось. Порой до невозможности сдержать желание. Я бы сделал это, но тогда кто же скажет мне: «Гай»? Оказалось, что я больше всего боялся, что он умрет.
И я велел внимательно следить за Суллой, чтобы исключить случайности: специальный человек следил за его диетой, качеством блюд, процессом их приготовления, следил за тем, чтобы вино не было тяжелым и чтобы Сулла не пил больше допустимого. Другие следили за его спортивными занятиями – сам он не очень это любил, – чтобы не повредил тело, чтобы не простудился и чтобы и тут соблюдал положенную меру. Отдельные виды, ввиду их опасности, запрещались: соревнование колесниц, кулачный бой и другие. На всякий случай исключалась даже верховая езда. Ну и, конечно, несколько человек охраняли его, следовали за ним повсюду – удаляться на значительное расстояние от дворца ему запрещалось тоже, – и во время его занятий, и во время сна, и во время всего остального, что человеку необходимо делать, они всегда были рядом: одни отдыхали тут же, а другие бодрствовали и бдили. «Твоя жизнь и твое здоровье, мой Сулла, мне дороже моих», – говорил я ему. И это была правда, потому что только бессмертие могло быть дорого мне, а жизнь не имела смысла.
Но Сулла склонялся все ниже и ниже, будто он уже не был не только моим другом, но просто свободным гражданином. Однажды, когда он стоял перед картами звездного неба, я подошел к нему сзади и обнял его. Провел языком по его шее и, сдвинув одежду, вдоль плеча. Он стоял, замерев, и кожа его подергивалась то там, то здесь. Я отвел его на ложе, раздел, впился губами в его губы. Нет, я не любил его. Пантомима Мнестера [16]16
Пантомим Мнестер – актер-пантомим, вольноотпущенник Тиберия, любимец Калигулы. Казнен Клавдием, дядей Калигулы (в 41 г. он займет императорский престол после гибели племянника).
[Закрыть]я тоже не любил (к тому же у него всегда дурно пахло из промежностей), но в его движениях было много живой и возбуждающей игры, и, кажется, его талант тут выявлялся намного сильнее, чем на сцене. Валерий Катулл [17]17
Валерий Катулл – придворный Калигулы. По Светонию, «Валерий Катулл, юноша из консульского рода, заявлял во всеуслышание, что от забав с императором у него болит поясница».
[Закрыть]был слишком юн, чтобы понимать чувственность. Мне нравилось его тело, но больше всего меня забавляло то рвение, с которым он исполнял свое дело в постели. Он думал, что на ложе, как на прочном корабле, сумеет подплыть к самому трону. Мне передавали, как он похвалялся, что от забав со мной у него болит спина. Он сильно ошибался, мой любимый Валерий: чтобы подняться к трону, необходимо рисковать головой, а не спиной. К тому же императору надо служить, а не ублажать его. Впрочем, находясь в положении наложницы, что равно статусу домашнего животного, он вполне мог попасть в сенат так же, как и мой конь, которого я объявил сенатором себе на потеху и назло этим ничтожествам, изображающим власть, – разве кто-нибудь из них посмел возразить?
И Сулла, чьи губы я не выпускал из своих долго, пока не устал сам, не вырывался и не возражал. Он был терпелив и почтителен. Чего я хотел от него? Его унижения, наказания или того, чтобы он перестал воспринимать меня императором, а относился, как… Вот только не знаю, как это определить. Или я хотел напитаться от него бессмертием, которого не было у него. Но что-то же было, чего-то же я хотел. Веры в мое бессмертие, и больше ничего. В то, что я не человек, а бог и сам не догадываюсь об этом. Я не знаю, а он знает и верит, и его вера пробудит мое о себе знание.
Мне хотелось схватить его за плечи, потрясти всего так, чтобы голова моталась из стороны в сторону, а мое лицо смазывалось под его взглядом в пятно. И заставить его выкрикивать: «Гай», «бессмертие», «бог» так же, как Энния заставляла меня выкрикивать непристойности. Мне хотелось, но я этого не сделал, но легко оторвался от Суллы и встал. Он встал тоже, выражение его лица было болезненно-виноватым. Хорошо, что его виноватость выразилась молчанием. Я сказал, чтобы он оделся.
Самое время было броситься в любовь. Не в упражнения с наложницами, но в объятия Друзиллы. Зарыться в ее тело, закутаться в ее тепло и не видеть ничего, не знать ничего, не помнить ни о чем. Больше всего хотелось, но я не мог. Зарыться, закутаться, не видеть ничего – и превратиться в прах. Сущность превратится в него быстрее, чем тело. Броситься в любовь означало броситься в смерть от бессмертия. Не бог я, а жалкий червь, прячущийся в темноту от света, в сырую теплоту от палящего зноя. К тому же боги не знают любви, потому что не ведают расслабления. А любовь всегда расслабление.
Друзилла была рядом, всегда рядом, но я не мог заставить себя заговорить с ней и дотронуться до нее. Я только хотел напитаться запахом, когда они делали это с ней. Но и потребность в запахе уже не была столь острой, как прежде, и я ходил все реже и реже.
Сулла тоже был рядом, но я больше не прикасался к нему, хотя приглашал его раскладывать передо мной свои карты – смотрел на него и ждал. Я уже понимал или, во всяком случае, ощущал близкое понимание того, что он потерян для меня. Но смириться с этим не мог и все равно смотрел и ждал.
Однажды вечером я поднял глаза к небу: Сириус горел ярче всех. Остальное множество звезд было только точками тлеющих углей, раскиданных трещащим костром. Я смотрел на него и на множество звезд вокруг и долго не мог оторвать взгляда. Ушел, вернулся, стоял и смотрел опять. Следующей ночью вышел – небо было беззвездно. На яркий Сириус и звезды вокруг перешли в мое сознание. Зачем? к чему? – я не понимал.
И вдруг – я стоял за спиной Суллы – понял. Сулла для меня был тот же яркий Сириус, а точки звезд вокруг – неисчислимое множество, как объяснял мне сам Сулла, – все остальные люди, весь остальной мир. Если на небе нет Сириуса и я не могу его видеть, а яркий звездный свет мне необходим, то нужно сложить свет всех остальных звезд. Он превысит по яркости свет Сириуса настолько, что в Сириусе вообще не будет никакой необходимости. В вере Суллы в мою божественность и мое бессмертие не будет никакой необходимости. Был необходим – сделался не нужен. Был Сулла – и не будет его. Я прервал его на полуслове и велел оставить меня.
Они все, эти тусклые звезды, должны будут собраться в одну кучу. В одну кучу любви ко мне, страха передо мной и веры в мое божественное происхождение. Да и не веры одной я хочу от них, я не хочу просто веры. Не убеждения, что бог, я хочу от них, но знания. Столь же определенного, как и то, что земля под ногами, а небо над головой. Сколько было упущено времени на пустое ожидание… бессмертия. Как будто оно может появиться откуда-то извне, посетить и отметить смертного. Если понимать бессмертие как память, то так оно и есть, хотя и тут нечего дожидаться, а необходимо работать для бессмертия. Но бессмертие-память не есть твое личное бессмертие и принадлежит не тебе, а помнящим о тебе. Вообще-то это насмешка над бессмертием: бессмертие, которое присвоил себе человек, будучи смертным. Такое бессмертие – утешение, наивное преодоление страха смерти. К тому же память тоже смертна и умирает быстрее, чем помнящий может себе представить, и быстрее, чем он этого хочет.








