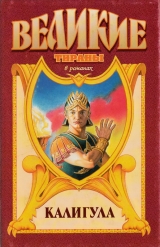
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Михаил Иманов
КАЛИГУЛА
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
В истории народов бывало всякое, и в иные ее страницы люди вглядываются с ужасом, немея от стыда и кошмара. Государствами правили не только победители-полководцы или миротворцы, дальновидные политики и отважные реформаторы. Нередко над людьми царствовали сущие душегубы, ознаменовавшие свое правление жестокими казнями и грабежами. Так что мир за долгую историю накопил немало тяжкого отрицательного опыта. Его горьким урокам издательство АРМАДА посвящает новую серию исторических романов – «Великие тираны».
Слово «тирания» пришло к нам из Древней Греции и означало власть незаконную, обретенную государственным переворотом во главе наэлектризованной толпы. Писистрат в Афинах, Дионисий I в Сиракузах оставили о себе печальную славу столь редкостной жестокостью, что в памяти потомков этот вид государственного устройства превратился в синоним особой деспотии.
Так что римский диктатор Корнелий Сулла, императоры Калигула и Нерон не были тиранами в полном смысле этого слова, но беспредельный садизм этих правителей, их непомерный разврат и алчность навеки прилепили им это определение. Сулла истребил целые народы: самниты, этруски живут в нашей памяти лишь благодаря прекрасным изделиям рук своих, раскопанным археологами на месте их пребывания. Калигула затопил кровью весь Рим, и немало его сограждан погибло по самым нелепым доносам. О необузданном нраве Нерона, не пощадившем ни матери своей, ни любимого когда-то учителя великого философа Сенеку, еще при жизни ходили легенды.
Жажда власти любой ценой – единственное чувство, во все века владевшее деспотами. Ради власти плелись коварные интриги, совершались предательства и убийства. Византийская царица Ирина, чтобы завладеть престолом, приказала ослепить законного наследника – собственного сына. Правление ее на переломе VIII–IX веков не отличалось ни добротой, ни справедливостью.
Тирания как способ правления возродилась в городах Северной и Средней Италии в XIII веке. Династии Висконти в Милане, Медичи во Флоренции, отличаясь особой свирепостью нравов, оставили о себе недобрую память в глазах современников и потомков.
В Риме XV–XVI веков особыми злодействами прославилось семейство Борджиа. Сын Папы Римского Александра VI Чезаре для достижения абсолютной власти не останавливался ни перед какими средствами. И абсолютная власть развратила его абсолютно.
Великая Французская революция в конечном итоге тоже обернулась кровавой тиранией. Когда улеглись восторги и народ привел к власти якобинцев, вовсю заработало новое изобретение – гильотина. Фанатичные «друзья народа» Марат, Робеспьер, Кутон не задумываясь отправляли на казнь за малейшее подозрение в контрреволюционном заговоре, и вслед за подлинными врагами новой власти на эшафот отправились и те, кто ее начал во главе с Дантоном.
Серия «Великие тираны», выпуск которой предпринимает издательство АРМАДА, открывается романом Михаила Иманова «Гай Иудейский» о римском императоре Калигуле.
КАЛИГУЛА

Энциклопедический словарь Издание Брокгауза и Ефрона СПб., т. IV, 1895
КАЛИГУЛА (Гай Цезарь Caligula) – римский император, младший сын Германика [2]2
Германик (Германик Юлий Цезарь; 15 г. до н. э. – 19 г. н. э.) – римский полководец, племянник Тиберия и отец Калигулы. Тиберий усыновил его по желанию Августа, лишив тем самым права наследования собственного сына Друза Младшего. Поэтому Германика иногда называют сыном Тиберия и внуком Августа. В 12 г. н. э. стал консулом, успешно воевал на стороне Тиберия в Германии, неоднократно участвовал в походах за Рейн, где и получил свое прозвище. Был отправлен с миссией на Восток – там, в Антиохии, заболел и умер.
[Закрыть]и Агриппины, род. в 12 г. по P. X., воспитывался В Германии и вырос в лагере среди солдат; прозвание свое получил от солдатской обуви (caligae), которую носил с детства.
Тиберию он выказал глубочайшую преданность: никогда не было, замечают древние авторы, лучшего раба и худшего господина, чем К. В 33 г. по P. X. Калигула женился на Юнии-Клавдилле, дочери Марка Силана; в то же время, желая открыть себе доступ к престолу, он вступил во связь с женою Макрона, преемника Сеяна, и, как предполагали современники, помогал ему ускорить кончину Тиберия.
Как сына Германика, народ встретил К. с восторгом, когда он, сопровождая тело умершего императора, явился в Рим (37 по P. X.); он был призван на престол сенатом и народом, а младший Тиберий (внук старшего), который, по завещанию императора, должен был сделаться его соправителем, был исключен из престолонаследия. Первые меры Калигулы были направлены на благо народа; он щедро наделил народ и солдат, освободил заточенных Тиберием, вернул изгнанных, обещал в речи к сенату руководствоваться его наставлениями и править с ним вместе, сделал попытку возобновить комиции, простил всех провинившихся перед его отцом, матерью и братьями.
Вскоре, однако, в нем произошла решительная перемена к худшему, потому ли, что он решил сбросить с себя маску, или – что вероятнее – организм его сильно был потрясен опасною болезнью, причиною которой была его неумеренная жизнь. Как только он оправился от болезни, он велел умертвить Тиберия-младшего, подозревая его в желании завладеть престолом, между тем, незадолго до болезни, он сам его усыновил. Тех, которые обещали пожертвовать жизнью своею, если он излечится от болезни, К. принудил исполнить обет. К самоубийству же он принудил и бабку свою Антонию, Макрона, жену его Эннию и Марка Силана. Его страсть к крови становилась тем сильнее, чем больше жертв себе требовала.
Во время гладиаторского боя с дикими животными он велел однажды схватить и бросить в добычу зверям первых попавшихся из зрителей, вырезав им языки, чтобы они не кричали и не поносили его. Часто за обедом и ужином на его глазах производились пытки или палач срубал головы осужденных. Светоний и Дион Кассий передают выраженное им однажды (когда, при состязании в беге, народ приветствовал другого победителя) пожелание: «О, если б у всего римского народа была лишь одна голова!»
Наравне с жестокостью шел и разврат его; помимо целого ряда постыдных связей, он жил в кровосмесительном браке со своими сестрами. Желая, чтоб его чтили как бога, он являлся иногда в виде Вакха, Аполлона, Юпитера, даже Венеры и Дианы; в храме Кастора и Поллукса он стоял среди статуй богов и принимал моления посетителей. Он построил храм, в котором стояла его статуя в виде Юпитера Латийского; ее каждый день одевали так же, как был одет он сам. В штате жрецов этого храма считался и он; коллегою его была его лошадь – та самая, которую он позже назначил консулом.
Уже в первый год своего управления растратил он всю казну, оставшуюся после Тиберия, – 720 млн. сестерций. Чтобы доказать, что он может пройти по морю, как по сухому пути, он велел устроить подвижной мост через пролив между Баями и Путеоли, покрыть его землею и настроить на нем домов; затем он торжественно проехал по мосту, посреди которого устроил пиршество. Истощенные безумною роскошью средства государства он пополнял при помощи казней, конфискаций, новых налогов, продажи имений и принудительных займов. По свидетельству Светония, он устроил в своем дворце публичный дом, доходы с которого поступали в его пользу.
Истощив Рим и Италию, К. направился в Галлию, под предлогом войны с германцами; на самом деле он занялся казнями и конфискациями. Заключительным эпизодом его экспедиций был поход со всем войском к берегам океана для собирания раковин – добычи, захваченной у моря.
Вернувшись в Рим, он собирался перерезать весь сенат, но через 4 месяца после возвращения, 24 января 41 г. по P. X., был найден убитым в своем дворце; убийцами были трибуны преторианской когорты: Кассий Хэрея и Корнелий Сабин.
К. умер 29 лет от роду; царствовал 3 года и 10 месяцев. У него не осталось детей, кроме двухлетней дочери Юлии Друзиллы, которую Хэрея велел убить вместе с ее матерью Цезониею. Престол после К. перешел к Клавдию, дяде его. Сообщают о К. более всего Светоний и Дион Кассий; некоторые данные у Тацита, Зонары, Иосифа Флавия и Филона. Жизнь К. привлекала беллетристов и драматургов (между прочим, Александра Дюма) и в 1894 г. послужила материалом для политического памфлета (против германского императора).
ГАЙ ИУДЕЙСКИЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОСВЯЩАЕТСЯ Нине Михайловне ИМАНОВОЙ


…Откуда же я мог знать, что я такой плохой, мне и в голову никогда не приходило задуматься: плохой я или хороший? Я был тем, кем был, – пусть боги отвечают за меня перед людьми. История, память, величие после смерти – один только пустой звук. А я стремился к двум вещам: власти и наслаждению. И имел и то, и другое. Сполна. И пользовался и тем, и другим в полной мере.
Хорошим и праведным быть скучно. Да и то: если бы у меня имелось две жизни или три, тогда можно было бы пожертвовать одной, чтобы сделаться хорошим, праведным – отцом, царем, советчиком, покровителем. То есть, конечно, не для себя самого и не для людей, а для будущих историков. Им в пищу и на потребу отдать свою плоть, свою жизнь, свои мысли, свои желания. Да хоть бы и три жизни, хоть бы и четыре – я не намерен ничего никому отдавать.
Им, историкам, хватит и моего отца, хотя он и не имел полной власти. Но уж любовь народа он имел. Вообще, думаю, что Германик, мой отец, не был глубоким человеком. В сущности, он был простец. Один из них, из людей толпы. И вел себя, как один из них. И как такого же, как они, люди и любили его. Вообще, толпе хочется кого-нибудь любить и хочется быть любимой. Как женщине. Не помню, кто это сказал, что толпа – это женщина. По крайней мере, не мой отец. Он не понимал этого.
Когда умер Август [3]3
Когда умер Август, легионы отказались признать Тиберия… – Август Гай Октавий (до 27 г. до н. э. Октавиан; 63 г. до н. э. – 14 г. н. э.) – внучатый племянник Цезаря, усыновленный им в завещании. Римский император с 30 г. до н. э. Даже после смерти он считался идеальной личностью, образцом. Добился единовластия в результате побед при Филиппах над Брутом и Кассием и при Акции над Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой VII, тем самым завершил гражданские войны в Римском государстве, начавшиеся после смерти Цезаря. Сосредоточив в своих руках власть, сохранил, однако, традиционные республиканские учреждения. Проявил себя как сторонник римской культуры, ратовал за возврат к старым обычаям. Август стал гарантом «Римского мира», который сделал сорокапятилетний период его правления счастливой эпохой. В 38 г. до н. э. женился вторым браком на Ливии Друзилле, которая постаралась сделать наследником Тиберия, своего сына от первого брака. Август не любил пасынка, но из государственных соображений исполнил волю Ливии и усыновил Тиберия, объявив его своим преемником.
[Закрыть], легионы отказались признать Тиберия [4]4
Тиберий Клавдий Нерон (42 г. до н. э. – 37 г. н. э.) – сын Ливии Друзиллы и пасынок Августа. С 14 по 37 г. н. э. римский император. Чтобы стать наследником Августа, ему пришлось выполнить два условия: развестись с женой, чтобы взять в жены дочь Августа Юлию, а также усыновить и признать наследником Германика, отца Калигулы, вместо собственного сына Друза Младшего. Тиберий стал императором в пятьдесят пять лет, но оставался зависим от матери до самой ее смерти. В политике опирался на преторианцев; сумел добиться улучшения финансового положения империи. Как полководец Тиберий зарекомендовал себя в сражениях с германцами, паннонцами и даками. В 26 г., после смерти матери, в возрасте 70 лет Тиберий удалился на остров Капри в Неаполитанском заливе, где и окончил свои дни, ожесточась и ненавидя весь свет, мучимый болезнями.
[Закрыть]и предложили отцу верховную власть. А он отказался, простец. И это было началом его славы. Вернее, началом любви толпы. Славы, может быть, еще более сильной. Но это было концом его самого, его личности… не знаю, как лучше сказать… его сущности, что ли. Неужели боги ставят человека на вершину власти лишь только для того, чтобы он угождал толпе? Да разве боги могут не презирать толпу! Да разве человек в глазах богов стоит чего-либо большего, чем презрения!
Я презирал людей уже тогда, когда не имел власти. Но когда она, власть, сделалась моей, презрению моему уже не могло быть ни конца, ни предела.
Не могу сказать, что и я не поддавался никогда этому желанию народной любви. Но оправдывает меня только то, что я никогда не любил их, а только презирал. И положение мое после смерти Тиберия не было таким прочным, как могло казаться. Ведь я сам чувствовал это. Кроме того, я был сыном простеца Германика, и эта дурацкая народная любовь к нему по наследству переходила ко мне. Они, толпа, думали, что это богатое наследство. Впрочем, как еще они могли думать? А для меня это стало тяжестью, которую необходимо сбросить, чтобы быть самим собой. Но власть моя поначалу не была крепка, и мне приходилось носить на себе эту народную любовь, да еще и преумножать ее. Хотя я не жалею, так было нужно. Народ глуп, и когда полюбит кого-то, то уж полюбит окончательно. Ведь не я сам был им нужен и необходим и не мои действия и поступки, но единственно их собственная любовь ко мне. И поначалу я им вполне давал насытиться этой любовью.
Конечно, они хотели, чтобы я был такой же, как они, таким, каким они представляли себе справедливого, доброго, умного правителя. Они хотели вогнать меня в прокрустово ложе своих представлений о справедливой власти. Я сам, со всем тем, что во мне, был им не нужен. А я хотел быть тем, кем родился, и хотел жить единственно своей жизнью и своими желаниями. Хотел попробовать все, что можно, а главное, то, чего нельзя. То, чего никто из них не мог позволить себе. Власть давала мне право быть самим собой. За это я любил власть.
Жестокость и страсть – вот самые сильные наслаждения. И я был самим собой и не стеснялся их. Скажут – порок, но что есть слаще порока? И что есть, добавлю я, скучнее добродетели? Народ хотел видеть меня честным, справедливым, добродетельным. Каким-нибудь самым-самым справедливым и добродетельным. Но чтобы– завоевать их любовь, никакой добродетели не было нужно, а нужно было знать, что делать и как.
Ну, разумеется, как это водится, помиловать осужденных и сосланных. Я сделал это очень просто. Еще, для пущей любви, я заявил, что для доносчиков мой слух закрыт, и принародно разорвал донос о покушении на мою жизнь, добавив громко, чтобы слышали все, что я просто ни в ком не могу возбудить ненависти.
Всяких изобретателей наслаждений я попытался наказать строго и приказал утопить их в море. Меня долго уговаривали, пока я отменил свой приказ.
Ну и еще я сделал кое-что простое. Пострадавшим от пожара возместил ущерб. Отобранные Тиберием деньги – впрочем, очень большие деньги – велел отдать обратно. Меня славили, и все были довольны.
Тиберия, этого гнуснейшего из людей, я почтил похвальной речью, при этом плакал, как говорили мне потом, горькими слезами.
И еще я отправился за прахом матери и братьев. Море было бурным, плыть было опасно, меня отговаривали, но я приказал плыть, ведь толпа должна была видеть мою храбрость и, главное, мою сыновнюю любовь. Великую, самую величайшую, может быть, добродетель. Боги хранили меня, и добрались мы благополучно. Я сам, собственными руками переложил их останки в урны.
Отца моего я, разумеется, почтил тоже: месяц сентябрь я назвал германиком. Хотя правильнее было назвать его – простец.
Все эти деяния не стоили мне никакого труда. Их нужно было совершить, чтобы любовь народа получила пищу. И я их совершил.
За все нужно платить (я не имею в виду – расплачиваться, тут вопрос иной). А за все нужно платить, и за свою свободу тоже. И своими добродетельными поступками я оплачивал будущую свою свободу. И как ни смехотворна была цена, она оказалась достаточной.
Впрочем, добродетели правителя не ограничивались храбростью, милосердием, прощением – это, в общем, были вещи обычные, рутинные. Главная добродетель – тут я усмехаюсь, потому что невозможно не усмехнуться, – заключалась в организации зрелищ и в раздаче подарков народу. Подачек, уточню я. Этот добродетельный народ очень любит зрелища, хотя, конечно же, ненавидит устроителей зрелищ. Конечно, те, которых я собирался утопить в море, были людьми безнравственными и порочными. Они развращали народ, портили народ, отвлекали его от добродетели. Другое дело – я, правитель, позволяющий зрелища. В этом случае это не разврат, не отвлечение от добродетели, это, можно сказать, отцовская награда. Я их отец, они мои дети – почему бы не позволить им шалости и почему бы самому не пошалить вместе с ними?
Да, добродетельный народ любит зрелища, и, по большей части, зрелища жестокие. Они любили, когда на их глазах, на потеху им, люди убивали людей, люди убивали зверей, и звери, в свою очередь, когда такая возможность им предоставлялась, разрывали людей на части. Главное, чтобы все это происходило на глазах, на глазах множества людей, на глазах толпы. Тогда это называлось зрелищем, и тогда это было хорошо. И даже добродетельно. Во всяком случае, вполне допустимо.
Если это происходило не на глазах толпы, а где-нибудь в темном углу или в темном лесу и был какой-нибудь один свидетель или свидетелей не было вообще, то есть когда это не называлось зрелищем, – это было плохо. Это было жестоко. Тогда люди, слыша об этом, всплескивали руками, качали головами, сожалели или гневались, требовали наказания виновных, причем наказания публичного – главное, чтобы на виду у всех. Когда они, сидя рядом или стоя рядом с себе подобными, смотрели на казнь, они чувствовали удовлетворение. Что ж – казнь похожа на зрелище, точнее, ничем от зрелища не отличается.
Что же касается гладиаторов, то, конечно, они не были людьми. Или, вернее, были теми людьми, смерть которых страшна, но вызывает удовлетворение у тех, кто придет смотреть, как она совершится. Не собственная своя смерть, которой они страшатся, а зрелище чужой смерти притягивает людей. Они могут говорить, что страшно, могут говорить, что жестоко, просто могут сказать, что им противно смотреть на это. Но все это неправда: смерть притягивает, и непреодолимо хочется смотреть, как она совершается. Когда они смотрят на нее, и тем более когда смотрят во множестве, они словно бы избавляются от собственной) страха смерти. Вот она, перед вами: удар, вскрик, содрогание тела… И все – одна только мертвая неподвижная плоть на земле. И удовлетворение, что не я, что не мы, что он, они. Постоянное лицезрение чужой смерти, может быть, самая сильная иллюзия бессмертия. Никакой собственной смерти нет, но есть зрелище смерти: чужой, чужих, других. Полная обыденность и одновременно всегдашняя новизна зрелища смерти.
Они смотрели на то, на что я позволял им смотреть. Мне же самому это быстро наскучило. Я хотел чего-то другого, более острого. Своего, мной самим изобретенного. Мне казалось, что смерть витала надо мной с колыбели. Не та моя смерть, которая как будто должна была когда-нибудь прийти, и, как считается, неотвратимо, но смерть вообще, смерть вокруг, воздух, зараженный смертью. Скажу без стыда и стеснения: воздух, зараженный наслаждением.
Быть императором, разумеется, лучше, чем им не быть. Быть на самом верху, повелевать народами, ощущать, как от твоего желания или даже просто от твоей прихоти человеческая жизнь может прерваться, а может и сохраниться и продолжиться еще сколько-то. Столько, сколько ты позволишь ей продолжаться.
В самом деле, быть императором лучше, чем им не быть. Я так думал, когда стремился к власти и когда добивался ее. Впрочем, я и теперь так думаю. Но дело не во власти над всеми – это приятно, но это наскучивает, да и потом жалко отдавать себя, единственную свою жизнь на то, чтобы править государством, делать так, чтобы твоим подданным жилось хорошо. Ну, если не хорошо, то, во всяком случае, чтобы они жили в порядке, и чтобы не поубивали друг друга, и не съели друг друга. И еще: порядок определяет императорскую власть, в данном случае мою. Так что без порядка все равно не обойтись.
Но не об этом я хотел сказать, и не об этом мне хочется говорить. Я о том, что власть не самое главное, она только фундамент иного, самого главного. Она нужна для того, чтобы в себе самом, над самим собой не было бы никакой власти. То есть откровенно и положительно никакой. Власть над всеми и полное безвластие в себе. Не ты властен над собой, не порядок, но страсти. Страсти, которые не знают ни власти, ни порядка и проявляются, как хотят и когда хотят. За это их и держат в темнице всяких установлений, поэтому и поносят их как зло, может быть, как самое тяжкое зло. Но императорская власть тем и хороша, что ты можешь позволить себе не держать свои страсти в темнице установлений, но выпустить их на волю и жить с ними и ими. В общем-то как будто и это не позволено, и император должен… Но ведь на то он и император, что хотя и должен, но может позволить себе… И это «позволить себе» все равно сильнее, чем «должен». Что же касается недовольных, то власть для того и власть, чтобы усмирять недовольных, во всяком случае, не позволять им действовать.
Но не хочу об этом, все это малоинтересно и только мешает свободе страстей, а без свободы они не имеют ровно никакого значения, словно бы их и нет вовсе.
Как много говорят о любви! Мне кажется, излишне много. Поэты усердствуют в этом больше всех, словно бы это одно и есть главное их дело, Я не говорю: любовь к женщине, любовь к мужчине, или любовь к императору, или к родине. Обо всем этом не хочется говорить, потому что все это пустое и тоже дань порядку, исполнение установлений. Все это любовь к другому – родине, женщине – к тому, что вне тебя. К тому, что не ты, а другой, другая, и главное – другое. Вот эта «любовь к другому», может быть, самый главный плод того, что называется установлениями. Ложь, ложь, одна только ложь кругом. Потому что по-настоящему человек может любить только себя. И когда говорит, что любит другого – а ведь искренне верит, что любит, – то это все равно ублажение самого себя. Самый лучший миф есть миф о Нарциссе [5]5
…миф о Нарциссе – греческий миф о юноше, влюбившемся в самого себя. Он был необычайно красив, но отвергал благосклонные взгляды самых прекрасных женщин, и богиня правосудия Немезида решила его покарать: однажды на охоте он увидел свое отражение в воде и влюбился в него. С тех пор он не мог оторваться от лицезрения самого себя и умер от этой любви. На месте его гибели вырос красивый, но холодный цветок нарцисс.
[Закрыть], потому что это правда.
Я очень любил себя. Больше, кажется, чем сам в силах был это осознать. Я любил в себе все, абсолютно все: что знал, видел, чувствовал, и чего не знал, не видел, не чувствовал, и даже как-нибудь смутно не ощущал. И смерть свою я любил, хотя и страшился ее. Она ведь тоже была моей и жила во мне. Мне очень хотелось увидеть ее и прочувствовать. Я не знал, как это сделать, но отчего-то очень хорошо ощущал – и очень верил такому своему ощущению, – что все-таки есть способ увидеть ее и прочувствовать. И я нашел такой способ, хотя, может быть, и не совсем сам нашел его. Впрочем, теперь не об этом, об этом после.
Я здесь не хочу говорить о государственных деяниях. Что бы я ни сказал, будущие историки расскажут по-своему. И все это будет, конечно, очередной ложью, потому что никаких направленных деяний никто совершить не может, и император в том числе. Все происходит само собой, и нас ведут боги. А мы лишь исполняем их волю, хотим мы этого или не хотим, ощущаем на себе их волю или нет. Получается, что бы я тут ни говорил, все ложь, хотя и не в большей степени, чем та, которую наплетут будущие историки.
Так вот, нечего говорить о государственных деяниях, потому что, во-первых, никаких деяний, в сущности, нет, а во-вторых, потому что государственная деятельность не имеет для меня ровно никакого значения. А если и имеет, то только в смысле почитания и преклонения, и воспевания, и всего такого прочего. Все это приятно, как хороший обед и хорошее вино: удовольствия, без которых трудно обойтись, может быть, даже и невозможно обойтись, но которые не станешь же называть смыслом жизни, сутью жизни или чем-нибудь в этом роде. А как удовольствия они – почитание, преклонение – вполне необходимы. И – довольно об этом.
Страсти мои всегда непреодолимо требовали выхода, и я никогда не ставил им препятствий. И всякий раз их беспрепятственное проявление приносило мне удовольствие; порой очень жгучее, порой даже невыносимо жгучее. Но удовлетворения они приносили мало. Признаюсь, я уставал от удовольствий, так что порой впадал в полное изнеможение. Мне ничего не хотелось, то есть совершенно и абсолютно ничего. В таких случаях говорят – хотелось умереть. Но мне и этого не хотелось.
В таком состоянии я мог пролежать без движения и день, и два. Ко мне боялись заходить, и вообще извне не доносилось ни единого звука, и казалось, что во всем мире я один, и больше никого, ни одного человека. Ни зверя, ни птицы, ни камня… вообще совсем ничего. Мне делалось страшно. Как-то так особенно страшно, как невозможно передать словами. И тогда я кричал. Думаю, что мой крик больше походил на рев зверя. Или на звериный рев и человеческий вой одновременно. Ко мне сбегались, трогали меня, что-то говорили. Но ни у одного из них в глазах я не видел хотя бы отблеска сострадания, а только страх. Перед моим, разумеется, гневом.
Тут они не ошибались. Никто из них ни разу не ошибся, и страх каждого был вполне оправдан и объясним. Только что мне до этого? Я любил лишь самого себя. Не то чтобы так уж не любил всех остальных, вообще всех остальных людей, но – что мне было до них? Если они и соотносились со мной, то только как предметы моих страстей и орудия моих удовольствий.
Одно из таких удовольствий – не скажу, что самое лучшее, но одно из лучших – было зрелище смерти. Оно завораживало меня, как пламя костра, если смотреть на него из темноты: смотришь и не можешь оторваться. Меня не трогала чужая смерть, я не испытывал ни сострадания, ни ужаса, ни печали. Просто она завораживала, и хотелось смотреть, и трудно было оторваться. Человек оставлял жизнь в мучениях и страхе, и они были особенными, они отличались от того страха и тех страданий, которые не связаны напрямую со смертью – например, при родах. А тут в смертном страхе и предсмертных страданиях чувствовалась какая-то тайна, неподвластная постороннему разумению. Только собственный смертный страх и собственное предсмертное страдание давали возможность разгадать ее. И все равно: смотреть на то, за чем виделась тайна, было особенным, как я уже говорил, завораживающим удовольствием. Оно, это зрелище, как бы излечивало меня или хотя бы представлялось излечением.
Кажется, я снова отвлекся. Или нет, это очень важно для того, о чем я буду сейчас говорить. О моей любви.
Или нет – о своей страсти. Или нет – не о любви и не о страсти, а о том, что есть и любовь, и страсть, и еще что-то такое, что настолько глубже любви и страсти и настолько сильнее их, что последние даже как бы не имеют значения.
Я говорю о своей сестре Друзилле [6]6
…о своей сестре Друзилле, – Друзилла Юлия, родная сестра Калигулы, умерла в 38 г. н. э., через год после восшествия его на престол. Долгое время была его постоянной любовницей, фактически женой, и, в отличие от остальных любовниц и от других сестер, которые, согласно историческим фактам, также были любовницами императора, имела на Калигулу большое влияние.
[Закрыть]. Я говорю о моей жене Друзилле. Я говорю о моей Друзилле. Все равно как если бы я говорил о самом себе.
Наше начало было очень простым. Я был молод, совсем еще юноша, но я уже знал женщин и вполне прочувствовал то удовольствие, которое можно получить от обладания женской плотью. Терзать женскую плоть до боли, до настоящей, а не придуманной боли, до настоящего, а не притворного страха. Терзать ее так, чтобы страсть и боль были неразличимы. Чтобы, когда женщина стонала, она сама не могла бы сказать, чего больше в ее стоне, боли или страха, и – достигаешь ли ты самой вершины удовольствия или спускаешься к самому входу в жилище смерти. И того и этого было одинаково возможно достичь. То есть я всегда заботился, чтобы такая иллюзия представлялась бы самой полноценной и неоспоримой правдой.
Но наше с Друзиллой начало оказалось очень простым. Сначала я не замечал ее как женщину. Она была сестрой, мы вышли из одной и той же плоти и, по-видимому, состояли из одной и той же плоти. Кроме того, вокруг было так много женщин, и если тогда еще не все, то все равно почти все были доступны для моей страсти. Я тогда только открывал женщин, и мне наивно казалось, что открытиям этим не будет конца. То есть что каждая – это открытие.
Ну, не знаю, однажды я просто увидел Друзиллу, страсть разлилась по всему телу, и прежде, чем я сделал первый шаг в ее сторону, я подумал: «Значит, и она женщина, и, значит, в ней есть что-то такое, что я могу открыть». Она стояла у конюшни, чуть отставив ногу, и тонкая материя туники не то что облегала, но облила ее бедро: оно было крепким и гладким, как мрамор колонны, и жарким, податливым, как… Не знаю, как что, но этот жар и эту упругую податливость я ощутил кожей лица, щеками, теми участками щек, что ближе всего к глазам. Ощутил так явственно, будто был совсем рядом, хотя стоял не меньше чем в десяти шагах от нее. И еще я подумал: «Почему кто-то другой должен сделать открытие, которое могу сделать я? Только потому, что я брат, а он чужой?» Не очень-то я боялся, что я брат и что мне не позволено того, что позволено чужому. Хотя, признаюсь, робость я ощутил. Впервые, наверное, ощутил особенную робость. Но преодолеть желание я уже не мог, даже если бы и захотел. Но я не хотел.
Я подошел к ней, взял за руку и сказал:
– Пойдем.
Хотел добавить: «Ляжем», – но не добавил. Та самая робость мешала мне говорить открыто. Но я и тогда почувствовал, и сейчас уверен, что она поняла все и что она ждала и была готова. Хотя внешне все выглядело вполне невинно, вполне согласно с установлениями, потому что сколько раз я вот так же подходил к ней – и к другим сестрам: у меня было еще две сестры – брал за руку и говорил: «Пойдем»; И мы шли в рощу, и бегали там как угорелые, и кричали, и бегали, и гонялись друг за другом, и ловили друг друга, и падали вместе на землю, и лежали рядом, глядя в небо в полном изнеможении.
Я взял ее за руку, и мы пошли, и это уже было первое отличие от обычного, потому что всегда мы бежали к роще – или я за ней, или она за мной, – но никогда не шли, тем более таким медленным шагом. И еще: только руки наши соприкасались, а бедра и плечи не соприкасались, потому что страшились соприкосновения. Я подбадривал себя: «Гай, чего ты боишься, ты хозяин жизни и, может быть, будущий император». Так я говорил себе, но в словах отчего-то не оказывалось никакого действенного смысла, и выходило, что это совершенно пустые слова. И про «хозяина жизни», и про «императора». Будто это какие-то пустые мечты, а не то, что обязательно должно совершиться. Или, точнее, то, что уже было на самом деле: пусть об этом еще мало кто знал или не знал никто.
Мы прошли в рощу, в самую ее глубину, спустились на дно неглубокого оврага. Не я вел ее, и не она меня, но мы шли словно бы вместе и одновременно каждый сам по себе. Остановились. И тут оказалось, что мы не знаем, что делать дальше. И тогда я сказал – и это случилось непроизвольно:
– Ляжем.
Мы легли. Оказалось, что только и нужно было лечь. То есть именно такое положение тел надо было принять, чтобы прошла всякая нерешительность и робость, и все стало совершаться само собой, и я даже перестал ощущать, что делаю что-либо сам, но как будто бы я сплю, а сон властвует надо мной и живет за меня. Я словно бы и не знал, что нужно делать, и словно бы мои руки никогда до этого и мое тело никогда до этого не прикасались к женской горячей плоти. Да, никогда не трогали и никогда не прикасались.
Я не знаю, как решился прикоснуться к ее соску губами, и почему я это сделал: он показался мне твердым и холодным. А губы ее, когда я к ним прикоснулся, были мягкими, горячими. И влажными. Нет, скорее даже мокрыми. Она часто дышала, и запах ее дыхания был какой-то особенный. Не сладкое, не благоуханное дыхание, о котором пишут поэты, а какое-то нутряное. Запах плоти. И еще – запах смерти. Не разложения, совсем нет, но какой-то холодный без вкуса запах. И это в горячем дыхании. Будто бы отдельная, не смешивающаяся ледяная струя в общем горячем потоке…
Она вскрикнула, и все ее тело сжала судорога, и дыхание ее прервалось, и она – это я сейчас хорошо понимаю, а тогда только сжался весь внутри, и дыхание прервалось, как и у нее, – она умерла. На одно мгновение, на долю мгновения, но это был не образ смерти, а сама смерть. И не ее, не ее только, но и моя, принадлежащая только мне.
Лицо ее было так близко от моих глаз, что расплывалось пятном без черт, и я не мог видеть, улыбается она или плачет, но и не хотел этого видеть. Тело, которое я держал в своих руках, может быть, меньше всего было женским телом, и тайна, которую я ощутил – пусть еще смутно, пусть еще только едва, – совсем не была обычной тайной женщины. И я сказал:
– Я хочу сделать тебя счастливой.
Я не уверен, что произнес это вслух, но какое это могло иметь значение, ведь я говорил это себе, для себя, потому что я больше всего люблю себя и лишь сам для себя могу быть интересен. Даже когда сам у себя вызываю отвращение, все равно интерес к себе и любовь к себе не делаются меньше, но, возможно, еще и возрастают.
Я так и лежал на ней и все не мог заставить себя подняться. Тело затекло, и сырость со дна оврага проникала в него. Но как было подняться? В слиянии тел нет стыда, но в их разъединении, пусть и временном, он есть. Столь гармоничное, столь естественное состояние слитности должно смениться каким-то некрасивым и бессмысленным разъединением. Как если бы одна нога пошла отдельно от другой, а руки, цепляясь пальцами за пожухлую траву, тащили за собой безногий торс, а голова просто катилась по желобу дна оврага, пока не ударилась бы о полусгнивший ствол поваленной березы. Ударилась бы, вскрикнула от боли, не в силах ни увернуться, ни заслониться рукой, но только закрыть глаза. Закрыть и увидеть белую вспышку боли посреди кромешной темноты. Такую же холодную, как струя смерти среди горячего дыхания страсти…








