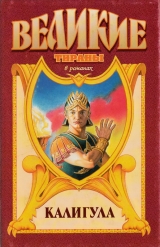
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Проклятый Туллий, почему он здесь? Только для того, чтобы испортить мне настроение! Если это так, то он добился своей цели – я вспомнил о Друзилле.
Не стоит объяснять, почему при воспоминании о ней мое настроение испортилось в одно мгновение. Я уже не слышал голоса Агриппы, хотя и чувствовал, что он все еще говорит. Я хотел отвести от Туллия взгляд, но не сумел: мой взгляд словно прирос к его лицу или его лицо притянуло мой взгляд и не отпускало.
Только сейчас я вспомнил, что Друзиллы нет со мной. Она бывала на всех пирах, на которых был я, странно, что ее отсутствия никто не заметил. Или заметили и молчат, смеются про себя, кивают друг другу с пониманием. А в это самое время моя Друзилла, моя сестра, моя жена… Но нет, я не в силах был представить, что с ней может происходить в эту минуту, и с силой, одним движением, оторвал взгляд от лица Туллия. Глаза мои пронзила боль, и я не сразу узнал Агриппу, на которого теперь смотрел.
Наверное, мой теперешний взгляд был страшен, потому что Агриппа прервался на полуслове и смотрел на меня растерянно и настороженно. Агриппа, конечно, случайно попал под мой взгляд, но попал именно он, а не кто другой, и гнев колыхнулся во мне. Резкое слово едва не сорвалось с моего языка, но я сдержался (кто бы знал, какого усилия мне это стоило).
Я удивляюсь самому себе, но, глядя на Агриппу, застывшего передо мной, я улыбнулся. Конечно, и я это чувствовал, улыбка вышла несколько натянутой, но она выглядела настоящей или почти настоящей. Я ждал, что Агриппа скажет еще что-нибудь, но он молчал. Не выдержав моего взгляда, он опустил глаза и все не отрывал от груди почтительно сложенных рук. Тогда я сказал (голос мой прозвучал глухо, хотя я старался говорить свободно):
– Ну что, мой Агриппа, скажи, чего ты хочешь, чего желаешь, я жду.
Это последнее «я жду» прозвучало едва ли не с угрозой, хотя улыбка все еще присутствовала на моем лице. К чести Агриппы, он хорошо почувствовал момент и не стал произносить своих утомительных славословий. Он сказал только, отрицательно поведя головой:
– Благодарю, император, мне ничего не надо.
– Нет, ты скажи, – проговорил я едва слышно, и угроза теперь слышалась вполне ясно, я не смог побороть себя. – Я так желаю, наконец, я велю тебе,!
Агриппа все понял и не стал тянуть время. Коротко поклонившись, он сказал (почтительно, но достаточно громко, так, чтобы слышали остальные):
– У меня есть только одно желание, император, оно касается судьбы моего несчастного народа.
Он сделал паузу, а я быстро сказал:
– Говори.
И он продолжал:
– Мне хотелось бы, чтобы император пересмотрел свое решение о постановке своих статуй, своих божественных статуй (добавил он с поклоном) в наших храмах. Мой народ не столь просвещен, как народ Рима, он еще не умеет по-настоящему воспринять божественности римского владыки. По своей невежественности он не может этого воспринять, но он любит императора и предан ему. Император! Мой народ – это дети, настоящие дети, и императору нужно отнестись к нему как к детям. Дай им время, и они осознают твое божественное величие, как осознал его я. Поверь, император, я буду самым рьяным воспитателем, самым настойчивым и строгим. Не пройдет и нескольких лет, может быть, всего год, как они поймут, примут, и твои божественные изображения торжественно внесут в наши храмы. Мало того, я уверен и обещаю, что не только в храмах, но и в доме каждого еврея будут стоять твои изображения. Дети будут рождаться, и твое божественное лицо станет первым, что они увидят в этой жизни, и старики, умирая, тоже увидят его. И это будет последним, что они смогут увидеть в этом мире. Дай им время и отмени свое решение сейчас.
Я, конечно, не ожидал от Агриппы такого. Должен признаться, что он переиграл меня. Воистину, восточное коварство порою недоступно пониманию римлянина.
Он поймал меня, и отступать было некуда. Я обвел взглядом сидевших – все глаза устремились на меня, и вокруг стояла такая тишина, что я слышал звук собственного дыхания и стук своего сердца.
Коварный Агриппа застыл, склонившись передо мной. Он делал это нарочно, чтобы только не встречаться со мной взглядом.
Я выдержал приличествующую случаю паузу, изображая раздумье, а на самом деле говоря себе одно и то же – что мне некуда деться. Наконец я сказал:
– Приказ императора есть закон для подданных, но и собственное его слово является для него самого законом. На этом стоит великая власть Рима – пусть это помнят и знают все. Агриппа! Я не собирался отменять свое решение, хотя в твоих рассуждениях и есть некоторая правота. Но я дал слово, а слово императора – закон. Я не могу дать твоему народу несколько лет, чтобы он осознал божественность императора. Я бы дал, если бы это касалось только меня, но тут затронуты насущные интересы Рима. Я не могу дать даже года, но полгода я милостиво даю ему. Только полгода, но по истечении этого срока…
Я намеренно не договорил, принял величественную позу и, медленно подняв руку, провозгласил:
– Все слышали?! Да будет так!
Как я и ожидал, Агриппа бросился передо мной на колени, пытаясь поцеловать край моей тоги. Но я не позволил ему этого, взял за плечи, поднял. Когда наши взгляды встретились, я увидел, что он плачет. Даю голову на отсечение, что это были настоящие, а не притворные слезы. Невероятно, но он в самом деле так любил свой народ. Сам я этого ни понять, ни постичь не мог. Воистину, он был настоящим царем, и если его дядя, Ирод, так же любил свой народ, то тогда можно понять, почему он называется Ирод Великий.
Я смотрел в лицо Агриппы, и у меня самого наворачивались на глаза слезы. Но я был императором Рима, а не царем Иудеи, и мне не пристало плакать. Я сдержал слезы и милостиво улыбнулся Агриппе. Тут же, будто все окружающие только и ждали этой улыбки, раздались приветственные крики. Все наперебой славили мудрость и великодушие императора, один старался перекричать другого. Я хорошо знал настоящую цену этим славословиям, но мне было приятно их слышать, и чем дольше они продолжались, тем было приятнее. Я в самом деле чувствовал себя в эти минуты и мудрым, и великодушным, и милостивым, и, главное, великим. Я подумал тогда же, что называться великим даже, наверное, почетнее, чем называться божественным. Впрочем, эта идея требовала тщательного изучения, а сейчас я просто наслаждался, забыв обо всем плохом, горьком, мрачном и с радостью ощущая переполнявшее меня величие.
И вдруг я увидел… Нет, увидел я несколько мгновений спустя, когда повернул голову, а сначала почувствовал, как нечто черное приближается ко мне. Итак, я повернул голову и увидел, что ко мне идет Туллий Сабон.
В первое мгновение мне хотелось бежать, и я непроизвольно отступил назад, едва не свалившись с возвышения – слуга с одной стороны и Агриппа с другой поддержали меня. В руках у Туллия Сабона был свиток, и я смотрел на этот свиток неотрывно и со страхом, будто это был смертный приговор мне.
– Срочное послание из Галилеи, от Петрония, – громко произнес Туллий, остановившись передо мной.
– Срочное? – проговорил я растерянно, будто именно это было самым главным, а не содержание.
– Да, император, – сказал Туллий, протягивая мне свиток. – Так было приказано гонцу.
Я взял свиток дрожащей рукой. Сразу не сумел сломать печать и даже окорябал пальцы. Еще некоторое время не мог читать: прочитывал приветствие Петрония в самом начале, не понимал и прочитывал снова. Наконец страх мой несколько прошел, а сознание прояснилось, и я прочитал свиток от начала до конца. По-видимому, это послание Петрония было отправлено вслед за первым, с интервалом в несколько дней.
Петроний писал, что он ничего не может поделать с иудеями, невозможно заставить их подчиниться, а можно только поголовно уничтожить весь народ. Кроме того, он описывал всякие глупости, то ли пытаясь разжалобить меня, то ли оправдать собственную свою нерешительность. Он еще не поставил мои статуи в храме, в Птолемаиде, но пытался повесить на ограде римских орлов. Толпа не позволила солдатам сделать это, окружила дом, где находился Петроний, и попросила его отменить приказ. Он велел солдатам разогнать толпу. Тогда люди скопились у ограды храма и внутри, не допуская римлян. Петроний приказал солдатам освободить площадь и сам явился к месту событий. Что он там увидел, его потрясло (как он пишет). При виде его люди – а это было чуть не все население Птолемаиды – легли на землю, обнажили шеи и кричали, что все готовы умереть, только бы не допустить осквернения храма. Петрония особенно потрясло, что в их числе были и женщины, и старики, и малые дети, и все готовы были умереть. Петроний находился в растерянности, писал мне, что, может быть, я соглашусь смягчить свое требование, потому что в противном случае придется уничтожить весь народ, а последствия такого шага могут быть непредсказуемы для Рима.
Я перечитал послание дважды и поднял глаза на Туллия Сабона. Он смотрел на меня прямо и, как мне показалось, со скрытой усмешкой. И… я вспомнил о Друзилле. Моя любимая Друзилла была в его руках. Я представил себе, как его мерзкие руки касаются ее тела, как его гадкие губы тянутся к ее божественным губам, а его глаза – эти отвратительные крысиные глаза, сведенные к переносице, – видят то, что им не предназначено видеть. Мне хотелось схватить стоявшую передо мной серебряную вазу и что есть сил ударить его по голове. Чтобы она раскололась надвое, чтобы он вскрикнул, как раненое животное, и рухнул бы на пол, заливаясь кровью. О боги, как я жалел, что за моей спиной нет сейчас моего беспрекословного Клувия – уж тот бы сделал все как надо, повинуясь одному только моему взгляду.
– Ты свободен, – сказал я Туллию, – ты можешь идти.
Но он почему-то не уходил, и лицо его уже щ скрывало усмешку.
– Убирайся! – закричал я и сам испугался своего крика,
И чтобы не видеть, подчинится мне Туллий или нет, я повернул голову и посмотрел на Агриппу. Он настороженно глядел в ответ. Кто бы знал, как я в эту минуту его ненавидел.
– Что ты мне тут говорил! – закричал я, почувствовав, как гнев поднимается Во мне и с каждым мгновением становится все яростнее. – Твои проклятые сородичи не желают подчиняться воле императора, восстают против Рима. Своими действиями они пытаются унизить Рим.
– Но, император! – вскинув обе руки перед собой, просяще выговорил Агриппа, но я не дал ему говорить.
– Молчи, Агриппа! – прокричал я еще громче, уже срывающимся голосом. – Ты обманул меня! Все эти твои игры и слова одна только хитрость. Любой народ, не подчиняющийся власти Рима, будет безжалостно уничтожен! Ты слышишь меня, Агриппа, безжалостно!
И тут что-то случилось со мной. Голос мой сорвался, поднявшись до самой высокой ноты, в глазах помутилось, и, еще хрипло выкрикивая: «Безжалостно! Безжалостно!», – я повалился на бок.
Я не потерял сознания до конца, а только не мог говорить и двигаться. Я видел и ощущал, что происходило со мной, хотя и смутно.
Меня подхватило несколько рук. Вокруг раздались крики, такие пронзительные, что казалось, я не выдержу и голова моя лопнет. Меня понесли к выходу, больно сжимая и дергая в разные стороны. Мимо, совсем близко – мне даже почудилось, что я ощутил его нечистое дыхание, – проплыло лицо Туллия Сабона.
Последнее, что я увидел, была моя собственная статуя, та Самая, где я опирался на облако. Мне померещилось, что глыба мрамора выскользнула из каменных рук статуи, и валится на меня, и вот-вот придавит. Я закрыл глаза и закричал.
Может быть, крик и не вышел громким, может быть, это и совсем не было слышно, но напряжение оказалось столь велико, что все остатки сил вылетели из меня с этим криком, и больше я не видел, не слышал, не чувствовал ничего.
Пришел в себя я быстро, кажется, в ту самую минуту, когда меня внесли в мою комнату и уложили на ложе. Во всяком случае, когда явился мой врач, испуганный и запыхавшийся, я видел уже без посторонней помощи и резким движением руки велел ему удалиться.
Я приказал позвать писца и, когда он явился, стал диктовать ответ Петронию. Весь гнев на Агриппу, на Туллия Сабона, всю боль о Друзилле я вложил в него. Я писал, что Петроний недостоин командовать даже манипулой где-нибудь на задворках Рима. Писал, что он трус, глупец, что он позорит не только звание полководца, но и просто гражданина Рима. Распалившись, я дошел до того, что обвинил его в сговоре с евреями, которые везде строят козни и хотят только одного – чтобы я умер, а они бы богатели и обманывали римский народ. Если понадобится их всех уничтожить, то я не остановлюсь ни перед чем. Но сначала должен умереть тот, кто предал меня и Рим, – сам Петроний. Я писал, что избавляю его от позора суда и повелеваю самому покончить счеты с жизнью сразу же по получении этого моего послания. И мой приказ ему – самое милосердное деяние, которое я когда-нибудь совершал.
На этом я закончил письмо Петронию и написал еще одно, тамошнему наместнику. Я приказал ему немедленно усмирить бунтовщиков, насильно поставив мои статуи в их храмах, и не останавливаться ни перед чем. И если возникнет необходимость уничтожить все, то я даю ему такое право.
Покончив с этим и наказав гонцам под страхом жестокой кары доставить мои послания как можно быстрее, я велел претору Октавию Руфу взять с собой нескольких солдат, отправиться в резиденцию Агриппы и передать ему мою волю: немедленно покинуть Рим и там, в Иудее, ждать моих дальнейших указаний. По его положению я бы должен был отправить к нему по меньшей мере нескольких влиятельных сенаторов, но я хотел унизить его и послал претора с солдатами, как к государственному преступнику. В моем сознании Иудея стала моим главным врагом. Она была виновата во всех моих бедах – и в деле с Друзиллой я ее считал виноватой особенно. Не имеет значения, что в этом не было ни крохи объективного: я так считал, значит, так было.
Если бы я мог вершить дела на расстоянии, я бы уничтожил Иудею в единый миг, чтобы не только населения не осталось там, но и построек, и даже самой земли. Не было бы земли, а на том месте, где прежде стояла Иудея, зиял бы черный бездонный провал.
Да, чтобы сделать это, нужно было быть богом, а я был всего-навсего императором. В те дни я особенно ясно понял разницу меж великой властью бога и ничтожной, по сути, властью императора. Но кому я мог сказать об этом моем открытии!
Гнев мой был сильным, и я даже упивался им, видя испуганные взгляды приближенных и слуг, но разве я мог знать, что мне готовило близкое будущее!
Проклятый Сулла, он всегда становился предвестником беды. Впрочем, в тот день он был вестником.
Когда мне доложили о его приходе, я обрадовался. Нет, не тому, что увижу его, а тому, что смогу проявить свой гнев. Разве не он так активно защищал моего главного врага – Иудею?!
Я приказал ввести его и принял величественную позу. Гнев на моем лице должен был прожечь его насквозь – ничего не было страшнее моего безмолвного гнева.
Он вошел. И по мере того, как он приближался и я лучше и лучше различал черты его лица, гнев мой исчезал как-то сам по себе, величественная поза перестала быть величественной, а сделалась чуть ли не жалкой, хотя я даже не пошевелился. Не выражение его лица, а сами черты были страшными. Он смотрел на меня, но как будто не видел.
– Что? – выдохнул я, отступив на шаг.
– Друзилла, – выговорил он каким-то голосом без выражения: просто воспроизвел звуки, составлявшие ее имя.
И тут я ясно понял, что случилось непоправимое. Нет, еще не смерть, но нечто хуже смерти.
– Где? – спросил я, подняв руку к груди, заслоняясь то ли от Суллы, то ли от этого непоправимого, что он принес с собой.
– У Марка Силана, – отвечал он.
– Что? – снова спросил я.
– Как я тебя ненавижу! – проговорил он вместо ответа и, повернувшись, медленным шагом вышел из комнаты. Мне показалось, растворился в сумраке у дверей.
Некоторое время я стоял не шевелясь и вдруг бросился за ним.
– Где он? Где?! – закричал я, выбежав в соседнюю комнату.
Слуги смотрели на меня в испуге, не понимая, что я от них хочу.
– Сулла-а! Сулла-а! – позвал я тихо и протяжно. Полная тишина вокруг была мне ответом.
Я должен был (и хотел) приказать слугам доставить Суллу сюда сию же минуту, но почему-то не смог этого сделать и сам смотрел на них испуганно, По-видимому, испуг мой был страшен, потому что в их глазах я увидел ужас и ужаснулся сам.
Я убежал к себе, метался из угла в угол, то ли крича, то ли шепча одно и то же: «Сулла! Сулла!», пока не изнемог и не упал на пол. Упал, прикрыв лицо руками, и больше уже не помнил ничего.
Ничего не помнил до той минуты, когда вышел из носилок у дома Марка Силана. Наверное, я приказал доставить меня сюда – не сами же они решили это з, а меня! Но как бы там ни было, выйдя из носилок, я знал, что приехал сюда, чтобы увидеть Друзиллу, и что я очень спешу.
Наверное, Марка Силана успели предупредить, и он ждал меня у порога. Бедный Марк, он выглядел дряхлым стариком. Он низко склонился передо мной, прошамкал беззубым ртом:
– Приветствую тебя, император!
Хотел продолжить, но я не позволил – поднял его, обнял, сильно прижав к груди. Кажется, мое усилие было для него чрезмерным: он прерывисто, со свистом дышал и весь обмяк в моих руках, так что мне показалось, будто я держу его на весу. Может быть, он и не был тяжелым, но держать его было неудобно, и я просяще оглянулся. Подбежали слуги, взяли Марка Силана под руки, я прошел в открытую дверь, а его повели следом.
Я не знал, куда нужно было идти, никого не было вокруг, и я шел словно в пустом пространстве мертвого дома. В мертвом доме мертвого города – так мне показалось. Но я вошел именно туда, куда должен был войти, и нашел то, что искал…
Открытые настежь двери, широкое ложе, и кто-то совсем маленький справа, на высоких подушках, укрытый покрывалом до подбородка. Я знал, что это Друзилла, но не узнал ее. Расстояние от дверей до ложа (всего несколько шагов) я проходил долго. И по мере того, как я приближался, голова лежащей на высоких подушках делалась все меньше и меньше. Когда я остановился на расстоянии вытянутой руки, мне показалось, что ее голова величиной с кулак. Если и не с мой кулак, то с кулак, по крайней мере, какого-нибудь борца, олимпийского чемпиона.
Да, это была она, Друзилла, но что же с ней стало! Седые, всклокоченные, словно бы засаленные волосы обрамляли изможденное, серое, с выпяченными скулами и глубоко запавшими глазницами лицо, или скорее то, что осталось от лица. Абрис тела под покрывалом был столь смутен, будто тела не существовало вовсе. Не знаю, каким образом я понял, что это Друзилла, – в ней не было, кажется, ни одной знакомой мне черточки. Глаза ее были закрыты, покрывало лежало недвижимо, и казалось, что Друзилла не дышала, но я почему-то знал, что она жива. Впрочем, принимая во внимание теперешний ее облик, совсем не имело значения, жива она или нет, потому что той Друзиллы – сестры, жены, любимой – уже не было в этом мире.
Я стоял перед ней и думал о себе. Я думал, что я настоящее бесчувственное животное, потому что мне было не жаль Друзиллы, а хотелось повернуться и уйти прочь. Я думал о том, что то, что мне казалось страшным и непоправимым, совсем не страшно, а о какой-то непоправимости и вообще не могло быть и речи. Вот только неприятно находиться здесь, смотреть на это страшное лицо и седые всклокоченные волосы. Как я могу сожалеть об этой женщине, что лежала передо мной, если она так не похожа на мою Друзиллу! Ведь я любил не эту, а ту – красивую, гибкую, страстную. Тело той благоухало, а от этой исходит неприятный тяжелый запах, вызывающий тошноту. И вообще, зачем я стою здесь и терплю все это – я, император?
Я услышал шорох за спиной и оглянулся. Мой личный врач склонился передо мной и смотрел на меня исподлобья. Я подумал: «А этот-то зачем здесь? Разве я болен?» Но он как будто ждал моего вопроса, и я, не понимая, чего он ждет, спросил:
– Ну?
– Император, я не смею выговорить того, что должен сказать, – проговорил он, все не разгибая спины, хотя я видел, что стоять согнувшись ему тяжело: лицо его уже было багровым от прилива крови к голове.
– А что ты должен сказать? – спросил я и сделал знак, чтобы он распрямился.
Он медленно распрямился и изобразил лицом крайнюю озабоченность. Потом прижал руки к груди и, отрицательно помотав головой, прошептал трагически, как актер в цирке:
– Нет! Нет!
– Да говори же ты, – сказал я с досадой и нетерпением, чувствуя прилив тошноты и прикрывая ладонью нос.
– О император, – провыл он, закатывая глаза, – я должен сообщить тебе страшную весть!
– Да сообщай же, несчастный! – шагнув к нему, сквозь зубы выговорил я.
– Она не доживет до вечера, – быстро сказал он.
– Кто? Почему до вечера? – нахмурился я, не понимая.
– Твоя сестра, – пролепетал он, испуганно на меня глядя, – она не доживет до вечера. Я делал все, что мог, но даже Эскулап не сделал бы большего.
Наконец-то я понял. Я снова надвинулся на него, а он сделал несколько коротких шагов назад, запнулся, упал на спину, раскинув руки в стороны, и тут же, словно ожидая пинка, поджал под себя ноги.
Да, я нашел выход из своего недовольства от вида лежавшей на подушках женщины, от тошноты, которую я едва сдерживал. Я коротко пнул лежащего носком сандалии (он сам подсказал мне это, поджав под себя ноги) и, пригнувшись к нему, выговорил медленно и со злобой:
– Это не она, а ты не доживешь до вечера, и никто, даже сам Юпитер, не сможет спасти тебя.
Я не помню точно, но, кажется, он взвизгнул как-то по-животному и затрясся всем телом. Я распрямился и отступил на шаг. В то же мгновение слуги бросились к лежащему, схватили его за руки и волоком потащили к дверям. Мимо Марка Силана, которого я только что заметил. Он стоял, поддерживаемый с обеих сторон, голова его склонилась набок, будто шея плохо держала ее. Он смотрел прямо перед собой и словно не заметил, как врача протащили мимо. Я подошел к нему. Я подошел к нему, потому что не хотел больше стоять у ложа и даже поворачиваться к нему лицом. Кроме того, тяжелый запах тут ощущался значительно слабее.
– Я скорблю вместе с тобой, Марк, – проговорил я, горестно покачав головой. – Для тебя, как и для меня, это невосполнимая утрата. Отныне, Марк, я хочу, чтобы ты считал меня братом. Ты слышишь меня? – добавил я, потому что мне показалось, что он не слышит; во всяком случае, голова его все так же лежала на плече, а глаза смотрели мимо меня.
Я едва заметно кивнул слугам, и они чуть встряхнули Марка. Голова его дернулась и медленно приняла нормальное положение, а взгляд если и не стал заметно осмысленным, то все-таки теперь был направлен на мои глаза.
– Ты слышишь меня, Марк? Мы всегда будем вместе и никогда не расстанемся. Тебе больше не нужно будет заботиться о своем будущем, я сделаю его прекрасным. Скажи мне, что ты хочешь? Ну скажи, я все для тебя сделаю.
Губы его дрогнули, и он что-то невнятно пробормотал. Я не понял и, пригнувшись, приблизил ухо к самым его губам.
– …проклят… – услышал я одно слово из нескольких, самое последнее слово.
Я взглянул на слуг: их лица были как из камня и не выражали ничего. Разумеется, они ничего не могли услышать. Но все-таки я внимательно и строго посмотрел в их лица, будто стараясь запомнить.
– Прощай, Марк, – быстро сказал я, – я распоряжусь, чтобы для тебя было сделано все, что ты… чтобы все было сделано.
И, проговорив это, я быстро вышел из комнаты.
Вернувшись во дворец, я все никак не мог понять, что же со мной случилось. Я не испытывал ни боли, ни страха, ни уныния, ни печали, а просто не мог понять – почему чувствую, что что-то случилось, если не чувствую ничего.
Так я просидел до самого вечера, пока не понял, что схожу с ума. Не то чтобы я сильно испугался, но мне было от этого как-то особенно не по себе: внутри меня словно все застыло. Нужно было что-то делать, а не думать. Все беды человека заключаются в том, что он пытается думать, когда ему плохо, а нужно не думать, а делать – все равно что, хотя бы просто взмахивать руками. У меня был испытанный способ не думать, и я позвал слуг и велел привести женщину. А потом крикнул им вослед, чтобы привели двух – все равно каких, только бы побыстрее. Я стал ждать и, хотя пытался заставить себя не думать, все повторял про себя: «Что же случилось? Что же такое со мной произошло?»
Я сидел на краю ложа, низко опустив голову и подперев ее руками, когда вдруг увидел женскую ступню, обутую в грязную сандалию, потом еще одну, появившуюся рядом. Сандалии были грязные, и кожа их была так тонка, что больше походила на материю, чем на кожу. И пальцы были грязны, с обломанными ногтями – неровные короткие пальцы плебейки. Я почувствовал запах пота, смешанного с дешевыми притираниями и винным духом.
– Император! – услышал я тихий голос слуги и медленно поднял голову.
Передо мной стояла женщина, за ней другая. Из-за спины последней, словно прячась от меня, выглядывал слуга. Когда наши взгляды встретились, он проговорил, уже едва слышно:
– Император, прикажешь их вымыть или…
Он не договорил и почему-то глупо улыбнулся.
– Иди, – сказал я, и он, попятившись, вышел в дверь и бесшумно прикрыл ее за собой.
Теперь я смотрел на женщин и все никак не мог понять, для чего они здесь и что им от меня надо. Та, что стояла ближе, была молода, лет семнадцати всего, вторая – значительно старше, лет тридцати или больше. Лица их оказались размалеваны и потны, волосы одинаково собраны в пучок. У старшей была большая грудь и крутые бедра, но толстая талия и ноги толстые. У молодой была плоская грудь, тонкая талия, зато несоразмерно худые ноги. Они смотрели на меня, улыбаясь, но в их улыбках чувствовался страх.
– Что? – зачем-то спросил я.
– Ну думай, мы не больные, – сказала старшая и, выйдя из-за спины молодой, взялась обеими руками за грудь и энергично потрясла ею, будто именно этот жест мог стать доказательством их здоровья.
– Ну? – опять спросил я, совсем не понимая, что я спрашиваю и зачем.
– Она хорошо танцует, – проговорила старшая и дотронулась до плеча молодой (та вздрогнула). – Солдаты любят, когда она танцует, а потом ее берут нарасхват. Один даже ударил другого ножом из-за нее, но не убил, а только ранил. Ее зовут Нунехия, она из Греции, там все хорошо танцуют.
– А ты? – сказал я. – А ты откуда?
– Я – римлянка, – гордо ответила она.
– Ты тоже танцуешь?
– Нет, сейчас нет, а раньше танцевала. Теперь у меня другое тело, для богатых мужчин, а не для всякой солдатни. Ко мне приходит даже один клиент сенатора.
– А-а! – протянул я. Ее разговор почему-то забавлял меня.
– Ты не веришь? – воскликнула она довольно энергично. – Я покажу, ты сам сможешь убедиться.
И не успел я ответить, как она скинула одежду и, обнаженная, подступила ко мне совсем близко, оттеснив молодую. Грудь ее свисала до середины живота, она поигрывала бедрами, переступая с ноги на ногу. Я все еще сидел на краю ложа, и низ ее живота оказался прямо перед моим лицом: я никогда не встречал столь буйной растительности, она казалась ненастоящей. Я было протянул руку, чтобы в этом удостовериться, но особенный запах женской плоти пахнул на меня, и я, отстранившись, сказал:
– Хорошо, хорошо, отойди. Пусть лучше она танцует. – И я кивнул на молодую.
Старшая недовольно повела плечами и, взявшись за грудь, снова потрясла ею, делая еще одну попытку понравиться мне, но я уже не смотрел на нее, а смотрел на молодую. Но та стояла, смущенно на меня глядя.
– Ну что ты, Нунехия, – строго сказала старшая, – что стоишь столбом, покажи, как ты танцуешь.
Молодая отошла на середину комнаты, некоторое время озиралась по сторонам, потом подняла обе руки, особенно их выгнув и широко растопырив пальцы, приподняла одну ногу, потом другую, прыгнула в сторону, назад, вперед и снова в сторону.
– Нет, нет, – брюзгливо воскликнула старшая, – раздевайся, так ничего не выходит, – И, повернувшись ко мне, добавила: – Раздетая она лучше, тем более, музыки нет.
С этими словами старшая подошла к молодой и ловко, едва ли не одним движением, стянула с нее одежду и отбросила в сторону. Молодая стояла, втянув голову в плечи и прикрывая руками низ живота. У нее и в самом деле не было груди, и сама она походила на подростка.
– Я тебе сказала! – крикнула ей старшая, довольно сильно ткнув в плечо, – И руки убери, все равно там смотреть не на что.
Младшая снова подняла и выгнула руки, растопырив пальцы, собираясь изобразить танец, но я сказал:
– Брось это. Иди сюда.
Она подошла только тогда, когда я повторил приглашение. Старшей я бросил:
– А ты танцуй.
– Я?
– Да, ты. Танцуй, а мы посмотрим. Перед клиентом сенатора ты ведь, наверное, тоже танцуешь!
Старшая не ответила и смотрела на меня высокомерно и презрительно, как это водится у проституток. Обычно меня это смешило, но сейчас разозлило, и я сказал:
– Ты очень упрямая. Если хочешь, я прикажу слугам высечь тебя – может быть, после этого у тебя прибавится желания потанцевать передо мной.
Снова она ничего не ответила, и высокомерная презрительность не исчезла, не заменилась страхом. По видимому, она испытала многое и мало чего боялась. Однако вышла на середину комнаты и стала танцевать – сначала медленно и как будто нехотя, но потом все быстрее и быстрее. Ее тяжелое тело, как ни странно, было гибким, по крайней мере достаточно гибким, чтобы движения походили на танец. Тяжелый запах пота наполнил все пространство и, кажется, в короткое время пропитал все вокруг. Я отвернулся и посмотрел на Нунехию. Она стояла возле меня, прикрывая ладонями низ живота и глядя в пол. Мне стало жаль ее как брошенного, потерявшегося, обиженного ребенка, я взял ее за руку повыше локтя и усадил рядом с собой. Наши бедра касались друг друга, но я не испытывал вожделения – просто от человеческого тепла рядом мне было покойнее.
Старшая все танцевала, гулко топая ногами, дышала тяжело и со свистом, а запах пота сделался невыносимым. Я хотел сказать, чтобы она прекратила, но тут почувствовал, как дрожит бедро Нунехии, прижатое к моему бедру. Я машинально положил ладонь на ее бедро, и тут же оно дернулось раз и другой. Это уже была не дрожь, а судорога.
– Что ты, что ты?! – повернувшись к ней, успокоительно проговорил я.
– Она всегда так, – вдруг сквозь одышку крикнула старшая, – если не танцует сама, а смотрит, у нее ноги дергаются, танцевать хочет!
И в самом деле – ноги Нунехии как-то странно задергались, а сама она смотрела на них со страхом, будто на нечто живое, ей не принадлежащее.
– А-а-а! – закричала старшая. – Танцуют, умирают!
– Умирают? – неожиданно для самого себя спросил я, сам не зная, кого спрашиваю, и сразу же вспомнил о Друзилле.








