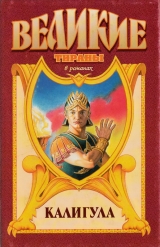
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
– Между моих не проскользнет! – сказал Туллий и, сложив руку в кулак, показал его мне. Да, кулак, это надо признать, был внушительных размеров.
– И в этом я не сомневаюсь, – сказал я осторожно, – но в мире бывает всякое. Видишь ли, враги могут думать, что гвардейцы недостаточно преданы мне. Нет, нет, – предупредил я его возражение, – я ни в ком не сомневаюсь, и особенно в тебе, мой Туллий. Но согласись, что солдаты не могут быть умны и сведущи так же, как и их командир. На то ты и командир, мой Туллий, чтобы быть выше своих солдат, осторожнее, умнее, предусмотрительнее их.
На лице Туллия отпечаталась тяжелая работа мысли. Я не торопил его, я дал ему сообразить. Наконец он понял, важно кивнул и выговорил:
– Это так.
– Так вот, – продолжил я, – коварный враг всегда может найти слабость у солдата и, обманув – только обманув, потому что в их преданности при таком начальнике, как ты, мне не приходится сомневаться, – обманув, может направить против меня. Кроме того, враг может обмануть не одного, а нескольких – они же как малые дети.
– Они все мои дети, – несколько невпопад заметил Туллий.
– Это бесспорно. Но бывает, что и дети восстают против своих отцов. По недоразумению, по наивности. Тебе, мой Туллий, так хорошо знающему жизнь, это известно, должно быть, лучше меня. Скажу больше, я не вижу вокруг себя человека, который бы был столь опытен в жизни, как ты, мой Туллий.
Идиот Туллий был польщен. Он выпятил грудь и весь так надулся, что я подумал, сколь точные прозвища умеет давать народ.
– Это так, – провозгласил он, – у меня большой опыт жизни. Еще когда я служил под началом вашего отца, дело было в Галлии, у местечка…
Но я не позволил ему вдаваться в воспоминания, сказав:
– Об этом мы отдельно поговорим как-нибудь. Я с удовольствием послушаю твои рассказы. Не из любопытства, а чтобы поучиться.
Его лицо выразило досаду, но последняя моя фраза пришлась по сердцу, и он, зачем-то сдвинув брови, заметил:
– Да, мне есть что порассказать.
Я смотрел на него и думал: с какими же людьми мне приходится общаться! И еще я подумал, что никакой настоящей силы у моей власти уже нет, если я стараюсь ублажить этого идиота и не имею возможности послать его подальше, в ту же Сирию, откуда я его привез.
Наступила пауза. Нужно было говорить, но мне не хотелось. Я смотрел на бронзовые пряжки его сандалий и думал о том, что не только император, но и бог имеет власть над людьми только тогда, когда они верят в него. То есть самой власти бога, может быть, и нет совсем, а есть только вера в его власть. Тут Сулла был прав. Я только теперь по-настоящему осознал это. Императорская власть только тогда власть, когда другие, большинство, верят в ее силу. А когда перестают верить, то нет уже ни власти, ни силы. Все определяется верой, а не войсками, деньгами и всем прочим. Моя власть еще называлась властью, но она была уже без силы, роскошные одежды императора болтались в пустом пространстве, и случайный ветер колебал их из стороны в сторону.
И я тут же подумал, что мне надо бежать, иначе они убьют меня. Бежать все равно куда. Я молод, могу прожить еще целую жизнь, а то и две жизни. Никто не вправе отнять ее у меня. Но – опасности, неизвестность, возможно, нищета. Я сомневался, я не знал, стоит ли жизнь власти.
Нужно было поговорить с Суллой, тот всегда подсказывал правильное решение. Но сейчас нужно договорить с идиотом Туллием. Отправить его? Прервать разговор и никогда к нему не возвращаться? Да, так надо было сделать, но я не чувствовал в себе сил для этого. Не я распоряжался собой, а они, они все распоряжались мной – их вера или неверие были моим приговором.
Я сказал себе, что да, побег неизбежен и желанен, но все это нужно подготовить и хорошо обдумать, ведь готовиться к побегу в никуда – это все равно, что готовиться к смерти. А разве я был готов к ней?
И я, подняв голову и через силу улыбнувшись Туллию, сказал:
– Скажи, мой мудрый Туллий, ты признаешь, что император есть отец, подданные – его дети?
– Да, император, – важно кивнул он, – это так.
– И преторианцы, твои солдаты, они ведь тоже мои дети?
Я видел, что Туллий плохо понимает, к чему я веду, и это отпечаталось на его идиотском лице, однако он снова утвердительно кивнул.
Я не стал подготавливать его и сказал прямо:
– Должен заметить тебе, мой Туллий, что здесь ты ошибаешься. Да, народ – дети, и здесь глубокое знание жизни тебя не подвело. Но гвардейцы – не дети или не должны быть моими детьми. Они охраняют меня и должны быть моими братьями. А ты понимаешь, какие братья могут считаться настоящими?
– Ну да… – буркнул он тупо.
– Именно так, – быстро подхватил я, – и я всегда знал, что ты не можешь ошибиться. Правильно, настоящими братьями могут считаться только кровные братья. Так вот, я хочу, чтобы ты сам и твои солдаты стали для меня такими. Ты, как всегда, правильно понял меня.
Туллий Сабон бессмысленно смотрел на меня. Разумеется, он ничего не понял. И я, глядя на него, видел, что вряд ли смогу ему все нормально объяснить. Он, конечно, был идиотом, но я тоже, наверное, находился не в себе – если еще не полный сумасшедший, то уже близкий к полному.
Я если еще не осознавал это, то уже достаточно ясно чувствовал. Но остановиться было невозможно, и я, уже не принимая во внимание тупость Туллия, продолжил:
– Тебе известно, мой Туллий, что у меня есть сестра Друзилла. Я не называю других моих сестер, они не в счет. Это моя любимая сестра, настоящая. Ведь ты знаешь, что я живу с ней.
Тайна эта была известна каждому мальчишке в Риме, но на лице Туллия выразился такой испуг, будто он вот только что узнал об этом. Он даже чуть привстал с кресла, а потом медленно, будто из него выпустили воздух, в него опустился. Он смотрел на меня как на сумасшедшего. И правда, есть вещи – даже и для всех очевидные, – о которых не говорят со слугой. А бедный мой Туллий, несмотря на всю свою дутость, иначе чем слугой внутренне никогда себя на ощущал.
Я уже пожалел, что затеял этот разговор, но отступать было поздно – как мне оставить в Туллии подозрение, что его император просто сумасшедший. Такое подозрение хуже всякой неверности. Откуда я могу знать, какие мысли явятся в его тупой голове!
– Так вот, брат мой Туллий, – проговорил я, изображая голосом и лицом проникновенную задумчивость, – я хочу, чтобы ты стал мне настоящим братом, кровным.
Все это не придумано мной. Ты ведь помнишь нашу первую встречу? Тогда еще я почувствовал в тебе брата, взял тебя с собой, чтобы ты всегда был рядом. Теперь я хочу, чтоб ты стал моим кровным братом. Ты понял меня, брат Туллий?
– Понял, – быстро кивнул он, при этом глаза его смотрели на меня еще бессмысленнее, чем прежде.
– Не удивляйся тому, что я скажу тебе, потому что это брат говорит брату, а не постороннему человеку. Не удивляйся, мой Туллий, но чтобы нам стать кровными братьями, тебе нужно переспать с моей сестрой, Друзиллой.
Неизвестно, как мой язык повернулся, чтобы произнести это. Сделать это было значительно легче, чем произнести.
– И тебе, – продолжал я, – и твоим солдатам. Когда это совершится, мы все будем братьями – и тогда нас никто не победит. Каждый из твоих солдат, соединившись с моей сестрой, станет мне братом. Ты понял меня, мой Туллий? Ты понял меня?
Испуг на лице Туллия сменился недоумением.
– Но, император, – проговорил он, заикаясь, и я заметил капли пота, выступившие у него на лбу, – их больше тысячи человек.
– Не понял, – нахмурился я, – кого больше тысячи?
– Гвардейцев, – сказал он, сглотнув, – не считая вспомогательные войска.
И правда, об этом я как-то не подумал. Туллий Сабон оказался сообразительнее, чем я думал. Даже для моей Друзиллы тысяча человек все-таки многовато.
Но что же мне было теперь делать? Сказать ему, что я ошибся, что гвардейцев слишком много для ритуала породнения? Сказать, что не рассчитал и беру свои слова обратно: забудь, мой милый Туллий, о том, что я тебе говорил? Так? И тогда он уйдет уверенный, что его император безумец. Хорошая новость для заговорщиков! Убедительная новость для тех, кто еще колеблется!
И я сказал, величественно на него посмотрев:
– Я сделал бы это, даже если бы их было три тысячи и даже если бы это был шеститысячный армейский легион. Число тут не может иметь значения – их тысяча, значит, у меня будет тысяча братьев. Иди, мой Туллий, и завтра приходи с командирами когорт, я буду говорить с ними.
Сказав это, я поднялся и сделал плавный жест рукой, отпуская его. Туллий же Сабон не встал, а по-настоящему выпрыгнул из кресла, к тому же еще запутавшись о переднюю ножку, – он едва устоял на ногах.
– Иди же, – проговорил я, – и думай о том, что я сказал тебе.
Туллий склонился передо мной и попятился к двери, а я стоял как изваяние и, видя себя как бы со стороны, очень нравился самому себе, отчего-то подумав: «Почему это евреи не хотят ставить мои статуи в храмах?»
Туллий остановился у самой двери, глядя на меня испуганно и вопросительно; мне показалось, что он стал меньше ростом.
– Ну? – бросил я, нахмурив брови.
– Всех командиров когорт? – пролепетал он.
– Всех! – крикнул я с неожиданной яростью и силой, и мне показалось, что именно сила крика вытолкнула Туллия за порог.
Я рассказал Сулле о разговоре с Туллием Сабоном. Его лицо было непроницаемым: ни одобрения, ни неприятия, ни страха.
– Что ты думаешь об этом? – раздраженно спросил я.
После некоторого молчания он спокойно ответил:
– Император волен делать то, что считает нужным, и для любого подданного воля императора – закон.
– Ты хорошо обучился придворным хитростям, мой Сулла, – сказал я, криво усмехнувшись, и ощутил, что у меня сводит скулы, так что продолжил я довольно невнятно: – Когда ты не хочешь говорить со мной, ты называешь меня императором. В других случаях ты называешь меня Гаем. Правильно? Скажи же, я еще не потерял присущей мне сообразительности?
– Да, император, – ответил он, поклонившись.
– Послушай, Сулла, не играй со мной, – проговорил я, шагнув к нему и беря его за руку, – ведь у меня, кроме тебя, нет никого.
– А Друзилла? – быстро сказал он и осторожно высвободил руку.
– Я жертвую самым дорогим, – с трудом выговорил я, глядя мимо его глаз. – Ты не можешь представить себе, что это такое!
– Могу, – неожиданно отозвался он.
– Что? Что ты такое сказал? – Я взял его за плечи и крепко сжал пальцы и сжимал их еще и еще, сколько хватало сил, пока с удовлетворением не увидел на лице Суллы настоящую гримасу боли.
Не знаю, не могу объяснить, откуда брался во мне этот гнев, которого я не ждал и которого не желал. Я хотел быть мягким, хотел быть добрым к Сулле, и еще я хотел, чтобы он пожалел меня или хотя бы посочувствовал мне; – ведь мне было так тяжело и так одиноко. Но я не мог управлять собой. С Туллием еще умел, а с Суллой нет. И, желая сказать ему что-то самое хорошее, я прохрипел в его лицо, брызгая слюной:
– Я велю тебя мучить, Сулла! Такие мучения, какие я придумаю для тебя, еще неизвестны в Риме! Мучения самого последнего раба покажутся тебе радостью. И тогда я посмотрю, как ты любишь меня, с какой любовью и каким уважением ты будешь произносить, ты будешь лепетать мое имя. Ты сам говорил мне, что любовь должна пройти через страдания, и я предоставлю тебе такую возможность.
Не помню, как он ушел от меня и куда делся. Наверное, я потерял сознание. Во всяком случае, очнулся я в постели. Рядом был врач и блюдо, наполненное кровью, – я с отвращением отвернулся. Все они хотели моей крови! Я велел всем выйти. Врач задержался и просил меня успокоиться, но я так посмотрел на него, что лицо его стало белым и, сделав шаг назад, он покачнулся и едва не упал. О, как я ненавидел их всех! Хотелось отвернуться к стене, закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Если это и есть смерть, то я желал смерти.
Я чувствовал себя слабым – проклятый врач со своим неизменным кровопусканием. Я всегда понимал так, что чем больше крови, тем больше жизни. Потеря крови в бою есть почти верная смерть. Но эти идиоты-врачи считали, то потеря крови облегчает жизнь. Как мне хотелось уничтожить их всех – надрезать им всем вены и посмотреть, как облегчается их жизнь, пока до конца не облегчится.
Превозмогая слабость и дурноту, я повернулся на бок, лицом к стене. И тут же услышал шорох у двери. «Вот и смерть пришла», – подумал я равнодушно и закрыл глаза. Но шорох повторился, на этот раз явственнее. К тому же мне почудилось чье-то слабое покашливание. Не смерть же это покашливала, не решаясь войти!
Я пошевелил ногой и сразу же услышал от двери голос слуги, слабо, едва слышно проговоривший:
– Туллий Сабон и командиры когорт спрашивают о здоровье императора.
Я не сразу понял, о ком он говорит и при чем здесь командиры каких-то когорт. Зачем они здесь? Что им надо от меня? С трудом я развернулся к двери. Слуга стоял у порога, и выражение его лица было жалким.
– Кто? – выдохнул я, и мне показалось, что часть жизни вылетела из меня с этим выдохом.
– Командир преторианцев, Туллий Сабон… – начал было слуга, но не договорил. А я вспомнил.
Ну да, Друзилла, Туллий, тысяча человек, кровные братья… Неужели прошло так много времени? Я хотел сказать, чтобы они уходили, но боялся, что опять выпущу из себя часть жизни, и вместо ответа слабо повел рукой.
Хотел выразить отказ – не знаю, почему слуга понял мой жест совсем по-другому. Он выскользнул в дверь, и уже через несколько секунд она распахнулась и с десяток человек в полном вооружении (почему с оружием, мне неизвестно; они бы еще прихватили с собой значки когорт) с тяжелым топотом вошли и встали у моего ложа полукругом. Впереди всех был Туллий Сабон. Они все разом вскинули руки в приветствии, а Туллий что-то громко провозгласил – я разобрал только «император».
Наступило молчание: они все смотрели на меня, а я обводил каждого глазами. Все они мне были знакомы, с каждым я хоть раз в жизни разговаривал. Но сейчас их лица казались мне совершенно чужими, будто я видел их впервые. Пространство комнаты заполнилось запахом острого мужского пота, смешанного с запахами ремней, духом их дыхания. Это были командиры элитных частей, дорого и богато одетые, но все равно от них пахло казармой. Неизвестно, как я мог только подумать, что отдам им Друзиллу. Мою Друзиллу этим…
Молчание длилось довольно долго. Первым прервал его Туллий. Я был слишком слаб и вздрогнул, когда он заговорил. К тому же говорил он очень громко, будто забыв, где находится и с кем говорит. Впрочем, в присутствии подчиненных ему было привычнее говорить именно так. Добавлю: как в казарме.
– Император, – глядя на меня каким-то особенно пристальным взглядом, как бы даже сквозь меня, заговорил он, – я рассказал им всем, – он обвел стоящих широким жестом, – что ты желаешь стать нашим братом. Мы понимаем тебя, преданы тебе, готовы служить… – тут он как бы запнулся и продолжал, уже глядя в пол: – Только мы думаем, что нехорошо, если ты породнишься с нами и с простыми солдатами одинаково. Солдаты должны видеть отличия, а то какие же мы тогда командиры! И мы, командиры, тоже отличаемся друг от друга: одни служат давно, другие недавно, у одних больше наград, у других меньше. Мы все с этим согласны и хотим, чтобы ты сам определил очередь.
– Какую очередь? – пролепетал я едва слышно и снова почувствовал, как часть жизни вышла из меня вместе с этой фразой.
– Как же, очередь породнения с тобой, – ответил Туллий, но, видя, что я не понимаю, пояснил: – Я, император, солдат и буду говорить прямо. Первый с твоей сестрой должен быть я как командир гвардии. С этим все согласны. Но очередность для остальных ты должен определить сам. Мы верны тебе и примем твое решение беспрекословно.
Теперь я понял, о чем он говорил. Нужно было вскинуть руку, крикнуть, выгнать всех вон. Но я не только не был способен кричать или резко шевелить рукой, но не мог даже тихо ответить. Тем более что не знал, что же нужно отвечать на такое. Мою Друзиллу в очередь к этим солдафонам! Да они все с ума сошли! Я вижу перед собой толпу сумасшедших с Туллием Сабоном во главе.
Если бы были силы для гнева, он бы проявился с невероятной силой – никто из них не ушел бы отсюда живым. Но сил не было, а был страх и ощущение собственной немощи – не физической только. Я вполне понимал, что ничего с ними поделать не смогу и Друзилла – моя сестра, жена, моя единственная – обречена на это мерзкое породнение. И если я скажу «нет» – я обречен. Наверное, я и без этого обречен, но если отвечу «нет», то все произойдет слишком скоро, и я не смогу…
Тут мне пришла в голову спасительная мысль: если я скажу «нет», то не смогу спасти Друзиллу. Ведь если убьют меня, то не пощадят и ее. А так, с «породнением»… Все равно это лучше, чем смерть. Значит, с «породнением» я придумал все правильно, мудро и дальновидно. Не в жертву я приношу Друзиллу, а спасаю ее.
Я снова обвел взглядом стоявших у моего ложа людей. Сейчас я смотрел на них без злобы и даже доброжелательно: хорошие солдатские лица, тренированные тела – Друзилле с ними будет не так уж плохо.
Посмотрев на них так, я почувствовал себя лучше. Уже не ощущалось той слабости в теле и того страха и, главное, той обреченности, что была только что. Я снова был император, передо мной стояли командиры моих гвардейцев, мужественные и преданные солдаты, опора государства и трона. И почему бы не дать им в награду за преданность частицу самого дорогого? Я говорю частицу, потому что не на весь же век отдаю им мою Друзиллу!
Я так окреп в эту последнюю минуту, что сумел приподняться на локтях. Туллий Сабон шагнул, чтобы помочь мне (остальные, как видно, не решились), но я улыбнулся ему и сделал отрицательный жест.
– Ты все правильно сказал, мой Туллий, – почти торжественно выговорил я, – солдаты и командиры не могут стоять на одной ступени. Спасибо, что ты подсказал мне это. Что же до очередности, то здесь все просто: все вы мужественные и преданные воины, я не выделяю никого из вас, потому что все вы мне дороги одинаково. Поэтому очередность «породнения» будет проста – сначала Туллий Сабон, потом командир первой когорты, потом второй, третьей и так далее. Все согласны с таким порядком?
– Все, – разом ответили они.
– Тогда ступайте, братья мои, – провозгласил я, – и помните, что император думает о вас!
Они отсалютовали мне особенно отчетливо, забряцали оружием, затопали и, сгрудясь у двери, толкая друг друга, покинули комнату. Последним шел Туллий Сабон. Я остановил его и велел вернуться. Он вернулся к моему ложу, выражение лица его, когда он подошел, было гадким: смесь услужливости и панибратства. По-видимому, он уже чувствовал себя моим братом.
– Ты, конечно же, хорошо знаешь женщин, мой Туллий, – сказал я, несколько игриво поведя бровями. (Этот болван гадко улыбнулся и утвердительно кивнул). – И потому тебе известно, что женщины значительно глупее мужчин. (Он кивнул еще раз). И потому тебе понятно, что женщина лучше всего подчиняется силе, а не уговорам и даже приказам. А знатная женщина тем более. (Туллий изобразил губами нечто такое, что должно было означать, что он-то уж хорошо знаком с нравами знатных женщин.) Моя сестра Друзилла предана мне, но она тоже женщина и избалована близостью к императору. Она, конечно, сделает то, что я хочу, но может не сразу понять нашу с тобой идею «породнения». Она, конечно, поймет, но позже, а сразу может не все понять, и даже ничего не понять. А у меня нет времени на уговоры. Поэтому нужно взять ее силой, а понимание придет потом, само собой. Так вот, завтра в полдень я буду разговаривать с ней. А ты возьми двух-трех человек из числа своих командиров, и будьте наготове. Если я крикну: «Тогда убирайся вон!» – ты со своими людьми войдешь ко мне и заберешь мою сестру с собой. Зажмите ей рот, если она станет кричать. Ну, знаешь, как это делается. Приготовьте какую-нибудь материю, чтобы завернуть ее, и носилки, чтобы быстро ее увезти. Понятно, что никто ничего не должен заметить: наше породнение только наше дело. Ты понимаешь меня, мой Туллий?
– Не беспокойся, император, все будет сделано, как надо, – отвечал он очень серьезно и уже не с таким отчетливо гадким выражением на лице.
– Только имей в виду, вы не должны причинить ей никакого вреда – не забывай, что это сестра твоего императора!
– Ни один волос не упадет с ее головы, ручаюсь честью солдата! – воскликнул этот болван. – Никто не посмеет… – начал было он, но я не дал ему говорить.
– Хорошо, хорошо, мой Туллий, я верю тебе и во всем на тебя полагаюсь. А теперь иди, мне надо отдохнуть.
И величественным жестом руки, который я мог теперь себе позволить, я отпустил его.
Всю ночь мне снились кошмары. Не помню, что именно, но что-то тяжелое, страшное наваливалось на меня и душило, душило, обдавая лицо нечистым дыханием.
Я почти совсем не спал, но, странно, наутро не чувствовал себя разбитым, а от вчерашней слабости не осталось и следа. Я подумал, что мне нужно выйти на воздух, в лес или к морю – освежиться, забыть обо всем. Но тут же, лишь только я об этом подумал, я вспомнил о Туллии и нашем с ним вчерашнем разговоре. Мне стало неприятно, но не настолько, чтобы настроение испортилось окончательно. Я подумал, что нужно поскорее ПОКОНЧИТЬ все это дело с Друзиллой, освободиться от него и потом уже отправиться на прогулку. Распорядился приготовить лодку и чтобы, кроме гребцов, там больше не было никого – так хотелось побыть одному. Потом еще бесцельно походил из угла в угол и наконец, вздохнув, велел послать за Друзиллой.
Она пришла так быстро, что, казалось, была где-то недалеко от дворца и только ждала моего приглашения. Когда она вошла, я приоткрыл дверь и приказал слугам и солдатам у двери уйти: свидетели, даже и самые молчаливые, были мне сейчас ни к чему.
Друзилла, как и обычно, бросилась мне на шею, но я холодно и решительно отстранил ее. Она обиженно на меня посмотрела, присела на край ложа и стала смотреть в угол. А я, стоя над ней, сказал:
– Послушай, настало время доказать твою любовь ко мне. Я хочу, чтобы ты выслушала меня спокойно и с пониманием.
Она подняла голову. Она улыбалась, и следов обиды уже не было на ее лице – смотрела с любовью и желанием.
– Внимательно слушаю тебя, Гай, – произнесла она кокетливо.
– Оставь этот тон, Друзилла, – строго сказал я, – разговор будет серьезным.
– Но у нас всегда серьезные разговоры, Гай, – не желая прислушиваться ко мне, улыбнулась она, – с самого, как ты понимаешь, детства. Еще когда мы с тобой гуляли в нашем парке и ты впервые повалил меня на траву.
Если бы я не знал Друзиллы, я был бы уверен, что она издевается надо мной. Но я очень хорошо знал ее – она не издевалась, а просто была сама собой. Другой Друзиллой она, по-видимому, уже не могла стать.
Я схватил ее за руку и сильно дернул. Она вскрикнула, отняла руку, на глазах ее блеснули слезы. Простонала, растягивая звуки:
– Бо-ольно!
– Будет еще больнее, – со злобой сказал я, делая движение рукой, будто снова хочу схватить ее.
Она отстранилась, посмотрела на меня с испугом. Испуг был настоящим, не очень глубоким, но достаточным, чтобы я мог говорить, а она слушать. Собственно, этого я и добивался.
– Слушай, – проговорил я, надвинувшись на нее, – я никогда не говорил с тобой о государственных делах, а сейчас нужно поговорить…
– Но, Гай!.. – жалостливо перебила она меня.
– Молчи и слушай, если не хочешь, чтобы я снова сделал тебе больно. (Она поняла, что я не шучу, и вжала голову в плечи.) Если не понимаешь, то хотя бы послушай. Но я желаю, чтобы ты поняла, потому что от этого зависит многое. Возможно, что зависит все.
– Что зависит? – все-таки вставила она.
– Зависит все: наша власть, твоя и моя жизни, спокойствие Рима, в конце концов. В гвардии неспокойно, в Иудее назревает бунт, денег в казне мало. Это только часть наших проблем, но о других тебе и знать не надо.
– Но, Гай, – осторожно произнесла она, – при чем здесь Иудея? Ведь я в этом ничего не понимаю.
– Иудея здесь и в самом деле ни при чем, и в этом деле тебе понимать ничего не надо. Но гвардия… С гвардией все сложнее. Наше положение таково, что в Риме преторианцы решают все. Вспомни Тиберия и начальника преторианцев Макрона. Вспомни, как я стал императором. Вспомни, кто сделал меня императором!
– Я знаю, – вдруг зло и без всякого страха воскликнула она, – ты спал с женой Макрона, с этой мерзкой Эннией. С этой гадкой Эннией, у которой волосатые ноги и вислый зад. Я помню, куда она водила тебя и чем вы там с нею занимались. Как ты мог, Гай, спать с этой мерзкой шлюхой!
– Замолчи! – крикнул я, но не очень уверенно.
Друзилла замолчала, но теперь она прямо смотрела на
меня, гордо откинув голову, и в глазах ее не было страха. Воистину, ревность любящей женщины сильнее всего.
Я несколько растерялся, чувствовал, что Друзилла уже не боится меня и скорее это я боюсь ее ревности. Еще несколько мгновений такого молчания, и победа была бы за ней. Но тут я нашелся. Друзилла подсказала, неведомо для себя, нужное продолжение. Сам бы я, верно, никогда не догадался.
– Да, я спал с Эннией, – проговорил я одновременно и жестко, и как бы чуть жалея себя, – и ты права, у нее были волосатые ноги и вислый зад. Более того, ты не знаешь, как от нее дурно пахло, когда она занималась любовью. Кто бы знал, как мне было невыносимо. Меня тошнило от ее запаха, едва ли не рвало. Ты этого не знаешь, а я это помню хорошо. Ты думаешь, что мне доставляло огромное удовольствие шататься с нею по притонам и быть рядом, когда она совокуплялась с разным сбродом? Мне было противно, но я терпел, потому что я хотел быть императором. Я терпел, потому что Рим уже не мог переносить Тиберия, а он все не умирал. Я терпел, потому что нужно было помочь ему умереть и самому стать императором, чтобы спасти Рим.
Она все еще прямо смотрела на меня, но в выражении ее лица уже была растерянность и голова уже не была так гордо откинута.
Я все-таки был замечательным актером, и только тупая толпа не могла уразуметь этого. Кто бы видел сейчас, какую великолепную паузу я сумел выдержать! Ни один актеришка во всем Риме – из числа тех, кто считаются великими, – не смог бы сыграть лучше.
– Я терпел, – продолжил я уже по-настоящему трагическим голосом (в нем были и боль, и гнев, и стыд, и гордость), – шел на самые страшные унижения, чтобы спасти Рим. А ты в это время жила в свое удовольствие, спала, с кем хотела, делала, что хотела. Тебе не нужно было ходить по притонам и отдаваться всякому, кто бы тебя захотел! И ты еще смеешь упрекать меня. Где же справедливость, о боги!
Я выговорил это и отвернулся. На моих глазах выступили слезы. Самые настоящие, и ни одному лицедею не снилась такая игра.
Снова наступила пауза. Но в этот раз требовалось, чтобы вступила Друзилла. И она сказала, осторожно тронув мою руку:
– Но я же не знала, Гай. Я не понимала ничего, прости меня, прости!..
– Разве в этом дело, – проговорил я с грустью (трагический тон был бы сейчас неуместен), – ты ни в чем не виновата, и мне не за что прощать тебя. Ближе тебя у меня нет никого на свете. Я всегда любил и люблю тебя одну. Ты и представить не можешь, как ты мне дорога!
Действие комедии развивалось так, как я хотел, только Друзилла думала – что было особенно комично и что составляло всю соль представления, – она думала, что это трагедия.
– О Гай! – самым трагическим тоном воскликнула она и, встав, обняла меня нежно за плечи, уткнувшись лицом в мою грудь. – О Гай!
Да, я в самом деле вошел в роль, потому что, когда я заговорил, в моем голосе звучали слезы. Не ложные, а уже настоящие.
– Ты самое дорогое, что есть у меня, – с трудом выговорил я, проведя ладонью по ее волосам (при этом я почувствовал, что туника на груди стала мокрой: Друзилла плакала беззвучно). – И ты не представляешь, как страшно мне просить у тебя то, что я хочу попросить. Мне легче умереть, чем сказать тебе это.
– Я все сделаю, все сделаю… – не отнимая лица от моей груди, глухо выговорила она.
– Но ты не представляешь себе, чего мне это стоит. Я не выдержу, я чувствую, что сердце мое разорвется на куски.
– Нет, нет, Гай, скажи, я прошу тебя!
Я снова выдержал паузу – при этом дрожь охватила все мое тело – и только тогда сказал:
– Мы попали в безвыходное положение, и только ты, Друзилла, можешь спасти империю. Заговор преторианцев я разгадал слишком поздно, и силой оружия и своей властью я уже ничего не могу сделать. Но я разговаривал с ними, я смело пошел на разговор. Они могли там же убить меня, но я сумел с ними договориться. Они требуют тебя, Друзилла.
– Меня? – спросила она, подняв голову и посмотрев мне в глаза.
Но я не мог (тут, по-видимому, все же не хватило актерства) смотреть ей в глаза и, взяв ее голову обеими руками, снова крепко прижал к груди.
– Эти скоты потребовали, чтобы ты переспала с ними: с Туллием Сабоном и со всеми начальниками когорт, – гневно проговорил я и быстро добавил: – Их не так много, всего девять человек.
Тут я, конечно, сказал не то, и если бы не весь мой прежний трагизм и натуральные слезы, то, думаю, Друзилла разгадала бы мою игру или хотя бы почувствовала фальшь. Но она не почувствовала, и я продолжал:
– Я ответил им отказом, я сказал, что они могут убить меня здесь же, но никогда не получат моей Друзиллы. Я отказался, но что из того – сила на их стороне, и, чтобы призвать верные мне легионы, мне нужно время. Я знаю, как расправиться с ними, но мне нужно всего каких-нибудь несколько дней. О, если бы боги даровали мне эти несколько дней! Какую бы казнь я им придумал! Но времени этого у меня нет, и я уверен, что они уже ждут за дверью. Я сказал тебе обо всем этом, потому что ты, самый близкий мне человек, потому что ты – это все равно что я сам, потому что мы одно целое. Но я никогда не позволю тебе пойти на это! Мы умрем вместе! Пусть они входят – мы обнимемся и так примем смерть!
И, проговорив все это, я сжал ее что было сил. Она дернулась в моих объятиях раз и другой и наконец подняла (я чуть расслабил руки) голову.
– Нет, Гай, – произнесла она так, что у меня самым настоящим образом все похолодело внутри и я готов бы разрыдаться. – Нет, я согласна, я так люблю тебя. Я сделаю, как они хотят, но только чтобы… чтобы тебе было хорошо.
– Что ты такое говоришь! Замолчи! – гневно вскричал я, уже не понимая, наигранный это гнев или настоящий.
Но она опять сказала, что согласна, что ради меня она готова пойти на смерть, а унижение все-таки не смерть, хотя бывает, что и хуже смерти.
Она так говорила, повторяла одно и то же раз за разом, то ли меня убеждая, то ли себя саму. Мне бы радоваться, что все так неожиданно хорошо получилось, но радости не было в моей душе. Напротив, я чувствовал раздражение и досаду – слишком все как-то легко получилось. И Друзилла согласилась слишком легко. Я стал думать, что, может быть, она сама хочет этого – сильные мужчины, новые ощущения; она жертва и все такое прочее, что дает женщине особенное удовлетворение. Удовольствие изысканно-порочное, болезненно-сладкое.








