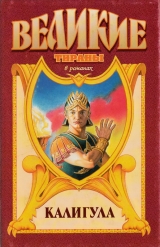
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
– Тщета, – говорил Сулла.
И я знал, что тщета. Но по слабости хотелось верить, что есть.
Когда мы остались одни, я старался не быть грубым и даже старался, чтобы движения мои были замедленными. Так я понимал торжественность момента. Но я не знал, в какой очередности что нужно делать, и никто не научил. Разве что у Суллы спросить. Но вряд ли знал и он. К тому же не хотелось спрашивать. Впрочем, он был тут же, за дверью, как я ему приказал. Я велел смотреть из-за занавески на все, что будет у нас происходить. Он, правда, тоже заикнулся о торжественности момента, но я не стал его слушать.
Мне хотелось испробовать это блюдо: торжественное человеческое брачное соитие. Я спросил Юнию, может, она хочет есть. Она испуганно ответила, что не хочет.
– Тогда пора ложиться, – сказал я. Не очень уверенно, больше вопросительно, чем утверждая.
Кажется, она ответила: «Да». Или не отвечала, но я так понял.
Я подошел к ней и стал ее раздевать. Она стояла неподвижно, не сопротивлялась, но и не помогала. Ее тело, когда я нечаянно до нее дотрагивался, казалось мне холодным. Оно и было холодным, я внимательно его ощупал: плечи, грудь, бедра. Грудь совсем маленькая, то, что называется девичья, от которой я, по всей видимости, должен был прийти в восторг и трепет. Так утверждали поэты. Но ни восторга, ни тем более трепета я не испытал и не мог понять, что это такое. Ведь даже желания я не испытывал. Я бы испытал большее желание, если бы трогал мраморную статую, там мне помогло бы воображение. Здесь мне ничто не помогало. Что постепенно проявилось во мне, так это раздражение: казалось, она могла так стоять сколько угодно времени. Наверное, я мог лечь и уснуть, мог пригласить Суллу, даже мог привести другую женщину, а Юния все стояла бы на том же месте. В самом деле, неподвижная, как статуя. Или, правильнее, статуя. Нужно будет приказать слугам поставить ее в свободную нишу и своевременно вытирать с нее пыль – пусть она смотрит на мою жизнь или просто стоит, не видя ничего. Брак – это когда женщина постоянно в доме мужа. Так пусть она и будет здесь постоянно.
Я ущипнул ее, она даже не вскрикнула. Тогда я ущипнул ее еще раз и просто повалил на постель, как самую последнюю… Она закричала, я все-таки добился своего. Но в крике была только боль и совсем не было страсти. Зато крови вышло много: как видно, мой меч глубоко вошел в ее тело. Я не повторил, хватило и одного удара. Материя под ней вся пропиталась красным. Я обернулся к двери: «Видишь, все равно как если бы я убил ее». – «Ты и убил», – ответил Сулла.
Юнию я не помню совсем, будто ее никогда не было со мной. В самом деле, я убил ее тогда, в первую нашу ночь. Вернее, нанес смертельную рану, потому что умерла она при родах. Скорее всего, тогда ко мне впервые пришло понимание, что я бог. А у бога не может быть супруги. По крайней мере, смертной.
Я сказал Сулле:
– Скажи, разве я не бог?
– Ты бог, – отвечал он.
– Я имею в виду настоящего бога, того, что выше всех остальных богов, – продолжил я.
– Я тоже это имею в виду, – спокойно сказал он. Очень спокойно и очень обыденно.
– И я всегда им был? – Я спросил, но все-таки приглушил интонацию вопроса.
– Ты это знаешь сам. – Он отвечал спокойно и утвердительно.
Убить. Мне хотелось убить его. Но еще больше хотелось спросить: что я знаю? Но убить было легче, чем спросить.
Богом не становятся, а рождаются. Это я понимал твердо, хотя много раз старался не понимать. Или понимать не так твердо. Знал, что истина, но хотел сомневаться. Сомневаться в истине не так трудно, много труднее принять ее несомненно.
Я говорил себе: если я быстро дойду до самого верха, то я и есть бог. Но, дойдя до самого верха, я стану императором, но не богом. Будут говорить «Божествен-
– 58 -
ный», как об Августе. Но все равно: «Божественный Гай», а не бог. Бог не нуждается в прилагательном. Никому в голову не придет назвать Юпитера божественным. Он просто Юпитер. И просто бог.
Проклятый Сулла. Он говорит о бессмертии, но бессмертие может быть только у бога, а богом сделаться нельзя. Значит, и разговоры о бессмертии есть пустые и лживые разговоры. Как мне хотелось призвать его к себе и бросить ему в лицо доказательства его лжи. Нет, не призвать. Но чтобы его привели окровавленного, едва держащегося на ногах от пыток. И лучше – уже не понимающего того, что я ему говорю. В самом деле, больше его смерти хочется увидеть взгляд его глаз без смысла.
Я бы так и сделал, мне ничего не стоило так сделать, тем более тогда, когда я стал императором. Но я не сделал. И ничего не говорил ему о своих сомнениях, ни единого слова. Все, что он говорил, – ложь. Но все, что он говорил о моем бессмертии, – правда. Я не верил в эту правду, но она оставалась правдой. Ведь и в истине, что богом может быть только тот, кто рожден богом, я тоже сомневался, но истина оставалась истиной.
Иногда я чувствовал с самой настоящей определенностью, что всегда был богом. Если не вспоминать свою жизнь, а только чувствовать ее, то так оно и было. Но если вспоминать, то я значительное время не был богом. Нет, впрочем, и в этом я сомневаюсь, потому что вполне возможно, что я просто был таким богом. Таким, который и бог, и человек одновременно.
Энния Невия. Я любил ее? Хотел ее? Любил в той же степени, в какой хотел любую другую женщину. Я себе не говорил, что она жена Макрона [9]9
…Макрона, командира преторианских когорт, – Преторианцы (от лат. pretoriani) в Риме первоначально охраняли полководцев, затем так стали называть императорскую гвардию, которая в конце концов превратилась в главную движущую силу дворцовых переворотов.
[Закрыть], командира преторианских когорт [10]10
Когортами (от лат. cohors) называли подразделение легиона, они состояли в среднем из 360–600 человек, легион, в свою очередь, состоял из 10 когорт. При Августе преторианцы сформировались в 9 когорт по 1000 человек. Макрон Невий Серторий – военачальник, командир преторианской гвардии при Тиберии и Калигуле; подавил заговор своего предшественника Сеяна и сменил его на этом посту. Вступив в связь с женой Макрона Эннией Невией, Калигула проложил себе дорогу наверх. Согласно некоторым историческим данным, Калигула впоследствии принудил Макрона и Эннию к самоубийству.
[Закрыть]. Преторианские когорты были тут ни при чем. И близость его к Тиберию тоже была ни при чем. Но все-таки все так счастливо сложилось, что были и Энния, и преторианские когорты, и близость Макрона к Тиберию. Я, молодой бог, хорошо эту связь почувствовал. И связь эта еще больше разжигала мое желание. Мое страстное, беспримесное, бескорыстное желание.
Она сопротивлялась не очень долго и, конечно, только для вида, потому что не могло быть такого, чтобы она не хотела меня. Не было такой женщины, которая могла бы не хотеть меня. Энния изображала холодность, и неприступность, и полное равнодушие к моему желанию. Она говорила мне, что я еще мальчик, а она… Она так говорила: «Ты еще мальчик, а я…» – и не договаривала, и выдерживала на лице холодное равнодушие, пока я не уходил. Я же смеялся про себя всякий раз, когда уходил от нее, представляя, как равнодушие падает с ее лица, а настоящее выражение – досада – испуганно на нем остается. Я бы не уходил и сразу бы схватил ее, если бы не имел других (кроме удовлетворения страсти), более важных целей. Мне нужно было, чтобы она ощутила мою любовь. Любви я не знал, но ощутить ее ей было необходимо. Женщинам очень надо, чтобы их любили. В первую очередь любили, а хотели бы уже во вторую очередь.
Я являлся к ней, делая выражение лица таким, будто у меня болят зубы, и говорил ей, что не могу жить, не видя ее. Я не учился у поэтов, я был умнее их. Восторги и потоки слов тут были ни к чему, а нужно было говорить: не могу жить, не видя. И все. Капать в одну точку. Так разрушаются самые твердые камни.
Некоторое время спустя она уже ждала, чтобы я бросился на нее, и уже не досадовала, но раздражалась, что не бросаюсь. Но я выдерживал до самого последнего. Мне это было нетрудно, потому что никакой особенной страсти я не испытывал и весь мой ущерб – потраченное время.
Она сдалась. Она сказала, чтобы я больше никогда не приходил, потому что ей тяжело видеть меня. Никакого равнодушия уже не было на ее лице, одна только оскорбленная невинность. Она, о любовниках которой знал весь Рим. Я усмехнулся. Только про себя. Как легко обмануть женщину! Ушел я с тем же выражением зубной боли на лице.
Макрона в то время не было в Риме. Я выждал четыре дня. Необходимо было, чтобы она дозрела окончательно. На пятый день, поздно вечером, я отправился к дому Эннии. Я мог беспрепятственно войти через двери, но я полез в окно. Охрана видела меня, но ни один из них не посмел заметить моего маневра. Я не скрывался и даже намеренно шумел, чтобы она услышала. Она вскрикнула, когда увидела меня в окне, но вряд ли кто-нибудь, кроме меня, мог слышать этот вскрик: такой он был осторожный. Я молча бросился на нее. Но она с неожиданной силой оттолкнула меня. И вскрикнула снова, в этот раз значительно громче, злее, и уже не для меня одного. Правда, никто не прибежал на ее крик, но сам я невольно расслабил руки, и она окончательно оттолкнула меня, и я, неловко поставив ногу, упал перед ее постелью. Я сейчас же поднялся, но снова броситься на нее уже не смог, Не скажу, что не посмел, но все же не смог.
– Вот так, – сказала она, – сейчас я позову слуг, и тебя схватят, как преступника.
Она не смотрела на меня гневно, и никакой особенной решительности не было в ее взгляде. Впрочем, я и без того понимал, что никого она звать не станет. Но удивление и досада были во мне. Больше удивления, чем досады. Еще бы, ведь она смотрела на меня, ожидая. Чего? Этого-то я и не мог понять. Во всяком случае, не того, чтобы я бросился на нее снова. Или скорее того, но как-то по-особенному.
Она сказала:
– Владея мною, ты будешь владеть преторианской гвардией Макрона, но чем буду владеть я?
Я чуть было не сказал: мной. Но, благодарение богам, эта глупость не сорвалась с моего языка. Напротив, я сказал самое умное из того, что можно было произнести:
– Императором. Ты будешь владеть императором.
– Тиберием? – сказала она с усмешкой.
– Мной, – произнес я твердо.
– А ты будешь императором? – спросила она.
– Ты это знаешь сама, – то ли произнес, то ли только подумал я.
Но я уже был императором и смотрел на нее императором. Я был как статуя Юпитера или Аполлона. На нее смотрел не император, на нее смотрел бог. Если бы не мое неловкое падение у ее ложа, я бы, наверное, повернулся и вышел. Гордо, божественно гордо, и через дверь. Мимо онемевших слуг, мимо застывшей охраны. Мимо преторианской гвардии Макрона, выстроившейся вдоль стен ограды. Я прошел мимо Макрона, как знака императорской власти. Я пошел дальше. Я не заметил, как ступни оторвались от земли, я только почувствовал влажную ласку облака, которое прорезал наискось. Я никого уже не видел и не желал видеть. Солнце встало передо мной, но я прошел мимо солнца. Оно осталось далеко внизу и только мягко подсвечивало бездонную глубину передо мной. Мне не нужно было оглядываться кругом – не было никого, только я один. Боги умерли, я стал единственным богом.
Это была, может быть, счастливейшая минута моей жизни. Вот тогда и нужно было умереть человеком, чтобы обрести бессмертие бога. Единственное бессмертие единственного бога. Лучше всего, если бы Энния убила меня или вбежавший на ее крик стражник. Или слуга. Или хоть кто угодно. Но разве им могло быть доступно понимание этой минуты?
А Энния сказала:
– Да, может быть, ты и бог, но мне нужна твоя клятва и твоя расписка. Может быть, ты и бог, но я женщина и всего-навсего хочу быть законной женой императора.
На этом последнем ее слове – «императора» – закончилась моя лучшая минута. Я очнулся. В самом деле, я еще не был императором.
Я спросил. Она ответила, что хочет клятвы. Я тут же поклялся: она будет женой императора, как только я сделаюсь императором. Скорость моего согласия и четкость, с какой я произнес клятву, не удовлетворили ее. Она потребовала расписки в том же самом. И указала на столик в углу, где все уже было приготовлено. Для меня, я уверен в этом. Я молча подошел, сел и написал то, что она просила. Подал ей. Она прочитала внимательно, один раз и другой. Усмехнулась. Но, кажется, была удовлетворена.
– А теперь иди любить меня. – И легла на спину, раскинув руки в стороны.
Как я сожалел, что не догадался взять с собой Суллу. При нем я мог сделать все что угодно, и никакое унижение, никакие клятвы и расписки не могли стать преградой. А так… Как в этом ни стыдно признаваться, я готов был выпрыгнуть в окно. В самом деле, броситься на нее сейчас было все равно, что броситься на выставленные мечи преторианцев Макрона. Сам не знаю, почему я так говорю.
Но я не был бы богом, если бы отступил. Разве не я только несколько минут назад хотел умереть? Человеком. И что мне какие-то мечи каких-то жалких преторианцев! Тем более мнимые. И я бросился на нее. Страсть моя, по крайней мере вначале, была от злости, а не от желания, но проявления ее от этого не ослабели. Разве я мог знать, что страсть моя не была ей особенно нужна.
Как она кричала! Мне казалось, что она не только перебудила весь дом, не только заставила охрану на улице прислушиваться к душераздирающим крикам, но, наверное, на Капри рыхлый Тиберий в страхе передернул всеми членами своего полуразвалившегося тела: не его ли это собственный предсмертный крик?
Она была умелой любовницей. Больше того, неутомимой. Больше того: бесстыдной. Тогда еще я подумал, снова вспомнив гвардейцев Макрона, что стоит за незыблемостью власти: бесстыдство, необузданность, хитрость женщины.
Я в самом деле чувствовал себя мальчиком, орудием ее страсти. Она вела меня в конюшню, заставляла подвешивать на крюках, вбитых в балки потолочного перекрытия. Веревки впивались в ее тело – ведь она была грузна, – оставляя кровавые полосы. Она раскачивалась, и кричала, и корчилась на весу от страсти. Я должен был раскачивать ее, она кричала:
– Выше! Выше! – и при каждом моем прикосновении содрогалась всем телом.
Потом я перерезал веревки и нес ее в постель. Потом должен был мазать кровоподтеки маслом, потом слизывать все масло языком, потом оправляться на нее и снова слизывать… То, о чем я рассказываю, только малая часть приемов, которыми она мучила меня. Ее спальня пропахла мочой и потом.
Она вдруг отпадала от меня и засыпала мгновенно в полном изнеможении. Я уходил. И не возвращался к ней два или три дня. Нет, не отдыхал, как может показаться – в чистоте, неге и приличии, – но шатался по кабакам. Снова переодевшись в простое платье, с накладными волосами. Странно, но после Эннии я с каким-то особым, до того мне неведомым наслаждением вдыхал острые запахи нищеты и разврата: пота, мочи, прокисшего вина, скользкой, липкой, источавшей ядовитые пары грязи. Мне хотелось кататься по этой грязи, набирать в ладони и пропускать сквозь пальцы, обонять ее, может быть, есть.
Когда я ей сказал, что сидел дома, она ответила:
– Не выдумывай и не думай, что я сержусь. У меня везде шпионы, а ты напрасно полагаешь, что накладные волосы могут скрыть тебя от меня. – И она сказала, что больше всего желает тоже пойти со мной «туда».
Я видел, как ноздри ее затрепетали от предвкушения остроты запаха. Конечно, мы пойдем вместе. Да и сам я этого хотел. Я сказал ей, чтобы она оделась, как нужно.
– Не беспокойся, – ответила она.
Когда я увидел ее, то понял, что беспокоиться и в самом деле не о чем. Никаких накладных волос, никакого плаща, скрывающего тело, никакого капюшона, скрывающего лицо. Все открыто, и даже предельно открыто. Собственно, это была никакая не Энния, не патрицианка, не жена человека, повелевавшего гвардией – гвардией, хранящей власть императора. Это была проститутка, из самых низких: вызывающий наряд, вызывающе размалеванное лицо, плохо уложенные, нечистые волосы. И запах, тот самый – дешевых притираний, едкого пота, ядовитых паров липкой грязи. Той самой. Не подделанной, но определенно той самой, в которой мне так хотелось кататься.
Чем мы занимались в этих липких сумерках? Да все тем же, чем там занимались другие – люди мрака и грязи, пота и крови. Мы пили, орали песни, плясали до изнеможения, толкаясь среди липких тел, и совокуплялись так же, как совокупляются они, – где попало, без стыда, с воплями и бранными словами. Так хотела она, и не против был я. Она вдруг оставляла меня и уходила с солдатом в какую-то грязную подворотню. Возвращалась со следами грубости на руках, плечах, шее и совала мне в руку несколько мелких монет. Шептала горячо:
– Еще, еще, пошли меня еще! – Уходила, возвращалась, совала в руку монеты.
Однажды, когда я пошел за ней, – получил удар ножом. Лишь только переступил полосу света и темноты. Я ударил ногой в темноту, скорее инстинктивно, чем защищаясь. Раздался стон. И тогда я еще раз с силой пнул в то же самое место, почувствовал, что попал в мягкое, и бросился вперед. Нападавший побежал, я не стал преследовать его. Нож только скользнул по руке у левого плеча, рана была несерьезной. Зажимая порез ладонью, я прислонился к стене.
И тут услышал сопение и стоны. Сопение было мужским, стоны принадлежали Эннии. Глаза привыкли к темноте: Энния лежала прямо на голой земле, а что-то грузное, мужское, тяжело сопело над ней. Я сделал к ним короткий шаг, но остановился, замер и попятился. Мне совсем не хотелось уходить, напротив, мне хотелось смотреть на них, слышать мужское сопение и женские стоны, вдыхать тяжелый, острый, ядовитый, уже отравивший меня, проникший во все мое существо запах. Но будто какая-то сила тянула меня против моей воли назад, к черте света. Я вышел из темноты. Я больше ничего не слышал. Я видел темноту перед собой и ощущал свет за плечами.
Я не ушел, хотя теперь, выйдя на свет, хотел уйти. Дождался Эннию. Она вышла, шатаясь из стороны в сторону, краска размазана – по лицу, грязь – по телу.
– Что за народ, – едва слышно проговорила она, плохо владея речью, – я так старалась, а он ничего не дал, ни одной монетки.
Я отвел ее домой.
Проводя все это время с Эннией, я совсем забыл о Макроне и его преторианской гвардии. И немудрено – кабаки, подворотни, вино, дикие пляски располагают совсем к другим мыслям. А точнее, не располагают к ним совсем. Мне уже не желалось быть ни императором, ни богом, вообще ничего не желалось. Я сильно уставал и истощался. Сила выходила из меня, а свободное место занимали бессилие и равнодушие. И жизнь катилась так, как катилась, и перед глазами был туман. Зачем мне нужна Энния, я тоже сказать не мог. Уж во всяком случае не для удовлетворения страсти. Страсти и вначале было не много, а потом она вообще куда-то делась. Мы были не любовниками, а сообщниками в нашей тайной жизни. Мне бы сказать, второй тайной жизни, но скорее всего она была не второй, а первой.
Выходило, что вся эта жизнь могла продолжаться бесконечно. Не в моих силах было ее остановить, тем более что никаких сил для этого уже не осталось во мне.
Мы договорились встретиться поздним вечером – обычное время наших встреч, – чтобы пойти в один притон, до этого нам неизвестный. Как говорила Энния, там происходит нечто совершенно непостижимое: общее совокупление актеров на сцене и зрителей в зале. Можно представить, что это была за сцена и что это был за зал! К тому же ничего «совершенно непостижимого» увидеть мы не могли после того, что видели и в чем принимали участие во время наших ночных скитаний. Но Энния была неутолима не только в деле, но и в своем воображении. Мне же было все равно, лишь бы идти куда-то.
Я прождал ее долго, она не пришла. Я не знал, что могло случиться, и не хотел знать. Где-то внутри себя я ощущал желание, чтобы в самом деле что-либо случилось. Лучше всего по дороге к месту нашей встречи. Ведь никто из слуг не сопровождал ее, она ходила одна.
Я не дождался и отправился домой. Сказал себе, что несколько дней просижу дома, не выходя, а к ней больше не пойду. Ночь я проспал крепко, а утром, как будто совсем забыв о том, что решил вчера, пошел к ней. Привратник сказал, что ее нет дома. Я ответил, что буду ждать. Все это время – долго – я не отходил от окна. Ни о чем не думал. Был скорее часовым на посту, чем ожидающим. Тело мое почти онемело от продолжительного неподвижного стояния, а глаза слезились от напряжения, и та часть улицы перед домом, куда был обращен мой оцепеневший взгляд, несмотря на солнечный день, выглядела туманно.
Но туманность прошла, потому что слезы высохли, а глаза сделались сухими едва ли не до рези, когда я увидел ее носилки. Почему-то я даже не на нее взглянул сразу, а на несших ее рабов. Они шли как-то по-особенному прямо. Скорее шествовали. Их лица и тела были так похожи – будто размноженные слепки одной и той же статуи. Энния. Я не узнал ее. Она вошла прямая и властная, сказала:
– Мы едем к Макрону, пора тебе сблизиться с ним. – Сказала о Макроне единственно как о командире патрицианских когорт, а не как о своем муже. И добавила:
– Сегодня.
Я спросил Суллу:
– Кто же из нас бог, я или она?
– Сейчас – она, – спокойно ответил он. Противно обычному: не выяснять, я не удержался:
– Но ты же знаешь, чем она занималась в притонах… – Слишком горячо сказал, излишне.
Он ответил все так же спокойно:
– Ничем не занималась и никогда там не была. Она патрицианка.
– Проклятый Сулла! – воскликнул я в который уже раз.
– Никогда не была!
Но я-то был. До сих пор ощущаю запах. Мы отправились с Эннией на Капри. Разумеется, меня сопровождал Сулла.
Макрон оказался настоящим солдафоном. Никак по-другому определить его было нельзя. К тому же он находился под сильным влиянием своей жены, пусть и не осознавая этого. Встретил он меня с тою приветливостью, какую только имел возможность выразить мышцами своего каменного лица. Сказал, что слышал обо мне, и что император и римский народ видят во мне надежду, опору и все такое прочее, и что он рад приветствовать меня подобно своему боевому соратнику. Последнее было совершенной нелепицей, потому что никаким его соратником, тем более боевым, я не был и быть не мог. Но, как видно, так он понимал свое положение военного начальника и придворного.
Тиберий же встретил меня по-настоящему ласково, сказав, что я единственный, на кого он теперь может опереться. Кажется, он даже не лгал. Выглядел он совсем! плохо: распух, дышал тяжело, не дышал, а свистел, и всякий раз, когда я разговаривал с ним и вынужден был стоять рядом, я по-настоящему, до дурноты, страдал от скверного запаха, который источало его полуразложившееся тело. Не думаю, что в молодости он обладал каким-нибудь особенным умом, но сейчас ум совершенно его покинул. Истлел вместе с телом. Макрон, который и вообще никогда не имел никакого ума, был его единственным советчиком. Для меня оказалось полезным: Макрон хвалил мои преданность и ум. Энния, по-видимому, серьезно намеревалась сделаться женой следующего императора.
Остров, где обитал император, сам по себе, возможно, и красивый остров, был тогда настоящей зловонной ямой. Так я его видел, несмотря на горы, поросшие роскошной зеленью. Не мне говорить о скопище разврата, но это было именно скопище. Продолжая этот образ, скажу, что Рим стоял не на тверди, он стоял на болоте. Разлагающаяся плоть императора заразила разложением, кажется, все вокруг. Женщины и мужчины в самом настоящем смысле сошли с ума. Они совокуплялись везде, где было можно и где было нельзя. Никакого «нельзя», впрочем, для них не существовало. Не только сами они неистово занимались этим, но демонстрировали свои занятия другим. Намеренно или нет, тут не имеет значения. Запах разврата стоял везде и пропитал все вокруг: деревья, землю, воздух. И небо над островом – после дождя, когда влага испарялась, запах был особенно жирным. Он даже заглушал зловонный запах императорского тела, хотя и не мог заглушить его окончательно.
Наверное, так все они боролись со смертью, как с чумой, окуривая себя запахом разврата. Лучшего средства тут, на острове, выдумать было нельзя. Не знаю, что сделалось с моим организмом, но, кажется, я остался единственным, кто не принимал участия в этой оргии спасения. С Эннией, правда, каждый день, но только вечером и только с ней. Поздно ночью, едва способная передвигаться, она уходила к мужу. Спал ли он в эти часы или бодрствовал и спрашивал ли о чем-либо, не знаю, но, встречаясь со мной, неизменно именовал меня своим боевым соратником. Даже принимая во внимание наши с Эннией постельные сражения, моим боевым соратником он не был.
Энния же, что в самом деле удивляло меня, прибыла сюда, казалось, только для того, чтобы каждый вечер вот так вот сражаться со мной. Она требовала, чтобы я изображал притон: должен был говорить пьяными грубыми голосами, представляя то одного, то другого, грубо браниться, грубо же, отпуская разные циничные шутки – она подсказывала мне их, и я повторял, – брать ее, в сущности, насиловать, а потом – и это тоже было обязательным – бросать ей мелкую монету. Усталости и утомления она не чувствовала. Я же был совершенно измотан. Труд восхождения к императорскому трону оказался и в самом деле по-настоящему тяжким. Я ненавидел ее. Если бы не дело, я, конечно же, задушил бы ее в одно мгновение. Жена императора. Делая ей как можно больнее, отпуская грязные замечания, я про себя усмехался над этим. Сулле я приказал наблюдать за нами и место указал, откуда все лучше всего видно и слышно. «Патрицианку» я ему простить не мог.
Больной, разлагающийся император, больные, безумные, похотливые подданные – бессмысленный, гниющий заживо мир. Я стал сомневаться в его, мире, бессмертии, и потому в собственном своем тоже. Похотью я был перенасыщен. Она по-настоящему скисла во мне и дурно пахла. Сделаться только императором не имело смысла, я и так мог делать все, что хотел. Быть богом. «Послушай, Сулла, быть богом – это значит изменить мир или просто быть почетным богом для мира?» Молчал, ничего не отвечал. Тем более что я спрашивал, а его не было рядом. «Или быть богом – это знать, как переделать мир? Но ведь боги есть, а мир только ухудшается. Не знают. Или их нет совсем. Власть дает свободу делать все, что хочешь. Нет, не все. Еще нужно притворяться хорошим и быть всеми любимым. А делать то, что хочешь, тайно или хотя бы тихо. Значит, быть богом – это позволять себе все, без притворства.
И быть чтимым и любимым независимо от поступков и образа жизни. Не управлять миром, а пугать его и быть от него свободным. Не так ли, Сулла? Дай-ка мне яду, я хочу умереть».
– Ты знаешь… – с трудом, часто дыша, со стоном выговорила Энния, и тут же: – Тебе больно, гадина?
– Тебе больно, гадина? – послушно повторил я.
– Ты знаешь, – протяжно пропела она, – мне кажется, что Тиберий… Я уже вывернул твою… наизнанку, – опять пропела она, и я послушно повторил.
– Мне кажется, что Тиберий ест слишком пряную пищу, ей не хватает горечи.
Тут она прервалась и простонала так жалобно, будто это был ее предсмертный стон. Но все же и сквозь стон сумела выговорить несколько непристойных фраз подряд, которые я тут же, и быстро, повторил. Она легла на спину, и я лег возле.
– Он так может жить сколько угодно, еда слишком здоровая. Горечи не хватает. Тебе необходимо предоставить ему эту горечь.
Она замолчала. Я ждал и уже было хотел сам сказать, но она, как с ней это и бывало всегда, вскочила внезапно, обняла мои плечи:
– Еще, еще! – И опять, громко, несколько непристойных фраз.
Я, правда, тут же повторил их, но думал о другом и, не сразу вернувшись, повторил тихо и невнятно. Больно ущипнув меня за живот, она добилась вскрика и громкого повторения. Впрочем, я уже не просто повторял, но говорил ей непристойности с настоящей злобой.
Сулла указал мне на стол: там было выложено три ряда горок из хорошо растертого серого порошка. В первом ряду горки совсем крохотные, и я насчитал их восемнадцать. Во втором побольше, и было их семь. В третьем ряду оказалась только одна горка, но самая большая.
– Вот это, – он указал на первый ряд, – в восемнадцать дней – и легкое недомогание, точно такое же, как и обычно бывает у стариков. Вот это, – рука его прошла вдоль второго ряда, – серьезная болезнь. Протекает с рвотой желчью и онемением членов, а то даже и с пятнами по всему телу. Пятна очень характерные. Вот это, – он почти коснулся пальцем большой кучки, – конец в два часа, с судорогами, рвотой и всем прочим. Очень неопрятно и зловонно.
Мне захотелось тут же заставить его съесть эту большую кучку порошка. Чтобы сжевал, не запивая водой. Но это пустое. И я довольно небрежно указал на первый ряд:
– Покажи.
Он растворил одну крохотную горку в воде. Понюхав, поднес к огню, чтобы я лучше оценил прозрачность. Я увидел. Потом он резко поднес чашу к моему лицу. Я прервал дыхание и отшатнулся.
Сулла не дал мне в руки, но оставил яд на столе, в маленьком, величиной с полпальца, кувшинчике; горлышко было залито воском. Самая большая сложность заключалась в том, чтобы ежедневно, в течение трех недель, присутствовать на трапезе императора. Я сказал Эннии, что мне хотелось бы каждый день обедать у императора.
– Зачем тебе эта скука? – спросила она, но тут же добавила: – Я скажу Макрону.
Я мог бы обойтись и без Макрона – император любил меня, но я сделал выражение лица – благодарным.
Император и в самом деле любил меня, но единственно по-своему. Если представить какое-нибудь зловонное болото живым, то что бы оно могло любить более всего? Вряд ли зеленую лужайку или запах лавра. Но любило бы такое же болото, только еще зловоннее. Вот так же вот, дурно пахнущий, водянистый, полуразвалившийся Тиберий любил меня. Я не источал дурного запаха. Но это для других. Сам же Тиберий хорошо его чувствовал. Он брал мою руку в свою, держал долго, мял ее, гладил, говорил:
– Ты, только ты мой единственный наследник. Только ты, никто другой наследовать мне не может. Римский народ еще сумеет оценить то, что я взрастил для него.
«Ехидну», – вспоминал я когда-то переданное мне слово, коим определил меня Тиберий, и скромная, и мужественная, и почтительная улыбка выявлялась на моем лице, и я еще ближе придвигался к императору, почти что с благоговением вдыхал его запах, чувствовал с радостью, что уже не отравлюсь и мне не станет дурно. Как бы ни пахла императорская власть, это единственный и неповторимый запах. Только божественный, или почти божественный, утверждаю я.
Кроме нас был еще Макрон, мой «боевой соратник». Император давно не устраивал многолюдных трапез.
– Интимный круг друзей, вот что слаще славы и вожделения, – говорил император. – Если бы я захотел спать с вами, то делал бы это, – Он говорил и смотрел на нас своими вялыми глазами, полными вязкой слизи: – Или сделаю это, когда мне захочется чуть-чуть подгорчить сладость дружбы.
Я видел, как тело Макрона напрягалось от этих слов: мой «боевой соратник» не желал разделять ложе с императором. Я же, напротив, брал его руку в свою, нежно поглаживал. Если он считал меня зловонным болотом, то я его – зеленым лугом и остролистым лавром. Я уже чувствовал лавровый венок на своей голове, его приятную мягкость и запах, доводящий до головокружения. Особенный, неповторимый запах. Ему, впрочем, может быть, только чуть не хватало горечи.
Я сколупнул ногтем воск с горлышка кувшинчика и высыпал яд в чашу императора. Император дремал, а Макрон, и это я чувствовал спиной, весь напрягся. Он видел. Я ждал. Ему теперь бы сделаться спасителем отечества: выбить чашу из моих рук, позвать солдат или самому ударить меня мечом. Я бы ударил. Вспомнил бы беспутные глаза жены и ударил. Но там, за моей спиной, было тихо. Скорее всего, он просто умер от удивления и страха. А я тронул руку императора и протянул ему чашу. Он открыл глаза, улыбнулся мне, как улыбнулась бы жаба, высунувшая голову из своего болота, взял чашу и медленно, не отрываясь, осушил ее до дна. И взгляда не отрывал от меня, будто знал, что пьет. Я тоже смотрел на него не отрываясь.








