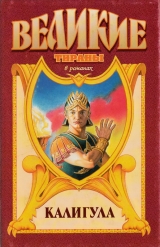
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
После было все то же – усталость и опустошение, и долгое лежание обнаженных тел друг возле друга, постепенное их заполнение страстью и новое отчаянное соитие.
Как мне хотелось говорить с ней только недавно. А сейчас не мог. Не то чтобы не было необходимости и не то чтобы не было желания, но мы не были теперь людьми (я – Гай, она – Друзилла), а были лишь нашими телесными оболочками: я – мужской, она – женской. И наш разговор страстью происходил ежедневно, и другого быть не могло – не нужно, бессмысленно и излишне.
Сулла не приходил ко мне, хотя мог. А я не стремился его видеть. Что тут говорить – я просто стыдился. Видеть его не мог, а отправить куда-нибудь подальше, отдалить не решался. Часто, особенно когда проходил мимо его комнаты, я испытывал желание, чтобы его не было вообще. Не так, чтобы был, а сейчас перестал быть. Не так, чтобы он сейчас перестал быть, а все прежнее осталось бы в моей памяти, а так, чтобы из памяти нечего было стирать.
С того времени, когда все это возобновилось с Друзиллой, я стал жить прежней своей жизнью. И это произошло помимо моего желания, как-то само собой. Я снова устраивал игры в цирке, заседал в сенате, подписывал законы и распоряжения, пировал с друзьями (во всяком случае, с теми, кого я снова стал так именовать).
Вернуться в прежнюю жизнь оказалось просто. Получалось, что она никогда никуда не уходила, а я, простец, с нею так мучительно и торжественно распрощался. Прежняя жизнь текла по-прежнему, и не нашлось в ней ничего нового, и мне теперь казалось, что она была всегда, а ее мнимая смерть была только сном или бредом моей обычной бессонницы.
«Прежняя», «по-прежнему» – в самом деле, ничего не изменилось. И та моя тоска, которая была связана с этим прежним, явилась вновь. А правильнее, опять продолжилась.
Все эти пиры, забавы и так называемые государственные дела – все они повторялись изо дня в день с такой утомительной настойчивостью, что я просто физически ощутил, что не я живу ими, а они живут мной. Живут мной, пользуются мной, съедают меня. Куда же уйти тоске? Ей некуда было уходить. Все шло по кругу, равномерно и обыденно, и, чтобы попытаться унять тоску, нужно было остановиться. А остановиться было невозможно, потому что время шло неостановимо.
Наши с Друзиллой разговоры тел, как и все остальное в этой прежней жизни, стали мне приедаться. Они утомляли своей однообразностью, опустошали так, что тело не успевало наполняться, а проявления страсти сделались больше привычкой, чем необходимостью. И все равно это было лучше, чем пиры и государственные дела, – в этом я забывался больше, и тоска после этого не чувствовалась так остро, потому что страсть, опустошавшая тело, забирала с собой и часть тоски.
* * *
Я ждал Друзиллу, когда дверь открылась и вошел Сулла. Стыд и гнев одновременно поднялись во мне, когда он вошел. Но когда он подошел ближе и я взглянул в его лицо, то почувствовал страх.
– Я пришел не убивать тебя, Гай, хотя мне этого больше всего хочется, – сказал он. – Я пришел спросить тебя: ты перестал быть моим братом? И еще спросить: нет больше неба, нет одиночества под небом и нет, – тут он усмехнулся, – «братства одиноких»?
Я не отвечал, смотрел на него, и мой страх не проходил.
– Ты мне говорил, – продолжал он, – что прежний Гай умер. Ты обманул меня, и я пришел сказать тебе об этом. И о том, что я хочу убить тебя. Я знаю, что убить тебя – это все равно что убить себя. Да мне, может быть, и не позволят этого сделать. Я бы убил себя сам, я готов к этому и желаю умереть больше всего на свете. Но если бы в последнюю минуту я мог не думать, что ты жив, что вся эта мерзкая жизнь останется и будет продолжаться, когда я умру! И еще перестал бы думать о том, что нет никакого неба, одиночества и «братства одиноких». И еще о том, что ни на земле, ни на небе нет ни справедливости, ни покоя. Тогда рука моя спокойно сжала бы рукоять меча или поднесла к губам склянку с ядом. Если бы я только мог. Но я не могу. Чтобы убить себя, мне нужно убить тебя. Ты обманул меня, но и сам ты обманулся. И если ты не можешь сам уйти из этой жизни, то я помогу тебе и мы уйдем вместе. А сейчас позови солдат, пусть они убьют меня. Но помни, что мой последний вздох будет и твоим последним вздохом. Помни это, Гай, и торопись. Если мы уйдем и небо примет нас, значит, не было обмана. А если не примет и окажется, что там не небо, а Олимп, и боги живут на Олимпе, и мы будем жить рядом с ними, и это будет та же самая жизнь, что и здесь (пусть она будет послаще и поудобнее), то тогда все равно, что жизнь, что смерть, и мы не вольны никуда уйти и обречены бегать по кругу. Я называл тебя божественным, называл тебя учителем и больше не могу жить так, как живешь ты. И ты в этом повинен. Я не могу уйти сам, потому что мне не за кем идти и я не знаю куда. Мне остается одно – уйти в смерть. И это единственная возможность узнать, есть ли небо и чем оно отличается от земли!
Тут он повернулся и вышел. И дверь проскрипела ему вослед протяжно и жалобно, хотя прежде не скрипела никогда.
Прошла ночь, а я все сидел и не в силах был пошевелиться. Я не позвал солдат, Друзилла не пришла, а был ли Сулла? – этого я не знал, сомневался и теперь вряд ли когда-нибудь сумею узнать.
В явлении бессонницы ничего нового не было, новое было в другом – в том, что я не бродил ночью, не зная, куда себя деть и ожидая рассвета, а сидел неподвижно и ничего не ждал. Время остановилось. То время, которое было продолжением прежней жизни, и моя неподвижность была следствием такой остановки. Такая неподвижность не равнялась оцепенелости, но была сосредоточенностью. Это прежняя жизнь остановилась, но ведь я жил, и, значит, движение продолжалось. Движение другого времени.
Время остановилось, и вся моя прежняя жизнь остановилась тоже. Не ушла, не умерла, а только остановилась, и я смог увидеть картины этой жизни, цепь картин, словно бы изображенную мозаикой на стене – я на пиру с друзьями, мое лицо и лица друзей. Самодовольные (их и мое), мерзкие, пустые лица. Я – в сенате, гордо восседающий на возвышении, с пустым, отсутствующим, мертвым лицом. И лица сенаторов при всей их разности тоже однообразны, мертвы и пусты. Неподвижные картины проходили передо мной, и я уже не смотрел на каждую в отдельности, смотрел на все сразу, так, как если бы на одну.
И тут я понял. Понял, что самое страшное для меня, как и для любого человека, – это страсть. Не плоть страшна сама по себе, но страсть. Почему я понял это, глядя на картины моей жизни, я не смог бы объяснить. Но я понял, что все дело в страсти и вся беда в ней – она управляет и плотью, и разумом. Можно не искать женщину, не ложиться с ней, не делать то, к чему побуждает тебя вожделение… Ты можешь не искать и не делать, но все равно страсть остается столь же сильной и столь же властной. Если она в тебе, то все равно, как бы ты ни уничтожал ее проявления, власть ее сильна и безгранична. Ты не можешь быть свободным, пока она в тебе.
Любовь – та же страсть, только в благородных одеждах. «Любовь, любовь!» – поют поэты, закатывая глаза, ставят любовь выше всего на свете, молятся на любовь и заставляют молиться других. Невольные простецы! – они не ведают, что, как и всегда, привычно восхваляют власть и силу. Им грезится, что они свободны. Но любовь – это темница в самом себе. Самая страшная, самая крепкая. Ты не можешь выйти за пределы страсти (или любви), не убив страсть, как не можешь уйти за пределы темницы, не разрушив темницы. Можешь вырваться и бежать, можешь думать, что освободился. Но только, пока темница стоит и не разрушена, ты всего лишь сбежавший раб, а не свободный человек. И сколько бы ты ни пробыл на свободе, ты не свободен: ты прячешься, таишься, тебя ищут, и тебя найдут. Судьба беглеца – не свобода, а только судьба беглеца.
Все, больше я ни о чем не хотел думать. Чем больше бы я разбирался в этом, тем больше сомнений закрадывалось бы в меня и стены моей темницы, засовы моей темницы делались бы все массивнее и крепче. Кроме того, такие рассуждения есть линия, замкнутая в круг. Только кажется, что, чем дольше идешь по линий, тем больше отдаляешься от предмета, который тебе ненавистен. И вдруг с ужасом видишь, что пришел к тому же самому месту, откуда бежал.
Темница – замкнутое пространство. И прямая линия – это путь от стены до стены, от угла до угла. Если же есть стремление к бесконечности, то в темнице это – замкнутый круг. Бесконечность свободы – прямая линия, бесконечность темницы – круг.
Я велел позвать Суллу. Он вошел, осторожно пересек расстояние от двери до моего кресла. Остановился так, чтобы я не мог дотянуться до него рукой. А я посмотрел на его руку, на кисть правой руки – той самой руки, которая должна была убить меня. Просто рука, пять пальцев. Но вот она сжимается на рукояти меча, или горлышке склянки, или на моем собственном горле. Друг, брат – и эта рука. Я понял, что теперь я совсем один.
С Друзиллой – это движение прежней жизни. С Суллой – движение к небу, одиночеству, «братству одиноких». Но движение не с другом, не с братом. Теперь я не ненавидел Суллу, как бывало прежде время от времени, теперь я ему не доверял. Но разве у меня был выбор? И разве власть неба не была настоящей властью, и разве я не стал весь подвластен небу? А если так, то небо снова испытывало меня: я должен пройти этот путь с тем, кому не доверяю. И пройти с ним как с братом. Любя его как брата и доверяясь ему как брату.
Я поднял взгляд к его лицу: он спокойно смотрел на меня. Я назвал его братом и сказал, что отныне он должен чувствовать себя со мной совершенно свободно, потому что в «братстве одиноких» все равны и все братья. Он сказал: «Да», – сел, откинулся в кресле, вытянул ноги. В первый раз он так сидел передо мной. Впервые с начала моего императорства кто-либо посмел так сесть передо мной. Я отвернулся, закрыл глаза и вздохнул. Оказывается, иметь брата много легче, чем самому им быть.
Я стал говорить, не открывая глаз. Знал: надо помнить, что говорю не самому себе, а Сулле, но не мог и говорил самому себе. Знал, что необходимо доверять ему, а иначе невозможно быть братом, но говорил самому себе. Только так я мог сказать все и откровенно. Впрочем, сейчас я не повторялся, как было всегда в разговорах с Суллой, но говорил четко, ясно, только о деле.
Первое – о любви. Сказал, что похоть – зло, а любовь есть похоть в благородных одеждах, потому еще более изощренное зло. Нужно избавиться от этого зла, но бежать от любви невозможно. Если бежать, то все равно не будешь свободным, а останешься беглецом. Похоть мне не страшна, потому что я объелся похотью и меня от нее тошнит. А любовь страшна. Любовь для меня – Друзилла. Бежать от нее нельзя, но и убить ее я не смогу. Есть три пути избавления. Первый – уничтожить любовь к Друзилле в себе. Второй – убить Друзиллу. Третий – ждать решения неба. Первые два пути я отбрасываю. Остается третий – ждать решения неба.
Потом я сказал ему о побеге из Рима. Сказал, что не буду обсуждать нужность побега, это и так ясно. Бежать можно было бы и сию минуту, если бы не любовь, от которой нужно избавиться. Ждать решения неба и готовиться к побегу.
Я не договорил, я только начал, но Сулла перебил меня:
– Гай, я не могу быть твоим братом.
Я открыл глаза, он стоял на коленях передо мной.
– Ты божественный, Гай, я не могу быть твоим братом, – продолжил он, – я могу быть только твоим рабом. Отдам за тебя жизнь, когда ты пожелаешь или если будешь в опасности. Я сделаю все, что ты захочешь.
Надо было протянуть руку и дотронуться до его плеча. Нужно было сказать, что все это не так, он не раб и никаким образом рабом быть не может. Сказать, что понятие «брат» есть еще только понятие, а чувство брата, братство – это другое, для этого нужно много пройти вместе, много пережить.
И еще много, много можно было сказать. Но я не мог, смотрел на него неподвижно и равнодушно. Я был один, и то, что он рядом, ничего не значило.
Я не отпустил его, я продолжал молчать, а он исчез незаметно. Когда я протянул руку к тому месту, где только что был он, рука повисла в пустоте.
Я не мог заставить себя приказать, чтобы Друзиллу не допускали ко мне. Хотел, желал, надеялся, что смогу, но не смог. Сослать ее куда-нибудь подальше – в мире много отдаленных островов – или просто отправить домой… Но как же тогда с ожиданием ответа неба? Я не знал…
Она, впрочем, долго не приходила. И вот пришла. Вошла так просто, как будто только на минуту выходила из комнаты, села мне на колени, обвила шею руками, сказала:
– Гай, ты не любишь меня.
Я не отвечал, но она и не ждала ответа, прошептала у самого моего уха:
– Знаешь, наверное, я больна, потому что все время хочу тебя. Конечно, хорошо, что ты император. Но мне все равно, император ты или нет, лишь бы ты спал со мной. Я думаю, что земля – ну вся, вся земля – это только ложе, и больше ничего: трава совокупляется с травой, животное с животным, мужчина с женщиной и все остальное… Но все это не важно, а просто мне лучше всего и приятнее всего спать с тобой. А? Разве не так?
Я молчал. Говорил себе: «Конечно, не так». Но тут же исправлялся едва ли не со злобой: «Так, так!»
Я терял рассудок. Я ощущал, как он – рассудок? мозг? не знаю – становится мягким, потом превращается в жидкость, колышущуюся в моей голове. Я хотел Друзиллу, и тело мое делалось жарким настолько, что разжиженный мозг испарялся, как влага. И когда он выпаривался окончательно, я делал все, что хотел, что требовала моя плоть, А она желала сотрясаться в страсти, стонать, как от настоящей боли, исторгать вопли, подобные предсмертному крику, стремиться к конечности наслаждения и одновременно все время оттягивать конец,
Друзилла была неистощима на выдумки. Чего только она не проделывала со мной и откуда тела наши черпали силы, чтобы проделывать все это! Конечно, не от неба.
Но сил было много, так много, что казалось, им нет предела. И потом, когда мы лежали рядом совсем обессиленные, я знал, что, как только страсть явится снова, откуда-то возьмутся и силы.
Потом я отправлял ее. И рассудок возвращался медленно и постепенно, и это не доставляло такого удовольствия, как тогда, когда он терялся. Я звал Суллу, пытался говорить с ним о небе. Но рассказывая и рассуждая, я ощущал какое-то особенное и новое чувство бессилия и сам не верил в то, что говорил. А Сулла – я видел – перестал понимать сказанное мной и смотрел на меня с удивлением, которого не скрывал.
Я видел это, говорил ему, что устал, плохо себя чувствую, добавлял:
– Скоро, скоро. Потерпи, – и отпускал не объясняя.
Оставаясь один, говорил себе, что больше всего хочу, чтобы не пришла Друзилла, и – больше всего этого хотел и ждал.
И она приходила. Я смотрел на нее с ненавистью. С настоящей ненавистью, не уговаривая себя. Но она ничего не замечала, а главное, не желала и не умела замечать. И – сначала ненавидя ее, я постепенно терял рассудок и уже не мог от нее оторваться.
Однажды, когда она ушла, а я остался, я вдруг почувствовал новый прилив желания. Прежде после ее ухода я никогда ничего подобного не чувствовал: тело мое было разбитым, усталым. Теперь вот почувствовал. Попытался сдержать желание, но не смог.
Промучившись некоторое время, позвал слугу и велел привести женщину – любую, первую встречную, но только быстро. Звать Друзиллу я почему-то не хотел.
Женщину привели. Это была уличная девка, некрасивая и неопрятная. Она смотрела испуганно, и вид ее был жалок. По-видимому, ей забыли объяснить, зачем привели во дворец. Я ей тоже ничего не объяснял и, не дожидаясь, когда уйдут слуги, набросился на нее. Повалил на пол, разодрал одежду, жадно вдыхая запах ее терпкого нечистого тела. Но она была опытной и быстро сообразила, что ее привели сюда не для того, чтобы причинять вред, а для исполнения привычного дела. И она старалась показывать все лучшее из того, что умела. Она даже предложила оправиться прямо на меня или на ковер рядом со мной, чтобы я смотрел. Но удовлетворение пришло раньше, чем я полагал, и я ответил, что этого не требуется. Она пыталась удержать меня, жеманилась, прижимаясь ко мне всем телом, но я сказал, что ей хорошо заплатят, и велел уйти. Нехотя и вызывающе дергая телом, она ушла.
А через короткое время желание снова явилось во мне, и снова я не сумел его подавить. Опять вызывать женщину не хотелось, да и для ожидания не было сил. И, не долго думая, я удовлетворил сам себя. А через некоторое время, когда желание возникло опять, – еще раз. Всякий раз, когда возникало желание, я делал это.
Так продолжалась моя жизнь. Период просветления чередовался с периодом темной страсти, и период просветления был обидно коротким. Друзилла была неутомима, и я делался неутомим. Я чувствовал, что больше не могу, что силы мои на исходе. Ждать решения неба стало невозможно, и нужно было самому избавиться от страсти, от предмета любви. Этим предметом была моя Друзилла.
Я хотел посоветоваться с Суллой, но отверг это желание. Он, конечно, мой брат, но разговоры только ослабляют решимость действовать. А я погибал, и не было времени на разговоры.
План созрел быстро, я привык к такого рода планам. Я решил убивать любовь в себе и в ней, в Друзилле, одновременно. Я распорядился, и уже через день все было готово.
Исполнение моего плана я, конечно же, поручил Сулле. Моему другу, соратнику, брату. Правда, план был такого рода, что я несколько опасался, что он не выдержит. И поэтому, объяснив все Сулле, я нашел еще одного человека, которому поручил то же самое. И, главное, поручил самого Суллу. Это был некто Ларций, сын вольноотпущенника. Когда-то давным-давно, когда я еще не был императором, а жил в должности любовника Эннии и она таскала меня по разным непристойным и опасным местам, – вот тогда-то я узнал Ларция. Мерзкого, бесчестного, хитрого, который устраивал для Эннии и меня все эти безобразия. Следил, чтобы мы благополучно пришли и благополучно вернулись домой, то есть был нашим проводником по стране мерзостей. Я мог бы найти другого, потому что даже смотреть на Ларция было противно. Но другой… Нет, я хотел чего-то большего, чем просто исполнения моего плана, чего-то такого, что граничит с непредсказуемостью. В этом смысле, кажется, никто бы не смог его заменить.
Но, кажется, я запутался в объяснениях и потому расскажу все по порядку.
Внешне все происходило как и обычно: Друзилла пришла, чтобы мучить меня любовью. Я сначала, уже привычно, чувствовал себя мучеником, потом перестал чувствовать и отдался страсти почти с таким же самозабвением, с каким отдавалась ей Друзилла. Но я сказал «почти» – то есть в самозабвении моем была все-таки условность. Я не мог забыться до конца и помнил, что они могут ворваться каждую минуту, в каждое следующее мгновение. Но самообладания у меня было достаточно, и поэтому Друзилла не заметила ничего. А я все прислушивался к тишине за дверью и все торопил, торопил их возникновение, потому что уже и в первые минуты ждать было трудно, а в последующие так и просто невыносимо.
Когда Друзилла ушла, я вздохнул с облегчением. Я давно не испытывал такого настоящего облегчения, словно бы смерть прошла рядом и не задела меня. Не пришли и теперь уже не придут до завтра.
Сразу поясню, что сам я дал им такие указания: прийти и сделать то, что должно сделать не в первый, не во второй, не в пятый день, а – или в первый, или в пятый, или в десятый. Но так, чтобы я не смог угадать дня. Чтобы мучился и чтобы мучительное ожидание притупилось. Не знать вовсе я не мог, но и забыть не мог тоже. Мучения ожидания сделались еще более мучительными, и чего я не предполагал раньше – это того, что буду бояться, за Друзиллу и оберегать ее. Не действием, а мыслью, чувством, страхом за нее. Настоящим чувством и настоящим страхом. Чтобы по-настоящему сберечь, проще всего было позвать Ларция и отменить все, а потом пригласить Суллу и объяснить ему, что не могу, не вправе, небо не позволяет, что не уверен, что такова воля неба. Скорее всего, это воля не неба, а темницы. Но это я только говорю, что было легче всего позвать и отменить. На самом же деле это было не только неимоверно трудно, но и по-настоящему невозможно. Потому что только теперь я ощутил, как люблю Друзиллу, как она нужна мне и что я в ответе за ее покой и счастье. Жалеть, оберегать – нет, такого не было со мной никогда.
Проходили день за днем, но никто не беспокоил нас. Страх мой стал каким-то нездоровым: сначала я перестал отправлять Друзиллу в ее покои (она уходила, когда сама хотела), потом просто не отпустил, велел ей остаться здесь, жить со мной. Она согласилась с радостью.
– О Гай, – шептала она, прижимаясь ко мне, дрожа всем телом, – мы теперь всегда будем вместе. И, ты знаешь, я подумала, что мы никогда не постареем. Не знаю, умрем или нет, но только никогда не постареем. Правда? Скажи, так?
И я отвечал: – Да.
И обнимал ее крепко, так, что казалось – еще одно усилие, и я сломаю ее. Только не о бессмертии и нестарении я думал, а о том, что нам с Друзиллой не надо выходить из комнаты – никогда. Я и она – что еще нужно? Конечно, наша комната тоже темница, но не общая, а для двоих, особенная, отделенная от общей. От неба тоже отделенная – это так. Но счастье любви, наверное, – это то, что не на земле, не на небе, а между землей и небом. По отношению к небу такое положение – еще грех, а по отношению к земле – почти божественное парение.
Так мне представлялось тогда. Только много позже я понял, что так думают все влюбленные.
Дни проходили за днями, и я потерял им счет. Мы жили, я ждал и х прихода и одновременно не ждал. Чем больше проходило времени, тем яснее чувствовал, что не жду. Я привык к ожиданию и х, все равно как человек привыкает к ожиданию смерти: она непременно будет – и ее может не быть никогда.
Как только я оставил Друзиллу у себя, в первую же нашу ночь все изменилось: ее и моя страсть только и ждали этого, чтобы сделаться нежностью. Впрочем, до некоторой степени страсть осталась, но страсти низменной, развратной больше не было, как будто не было никогда.
Не помню как проходили наши дни, что мы делали и о чем говорили, помню, что не разжимали объятий. Комната нашего дворца сделалась не комнатой дворца, а… вокруг не было ни дворца, ни Рима и ни единого человека. А было, может быть, море, бескрайнее пространство воды. И мы плывем в этом пространстве, не зная куда, но и не желая знать… Или это не вода, а воздух, пространство между небом и землей. Но род пространства не имеет значения, а дело в другом: пространство враждебно, если открыть двери и выйти наружу, и дружественно, когда мы в своей комнате, когда в объятиях. Пространство комнаты и ограничено, и одновременно не имеет границ, потому что хотя счастье, как и человеческая жизнь, имеет начало и конец, но собственное ощущение счастья не имеет ни начала, ни конца – оно вечно, бесконечно, бессмертно. Бесконечно, даже если это ощущение длится всего минуту. Впрочем, когда подступает смерть, то, думая о времени прошедшей жизни, кажется, что она длилась всего мгновение.
Они вошли внезапно. Вернее, ввалились толпой. Друзилла закричала, а я сжал ее в объятиях с такой силой, на которую только был способен. (Так что, возможно, она закричала еще и от боли.) Крик ее тут же прервался, потому что ввалившиеся, человек шесть или семь – огромные, потные, волосатые, – набросились на нас и оторвали от меня Друзиллу. Я сделал попытку вырваться и броситься к оружию, но все напрасно – крепость их рук была подобна меди, а сила – как у диких животных.
Меня оттащили от ложа, повалили на пол и крепко связали. И снова поставили на ноги, прислонив к стене и поддерживая с обеих сторон. Я не мог шевелиться, не мог и кричать: толстая грубая веревка, раздвинув зубы, впилась в мой рот. Тошнота ежесекундно подступала к горлу. К тому же их потные тела источали смрад. Лиц не было, а какие-то черные мохнатые провалы. Все они походили друг на друга. Я увидел и отличил лишь одного – Ларция. То ли потому, что я опознал его, то ли по другой причине, но вид и все движения Ларция были самыми непристойными. Со всем возможным рвением он исполнял мое поручение и отрабатывал ту щедрую плату, которую получил: кривлялся, мерзко вихлял бедрами и издавал лающие звуки, каковые ему, по-видимому, представлялись звуками страсти.
Друзилла лежала на ложе, ее держали трое: двое раздвинули ноги, а один навалился на плечи. Четвертый… Четвертый подошел и лег на мою Друзиллу – сопел, гоготал, дергался на ней. Они так положили ее и так поставили меня, что я видел все, слышал все и все обонял. Как я не умер тут же, как сердце мое не разорвалось на куски и не лопнули глаза! Я не знаю и понять не могу. Я не только не пытался отвести взгляд в сторону или закрыть глаза, но, напротив, смотрел не мигая, будто должен был вынести самое страшное, самое главное, такое, что уже никогда не повторится.
Один сменял другого, и, наконец, на Друзилле оказался Ларций. Он усердствовал больше других. Не могу и не хочу описывать все его мерзости и всю ту изобретательность, что он выказал. Всякий раз, когда он применял новый прием, он оборачивался ко мне и, сложив губы трубочкой, кричал: «У-у-у».
Я призывал смерть, призывал ее с такой предельной силой и предельной яростью, на которые только был способен. Но ни смерть, ни потеря сознания не приходили.
При очередном «у-у-у» Ларция взгляд отдернулся в сторону – и я увидел Суллу. Он стоял у противоположной стены. Стоял недвижимо и напряженно, будто тоже был связан толстой веревкой. Лицо его казалось не бледным, а желтым, как пламя светильника. Он тоже смотрел на Друзиллу неотрывно.
Друзилла вскрикнула раз, другой раз и еще – жалобно и протяжно. Это были крики только страха и боли, я это услышал и понял. Но я уже не мог смотреть туда, я смотрел на Суллу. Не ужас был в его глазах, а что-то, что много сильнее, значительнее и разрушительнее ужаса. То, что должно было сжечь все внутри и, наверное, уже сожгло. И, наверное, никакого Суллы уже не было в живых, а передо мной стояла одна только оболочка Суллы.
Еще раз прокричала Друзилла, а вслед за ней Ларций. Я все смотрел на Суллу и только отметил, что крик Друзиллы хриплый, горловой, отчаянный, а «у-у-у»
Ларция теперь прозвучало без выражения – не крик, а только обозначение крика.
Тут же Сулла сорвался с места и бросился на Ларция, сидевшего на Друзилле. Он бросился так стремительно и неожиданно, будто его что есть силы толкнули в спину. Ларций оттолкнул Суллу ногой, тот упал, поднялся, снова бросился вперед. Нет, они не били его – Ларций и те, кто держал Друзиллу, – они просто отпихивали его ногами и руками, будто вся их цель была довести его до изнеможения. Сулла падал, поднимался, падал опять, Ларций хохотал во все горло и звонко хлопал себя ладонями по бедрам. А те другие молчали, монотонно и равнодушно совершая толчки. Но ведь они и не были людьми. Друзиллу они уже не держали, как видно, ее уже не было смысла держать. Сулла поднимался после падения, но его движения становились все более замедленными, и каждое, наверное, давалось с большим трудом.
Он опять поднялся, но я понял, что это в последний раз. Все ждали, никто больше не толкал его. Даже Друзилла, повернув к нему лицо, ждала тоже. И сам он, кажется, ждал. Наконец он упал, беззвучно осел на пол, будто сделался вязкой плотью без костей.
В следующее мгновение сознание мое потухло и я перестал что-либо видеть и ощущать.
Сулла сидел передо мной, и в лице его было страдание.
– Она умерла? – спросил я.
– Нет, – отвечал он. – Но ты мог умереть.
– А Ларций и эти?
– Этих заколола стража, а Ларцию вырвали мужское место, и он истек кровью. Он сильно кричал. До самой последней минуты.
– У-у-у? – спросил я.
– Что? – не понял Сулла и добавил: – Я не был там, мне просто сказали, что он очень кричал. Лучше было бы сразу его убить, чем давать ему деньги. Ты сколько дал ему, Гай?
– Много. А лучше было бы отрезать ему язык.
Мы долго молчали. Первым заговорил Сулла:
– Марк Силан, когда Друзиллу привезли домой, порывался бежать к тебе, чтобы убить. Когда его связали, он пытался вырваться и кричал в твой адрес всякие поносные слова. Тот, кто рассказывал мне об этом, боялся повторять их. Его привели к претору. Теперь ему предъявлено обвинение в оскорблении императора, и он в тюрьме. Говорят, стражники сильно избили его, но я смог узнать, по чьему приказу.
Он рассказывал еще, а я смотрел на него, хотя мне трудно было видеть его лицо. И я встал – почему-то очень легко, не чувствуя ни разбитости, ни усталости, ни болезни, – позвал слугу, велел приготовить носилки, бросил Сулле:
– Поедешь со мной.
Мы прибыли в тюрьму. Испуганный префект, задыхаясь и не умея справиться с одышкой, будто он всю дорогу бежал, пытался мне что-то объяснять. Я не слушал, но и не прерывал его. Я, Сулла и он стали спускаться по узким выщербленным ступеням вслед за стражником, несущим факел. Когда лязгнул засов, а дверь, тяжело скрипя, растворилась, я велел префекту и стражнику уйти, а Сулле взять факел.
Более сырого и смрадного помещения для Марка Силана, как видно, не нашли. Когда мы ступили на каменный пол, под подошвами сандалий захлюпала вода. Сулла высоко поднял факел, и я увидел Марка. Он сидел на корточках в самом углу, где было повыше и куда не доставала вода. С трудом, держась за стену, он поднялся при нашем приближении. Вид его был страшен. Он оброс бородой, торчащей клочьями в разные стороны, одежда была в грязи, на одной ноге не хватало сандалии. Правое веко свисало до половины зрачка, и, наверное, чтобы лучше видеть, он как-то неестественно запрокинул голову. Глядя на него, я хотел спросить Суллу, сколько же времени я не приходил в сознание, но не спросил.
– Ты ненавидишь меня, Марк, – сказал я.
Он молчал, и мне показалось, он плохо понимает, что я сказал и кто мы такие. У меня промелькнуло: «Зачем мы здесь?» Но я заставил себя говорить:
– Ты ненавидишь меня, Марк, но тебе и не за что меня любить. Ты правильно кричал, что я грязное животное. Ведь ты это кричал? Ты прав, потому что я в самом деле люблю валяться в грязи. Но такова особенность власти: когда позволено все, то больше всего хочется вымазаться грязью.
Он, конечно, не понимал, но разве я говорил для него? Я стоял на каменном полу подземной темницы, неверный свет, не освещая, только обозначал стены, а за спиной… Нет, не Сулла стоял за спиной, а Клувий. А факел? Факела, может быть, и не было вовсе, а я видел в темноте. Вместо Суллы – я чувствовал – за спиной стоял Клувий, и в руках его был не факел, а меч. Тогда зачем я говорил и для кого? Я говорил потому, что страшился, потому что, пока я говорю, сам Клувий, рука его и меч в руке – они слышат голос императора. Но если я прервусь или мой голос, приглушенный страхом, перестанет быть похожим на голос императора, то тогда может дрогнуть меч и рука от неожиданности дернется вверх и тут же, испугавшись собственного движения, падет вниз… И моя голова будет рассечена надвое еще до того, как Клувий поймет что-либо.








