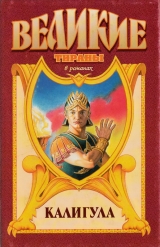
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Я сказал, что не сомневаюсь в верности гвардейцев, и публично похвалил Туллия Сабона. Легион же прибыл на всякий случай, и лишь только опасность минует, он возвратится к месту своей постоянной дислокации. В доказательство своих слов я назначил и гвардейцев, и солдат легиона в равном количестве нести дежурство во дворце.
Народ несколько успокоился, но от дворца не уходил. Тогда через день я объявил о намеченном празднестве и о том, что во время праздника будут раздаваться народу щедрые подарки. Люди приветствовали мое сообщение криками восторга. Наверное, кроме Туллия Сабона и командиров преторианцев, не было ни одного человека в Риме, который бы не славил меня.
Должен заметить, что всеобщий энтузиазм в отношении ко мне народа довольно сильно на меня подействовал. Я даже стал сомневаться в необходимости своего ухода, потому что стало казаться, что власть моя, как никогда, крепка, а любовь народа, как никогда, сильна. Наверное, и «Божественный» Август не возбуждал такой любви. Что же мне теперь мешало расправиться со своими противниками и благополучно править до самой старости?!
Да, искушение было велико, но я сумел, хотя и не без труда и сомнений, перебороть его. Я уже упоминал, что в последнее время мысль моя работала необыкновенно четко. Она-то и не позволила мне проявить слабость. И я сказал себе, что нет ничего ненадежнее на свете, чем любовь народа. По крайней мере, к живущему, а не к мертвому. Мертвого могут любить сколько угодно долго, и чем дальше, тем больше. С годами мертвый может стать едва ли не совершенством (и не важно, был ли он совершенством при жизни), и поклонение ему становится необходимой частью образа жизни. Мертвого хвалить и почитать легко и приятно: он не влияет на твою жизнь, он служит примером и, главное, его всегда можно сравнить с живущими, и сравнение, конечно же, будет не в пользу последних.
Другое дело – живущий и действующий, тем более правитель. Сегодня его действие популярно и его славят и любят, но завтра, когда он сделает нечто, что может ущемить большую часть народа (хотя его действие может быть самым разумным), от вчерашней любви не останется и следа – его станут поносить так же яростно, как восторженно любили только недавно.
Меня любили всплесками. Лучше бы меня так не любили, а относились б ко мне ровно. Впрочем, и это не избавляет от возможности погибнуть от рук заговорщиков. Тем более что народ ничего особенного не решает, хотя и выглядит грозной силой.
Так что, несмотря на сомнения, я не отступил от своего замысла, и энергии для его исполнения у меня не стало меньше. В сопровождении солдат (не гвардейцев) я несколько раз посещал место строительства и наблюдал за ходом работ. Темпы меня вполне удовлетворили. Я сделал несколько замечаний, но в целом был доволен расторопностью архитектора и работой строителей.
Что же до скульптуры в виде распятого на перекладине, то сначала я по совету Суллы хотел вызвать скульптора из, Греции. Но потом решил, что обойдусь и своим, потому что совершенство скульптурного изображения в моем замысле не играло большой роли. Тем более что она нужна была только для одного представления. Ведь если бы я не собирался уйти навсегда, а остался в Риме, то на какое место можно было бы водрузить мою скульптуру в виде распятого на перекладине?! Во избежание возможных толков ее нужно было бы разбить на куски или спрятать.
Пришедший скульптор долго не понимал, что я от него хочу, все никак не мог взять в толк, почему нужно изображать императора Рима, распятого на перекладине как последнего раба. Когда же он понял, то на лице его проявился явный страх: он стал бояться, что после окончания работы его накажут, а не наградят за содеянное – шутка ли, изображать императора столь, мягко говоря, непочтительным образом. Я старался ему все объяснить, ласково с ним разговаривал, но все было тщетно – на мои уговоры он кивал, но, когда я спрашивал, готов ли он приступить к работе, он отвечал, что никогда не посмеет изобразить императора подобным образом.
Я не думал, что возникнет столь неожиданное затруднение. Видя, что по-хорошему я уговорить его не могу, я, раздражившись по-настоящему, сказал, что в таком случае он будет немедленно предан смерти: его вывезут за город и распнут на перекладине и что, может быть, тогда он правильно поймет, чего хочет от него император. Он бросился на колени, умоляя пощадить. Я изобразил непреклонность, отвернулся от него и позвал стражу. Он завопил во весь голос и распластался у моих ног, умоляя пожалеть его маленьких детей, которые останутся без кормильца. Некоторое время я не отвечал, потом отослал стражу и приказал ему подняться.
– Хорошо, – проговорил я, глядя на него в упор, – я пощажу тебя. Более того, ты получишь щедрое вознаграждение, если сделаешь все как надо и в срок. В противном случае твои дети станут сиротами. И перестань причитать, я не могу этого слышать.
Он и в самом деле перестал причитать и смотрел на меня теперь со слезами чуть ли не умиления. Еще бы, я только что даровал ему жизнь!
Я велел оборудовать мастерскую для него тут же, во дворце, и поставил у дверей охрану – скульптор и его помощники не должны были покидать помещение до окончания работы и не должны были ни с кем сообщаться; все, что им было нужно, доставляли прямо в мастерскую.
Мне осталось заняться двумя вещами: текстом для чтеца и хора и гримом Суллы. Не стану говорить, что я обладал поэтическим даром, хотя в детстве, в доме моей бабки, некто Алкид, называвший себя поэтом (мне кажется, что называл только потому, что был выходцем из Греции, где, по моему мнению, всякий, кому не лень, слагает стихи), занимался со мной стихосложением. Его мудреные объяснения были мне непонятны, и я так и не научился отличать дактиль от хорея [26]26
…не научился отличать дактиль от хорея… выбрал гекзаметр. – Дактиль (от греч. daktylos – палец) – стихотворный размер, образуемый трехсложными стопами с ударением на первом слоге стопы; хорей (от греч. choreios – плясовой) – стихотворный размер с ударением на нечетных слогах стиха; гекзаметр (от греч. hexametros – шестистопный) – стихотворный размер античной эпической поэзии: шестистопный дактиль, в котором первые четыре стопы могут заменяться спондеями – стопами из двух долгих слогов, по общей долготе равных трехсложной стопе.
[Закрыть]. Для своего монолога я выбрал гекзаметр, наверное, только потому, что знал – величайшие поэмы написаны именно гекзаметром. Я не тщился написать величайшую поэму (к тому же для этого у меня не было времени), но величественность момента предполагала именно этот размер.
Сначала у меня ничего не получалось, я никак не мог правильно сосчитать слоги и впервые пожалел, что так плохо слушал в свое время Алкида (не могу сказать, какой он был поэт, но уж со слогами у него, должно быть, было все в порядке). Я бился два дня, но, кроме нескольких строк, ничего не смог написать. Да и те вышли корявыми. Оно бы ничего – для меня тут важен был смысл, а не форма, – но не хотелось быть посмешищем в глазах толпы.
Разумеется, ничего не стоило заказать монолог какому-нибудь поэту, но как я мог быть уверен, что он не поймет моего замысла и не предаст меня – стража у дверей тут абсолютной гарантии не давала. Пришлось мучиться самому. Пришлось призвать на помощь Суллу. Он сказал, что тоже не силен в стихосложении, но что на моем месте он бы попытался подражать великим образцам. Я грубо отвечал ему, чтобы он помнил свое место, и велел ему уйти. Но когда он ушел, а я снова сел за сочинение монолога, я подумал, что в его предложении есть своя правота.
Велел принести из библиотеки несколько известных поэм и выбрал «Георгики» Вергилия [27]27
…выбрал «Георгики» Вергилия– Вергилий Марон Публий (70–19 гг. до н. э.) – знаменитый римский поэт, в его произведениях наряду с эпикурейскими и идиллическими мотивами присутствует интерес к политической жизни Рима. Вершина его творчества – а также вершина всей римской классической поэзии – неоконченный героический эпос «Энеида» о странствиях троянца Энея (римская параллель греческого эпоса). Поэму «Георгики» («Земледельческие стихи») Вергилий написал в 36–29 гг. до н. э.
[Закрыть]. Копаться в остальных мне было лень, а о «Георгиках» я довольно много слышал еще от Алкида, который, прикрыв глаза, помахивая рукой и завывая, любил читать наизусть большие куски. Надо было бы спросить, гекзаметром ли написаны «Георгики», но обнаруживать свое невежество мне сейчас не хотелось. Впрочем, какая разница, поэма и без того звучала торжественно. Почти наугад я выбрал кусок, собственноручно переписал его, оставляя большие пробелы между строками, и под каждой строкой стал подставлять свои слова с одинаковым количеством слогов. В некоторых местах, где было можно и подходило по смыслу, я оставлял слова и выражения автора. Через пять дней упорной работы мы с Вергилием наконец справились с монологом. Я прочитал его вслух, и он мне очень понравился. Нужен был слушатель, и я пригласил Суллу. Конечно, хотелось бы прочитать свое сочинение лучшему, чем Сулла, ценителю, но он был единственный, кто был посвящен в мою тайну.
Кажется, я никогда так не волновался, зачем-то долго объяснял Сулле смысл написанного, мялся, вдруг заводил посторонние разговоры, отвлекался на что-то другое. Я и боялся читать, и одновременно страстно желал этого. Наконец я решился. Сначала голос мой был глух и невнятен, я задыхался и плохо проговаривал отдельные слова. Но постепенно, заметив неподдельное, как мне показалось, внимание Суллы, я почувствовал себя свободнее, голос мой окреп, дыхание стало ровным, и я уже декламировал, не замечая ничего вокруг, ощущая лишь великую, прежде мне незнакомую сладость звуков.
Когда я закончил, пот выступил у меня на лбу, а руки дрожали, и я не мог поднять глаз на Суллу. Стал перебирать бумаги на столе, поправлять одежду, зачем-то заглядывать в окно. Вдруг Сулла сказал как-то очень просто:
– Знаешь, Гай, а ведь ты мог быть поэтом.
– Оставь это, – отвечал я ему деловым тоном, – мне не нужна похвала. Скажи мне другое: понятно ли то, что я хотел там выразить?
– Нет, Гай, – снова проговорил Сулла, и теперь в его голосе слышалось неподдельное восхищение, – ты в самом деле мог быть поэтом. Не нужно быть знатоком, чтобы сказать: великим.
– Ну, так уж и великим! – усмехнулся я, но усмешка вышла какой-то жалкой, какой-то просительной.
– Нет, правда, я никогда еще не получал от стихов такого удовольствия. Понимаешь, они проникают в самую душу и что-то производят там. Не могу объяснить что, но что-то божественное. Нет, Гай, тебе нужно заняться этим – величие поэта может быть выше величия императора.
Он не останавливался, все говорил и говорил, и речь его лилась плавно. Я слушал не перебивая и все не мог наслушаться, хотя принимал самый равнодушный вид. Все внутри меня кричало: говори, говори, еще, еще! И он, словно слыша мой внутренний крик, говорил.
Я уже забыл и не хотел вспоминать, что думал о Сулле как о ценителе невысокого ранга, потому что теперь он мне казался очень даже серьезным ценителем. И я подумал, что, когда слова идут от сердца, это значительно глубже, чем когда они от ума и знаний. Я вспомнил глубокомысленных философов, которые всегда были мне так противны, и еще больше уверился в своей правоте. Еще я подумал, что всегда недооценивал Суллу, а это человек острого ума с чувствительным сердцем.
Наверное, если бы Сулла не остановился, я мог бы слушать его сколько угодно времени – без пищи, воды и отдыха. Да, счастье поэта ни с чем не сравнимо. Правда, как обычно говорили, у поэта больше несчастий, чем счастья, но думать об этом сейчас не хотелось.
Всему приходит конец, и даже речам Суллы, которые, казалось, будут длиться вечно. Когда он замолчал, я посмотрел на него с сожалением, которое не подумал скрыть.
– Значит, тебе понравилось? – произнес я хрипло (голос плохо повиновался мне).
– Ты не представляешь себе, Гай, что это такое, – отвечал он горячо. – Это как у великих поэтов! Я теперь понял, что этот дар вверен человеку богами!
Я ничего на это не ответил, а только неопределенно пожал плечами. И тут Сулла, подавшись ко мне, снова заговорил, горячо, страстно:
– Тебе нужно было быть поэтом – это ошибка, что ты стал императором. Не сочти мои слова глупостью или дерзостью, но поэт выше императора, и его божественность есть настоящая божественность, а не определение власти и мудрости. Только сейчас я понял, каким даром одарил тебя Юпитер. Ты в самом деле бог! Помнишь, как мы с тобой говорили, сможешь ли ты стать богом. Но тебе не нужно им становиться, потому что ты уже и есть бог. Как Гомер [28]28
Гомер – легендарный древнегреческий поэт, по античной традиции ему приписывается авторство «Илиады» и «Одиссеи».
[Закрыть], как Вергилий или Гесиод [29]29
Гесиод – жил приблизительно в конце VIII – начале VI вв. до н. э., первый известный по имени древнегреческий поэт, создатель «Трудов и дней» – первого памятника греческого (и европейского вообще) дидактического эпоса, автор поэмы «Теогония» («Происхождение богов»). Кроме того, в античности его считали автором еще целого ряда назидательных и генеалогических поэм.
[Закрыть], а возможно, что и выше! Ты можешь написать прекрасные поэмы и никогда не умрешь. Гомер и Вергилий будут жить вечно, как и ты.
Упоминание Вергилия, моего невольного соавтора, было не очень приятно, и мне даже хотелось сказать Сулле, чтобы он называл другие имена. Впрочем, эта шероховатость в его речи совсем не портила главного, хотя мне стало казаться, что это не просто похвалы, но Сулла куда-то ведет. И я не ошибся.
– Ты должен остаться императором, чтобы быть поэтом! – вдруг патетически провозгласил он.
– Что значит остаться? – недоуменно спросил я, еще не вполне спустившись с высот поэтического восторга.
– Да, да, остаться! – горячо выговорил он. – Ты не имеешь никакого права зарывать в землю свой талант, ведь он вручается богами одному из многих тысяч. Ты должен остаться, чтобы воплотить то, к чему ты призван!
– Но, дорогой мой Сулла, – довольно вяло возразил я, – поэт везде поэт, где бы он ни был и чем бы ни занимался. Власть, императорство и все такое прочее тут не имеют никакого значения. Ведь ты сам говоришь, что дар этот вручен богами.
Сулла несколько смутился и не смог сразу ответить. Не находя нужных слов, он пробормотал:
– Да, да, конечно, но я хотел сказать… хотел… Только некоторое время спустя он нашелся: – Но видишь ли, Гай, императорство тоже вручено тебе богами. Значит, их воля… их воля заключается в том, чтобы ты был поэтом-императором…
– Или императором-поэтом, – перебил я, глядя на него строго, – Конечно, почему бы и нет: император в свое удовольствие пописывает стишки. Ничего, мой Сулла, мне нравится.
– Я не то хотел сказать, – растерянно произнес Сулла и вдруг добавил совсем тихо, но довольно четко: – император.
Но мне уже не нужны были его оправдания, я все понял.
– Скажи, мой Сулла, – произнес я, прямо глядя в его глаза, – признайся мне честно и откровенно: ты не хочешь идти со мной и ты не хочешь участвовать в том, что я придумал? Скажи, и я не буду принуждать тебя, ведь мы друзья, и если уйдем вместе, то должны уйти друзьями.
Он ответил не сразу, некоторое время сидел, опустив голову. Был вечер, пламя светильников горело не ярко, и мне трудно было определить, покраснело его лицо или побледнело, но я ощутил, как что-то сделалось с ним. Наконец он поднял голову, его глаза показались мне какими-то тусклыми, он выговорил едва слышно:
– Император, я пойду за тобой, куда ты скажешь.
Злость поднялась во мне высокой волной, я поискал глазами, что бы схватить тяжелое и ударить Суллу. Ничего не попалось на глаза, и, наверное, это сдержало меня.
– Уходи, – сказал я с напряжением в голосе, едва пересиливая себя. – Чтобы сказать мне то, что ты хотел сказать, не было нужды так долго и красиво распространяться о моем поэтическом даре. Никогда я не думал, что ты будешь лукавить со мной так явно и так грубо. Уходи. Утром я жду тебя, чтобы посмотреть, как ты выглядишь в гриме. Иди, я очень недоволен тобой.
– Прости, император, – выдавил он и пошел к двери, низко опустив голову, сгорбившись.
Мне было противно смотреть на его старчески согнутую спину.
* * *
Как я ни был зол на Суллу, как ни противно мне было его неожиданное предательство, я сумел сдержаться и не дал выхода злобе. Я умел теперь мыслить ясно, мысль была сильнее гнева. В другое время и при других обстоятельствах Сулла жестоко бы поплатился за этот разговор, но сейчас мне не имело смысла расправляться с ним, тем более что все равно через несколько дней он должен был умереть.
Тогда же у меня возникло какое-то странное подозрение, что Сулла что-то замышляет. Нет, не подозрение, а только ощущение, что здесь что-то не так, что-то стоит за его поведением и словами. Мне следовало тогда спокойно обдумать все это, но у меня не хватило терпения. О, если бы я знал, что ожидает меня в будущем! Но об этом после.
Свое недовольство Суллой я продемонстрировал тем, что не принял его на следующее утро и заставил дожидаться у дверей моего кабинета едва ли не полдня. Нарочно, чтобы только досадить ему, я отправился осматривать стройку, хотя еще вчера не планировал этого. Я смотрел, слушал разъяснения архитектора, но мысли мои были далеко: я думал о Сулле. Я все никак не мог справиться со злобой, поднявшейся во мне вчера вечером. Трудно себе в этом признаваться, но я чувствовал себя униженным, потому что сейчас было очевидно, что все слова Суллы о моем поэтическом даре оказались ложью. Я никогда прежде не считал себя поэтом, но почему-то, когда он говорил, когда так восхищался, я не принял его слова за лесть. Теперь я на себе прочувствовал, что значит зыбкое счастье поэта: сейчас ты на вершине блаженства, а через минуту падаешь в пучину унижения и тоски. Проклятый Сулла!1 Мне хотелось уничтожить его теперь же, задушить своими собственными руками и увидеть его агонию. Хотелось, хотя я понимал, что это вряд ли излечит меня.
Когда я вернулся, он стоял возле дверей кабинета, кажется, на том самом месте, где я оставил его. Я не заговорил с ним, не посмотрел на него, прошел мимо. Переждав довольно долго и чуть успокоившись, я велел позвать его. Он вошел, держа в руках коробку, которую я до этого не видел. Оказалось, что там краска для грима.
Я смотрел на него и все никак не мог понять, зачем он явился и зачем я сам позвал его. Не для того же, чтобы наброситься, повалить на пол и схватить руками за горло!
– Что ты хочешь? Я слушаю тебя, – сказал я холодно.
В глазах Суллы мелькнул испуг.
– Ты сказал, император, чтобы мне… чтобы я… гримировался, – произнес он, заикаясь на каждом слове, едва слышно.
– А-а, – протянул я и покачал головой. Признаюсь, его испуг был мне приятен. Не более того. То есть он не умалял моего унижения, но все же. – Раздевайся, – сказал я несколько минут спустя (я выматывал его, мне хотелось сделать ему как можно больнее), – посмотрим, какой ты император.
Я подошел к двери и велел страже никого не впускать ко мне, потом достал свое парадное одеяние и протянул его Сулле. Он стоял как будто в нерешительности. И тут у меня возникла новая мысль, показавшаяся мне оригинальной.
– Ты одеваешься, мой Сулла, но сначала я хочу увидеть тебя раздетым.
– Я не понимаю, император, – едва ли не жалобно выговорил он и посмотрел на меня умоляюще.
Но я был неумолим и показал ему рукой, чтобы он раздевался. Он повиновался, хотя делал все замедленно, как во сне, словно надеясь, что я остановлю его. Наконец он остался совершенно голым и стоял передо мной, прикрыв ладонями низ живота и переминаясь с ноги на ногу. Я подошел к нему вплотную, сказал, глядя в глаза:
– Убери руки.
Он убрал. Я сделал шаг назад, чуть пригнулся, внимательно рассматривая предмет его мужского достоинства, потом проговорил очень серьезно:
– Да, мой Сулла, ты похож на императора, особенно этой частью тела. Римские матроны, уверяю тебя, были бы довольны.
Я выговорил это и еще что-то похожее на это, сам не очень понимая, что и зачем говорю. Мне нужно было только унижение Суллы, и я его добился. Он смотрел на меня затравленно, минутами мне казалось, что он может броситься на меня, и я желал этого.
– А теперь, – сказал я, усмехаясь, – наложи грим и надень парик.
Его рука потянулась было к одежде, лежащей возле него на кресле, но я остановил это его движение:
– Нет, нет, это потом, сначала загримируйся. Садись к зеркалу и приступай.
И снова Сулла послушно повиновался. Я видел его унижение, видел, что не только лицо, но и все тело пошло пятнами, но почему-то не чувствовал полного удовлетворения. Более того, собственное унижение стало еще ощутимее. Но я уже не мог остановиться: подошел, заглянул Сулле в лицо, издевательски улыбнулся. Руки его дрожали, и грим он накладывал неловко, неровно, неумело. Когда он закончил и приладил на голову парик, я велел ему выйти на середину комнаты и внимательно, с подчеркнутой скрупулезностью осмотрел его всего.
– Да, Сулла, очень хорошо, – проговорил я, закончив осмотр. – Не могу точно сказать, насколько ты похож на императора – пусть это решат другие, – но на публичную девку ты очень даже похож. Я много встречал таких, когда болтался с Эннией по притонам. Впрочем, там были и мужчины такого же сорта. Но нет, ты больше похож на женщину, на самую настоящую публичную девку – ты уж прости. И знаешь, какая мне пришла сейчас замечательная мысль. Не нужно никакой императорской одежды: ты загримируешься и выйдешь на публику вот в таком же виде. А, хорошо я придумал? Скажи!
Он молчал, смотрел на меня прямо, но как бы сквозь меня, будто стоял один. А я уже не мог остановиться:
– Тебе нечего обижаться, мой Сулла, на то, что я сказал, будто ты похож на публичную девку. А кто же ты есть на самом деле, как не публичная девка? Ты пользуешься благами так называемой дружбы со мной, как девка пользуется благосклонностью богатого клиента. Я зову тебя, когда мне скучно, и вышвыриваю тебя, когда ты мне надоешь. А ты терпишь и еще улыбаешься, потому что у тебя такая работа. У тебя такая работа – быть публичной девкой. Вот сейчас я сделаю с тобой что-нибудь непотребное, и ты подчинишься, и еще улыбаться будешь. Ну, улыбайся! Улыбайся, я тебе сказал! Улыбайся!!!
Последнее я прокричал во весь голос. Но вдруг что-то случилось со мной – неожиданное и невообразимое. Я смотрел на голого Суллу в нелепом парике, с размалеванным лицом – и увидел себя. Не себя теперешнего, а себя маленького, лет всего пяти. Мне вспомнилось, как мой отец Германик, любивший грубые шутки, одел меня в женское платье, намазал щеки, губы, глаза краской и так вот вывел из своей палатки. Было это в военном лагере. Он провел меня по лагерю, держа за руку, а солдаты собирались кучками и шли за нами. Они смеялись шутке отца, отпускали остроты, которые я не понимал, но которые все равно были обидными. Потом мы с отцом остановились, он отошел, а солдаты собрались в круг, где в центре стоял я – маленький, униженный, беззащитный. Солдаты любили отца и ко мне относились очень хорошо, и смеялись они тогда беззлобно и весело, но этот позор я не мог забыть всю мою последующую жизнь. Я бросился тогда, убежал в палатку отца, забился в угол и плакал, сотрясаясь всем телом, и меня долго не могли успокоить.
И вот я увидел в Сулле себя того, маленького. Слезы навернулись на глаза, и Сулла, стоявший передо мной, стал плохо виден.
– Сотри грим и иди, – только и смог выговорить я, едва сдерживая подступившие к горлу рыдания, и слабо махнул рукой куда-то в сторону двери.
Не знаю, не могу сказать, ушел ли он сразу же или нет, – я плохо понимал, что происходит вокруг. Едва ли не вслепую, покачиваясь, я дошел до ложа, коснулся его края коленями и упал ничком, крепко зажав рот ладонями, чтобы мои рыдания не услышали за дверью.
Весь следующий день я не покидал своей комнаты и никого не принимал. Ближе к вечеру пошел в мастерскую скульптора, здесь же, во дворце. Скульптура была почти уже готова. Сам мастер и помощники смотрели на меня со страхом. Скульптура стояла в самом центре комнаты, только ноги еще виделись плохо оформленной массой.
Не стану лгать – я по-настоящему испугался. Это был я – по крайней мере, лицо мастер изобразил очень похоже, – и я был распят на перекладине. Но не сам этот факт распятия испугал меня, а то, что выражение лица скульптуры не соответствовало тем мукам, которые испытывает человек, наказанный таким страшным образом. Лицо было величественным и спокойным, и мне показалось, что губы раздвинуты в слабой улыбке. И чем дольше я смотрел, тем больше раздвигались губы и улыбка проявлялась все явственнее.
Я не мог оторвать взгляда от своего лица, так странно и страшно улыбавшегося мне. Случайный шорох за спиной (это был мастер, стоявший позади меня) принес избавление: я вздрогнул, и взгляд мой сдернулся с собственного лица, на котором была уже не улыбка, а гримаса.
– Что? – отрывисто спросил я, резко обернувшись.
Мастер смотрел на меня испуганно, но его губы, как мне показалось, тоже почему-то медленно раздвигались в улыбке.
– Да, да, – сказал я и, протянув руку, зачем-то дотронулся до его плеча. Будто бы только за тем, чтобы удостовериться, живой это человек или тоже мраморное изваяние.
Он был живым. Был испуганным и жалким. Мне стало легче.
– Ноги, – сказал я, указывая за спину, где стояла скульптура, но не оборачиваясь, – главное, ноги. Чтобы каждый палец, слышишь, каждый палец был похожим! Ты понял?!
Он кивал на каждое мое слово и, конечно же, ничего не понимал. Я еще что-то говорил, все возвышая голос, и вдруг, оборвав себя на полуслове, вышел.
Прошло еще несколько дней. Архитектор доложил мне, что работы движутся к завершению, просил еще два или три дня для проверки механизмов. Я посетил строительство, остался доволен работой механизма для подъема скульптуры, крытой галереей, ведущей в лес, и всем прочим. Можно было назначать день праздника, и я его назначил.
В народе, как мне сообщали, по этому поводу ходило множество слухов. Главное в них было то, что нечто там должно произойти такое, что, может быть, перевернет все прежние представления о силе императорской власти. Такого рода слухи вредили моему плану (я опасался, что гвардейцы под каким-либо предлогом откажутся в нем участвовать), и я велел распустить другие: что по окончании праздника каждый пришедший получит денежную премию по списку. Мне передавали, что такие списки уже составлялись горожанами.
Моя скульптура в виде распятия была готова. Ее, укрыв, перевезли на место праздника и прикрепили к подъемному механизму. Я велел наградить скульптора, но оставил его во дворце под охраной до самого окончания праздника.
Яму под вышками заполнили горючим веществом и замаскировали. По всему периметру поляны через каждые тридцать шагов стояли солдаты, никого не допуская внутрь. Любопытных, появлявшихся в поле зрения солдат, по моему приказу отгоняли, а особенно настырных хватали и подвергали наказанию.
Прошло довольно много времени с тех пор, как я не виделся с Суллой, с того самого дня, когда я так жестоко поиздевался над ним. Честно скажу, мне было трудно увидеть его снова, и, если бы можно было не видеть его никогда, я бы именно так и сделал. Я было стал думать, чтобы заменить Суллу кем-нибудь другим, а его просто оставить в покое – пусть будет что будет. Но, разумеется, это было невозможно, потому что моя тайна должна оставаться тайной для всех.
Скрепя сердце и чувствуя неловкость, я все-таки послал за ним. Когда он вошел, я поднялся ему навстречу, и мы обнялись.
– Скажи, Сулла, ты не сердишься на меня? – спросил я, заглядывая ему в глаза.
– Нет, император, – отвечал он, – как же я могу сердиться на моего императора?
– Оставь это, Сулла. Скажи, разве ты не веришь, что мы друзья, братья… Вспомни о «братстве одиноких». Ты помнишь? Скажи, скажи!
– Да, император, я помню, но нас тогда было больше.
– Больше? – не понял я. – Что ты имеешь в виду?
– Я говорю о Друзилле. Ведь она тоже была в нашем братстве.
– А-а, – протянул я. Я забыл о Друзилле, а он имел смелость напомнить мне о ней. – Да, Друзилла, – сказал я, помолчав, – мне трудно вспоминать о ней. Я так ее любил. Ты же знаешь, Сулла, как я ее любил.
– И она тоже любила тебя, – сказал он. – А потом…
Он не договорил, но и без того все было понятно.
– Сулла, мне не нравится наш разговор. Ведь ты пришел не для того, чтобы упрекать меня? В конце концов, Друзилла была моей сестрой, а не твоей.
– Да, император, это так.
– Моей, а не твоей, – повторил я раздраженно. – И кто ты такой есть, чтобы упрекать меня?
– Да, император, – отвечал он, – я всего-навсего твой раб, публичная девка, как ты верно выразился в прошлый раз.
– Если мне захочется, – не сдерживаясь, закричал я, – ты будешь публичной девкой, и оденешься, как публичная девка, и разукрасишь лицо, как публичная девка. И все равно будешь рад этому и станешь славить меня.
– Да, император, это так, – спокойно и холодно согласился он, – только я не понимаю…
– Что ты не понимаешь? – перебил я его.
– Не понимаю, – так же спокойно сказал он, – при чем здесь «братство одиноких» и наш совместный уход.
Проклятый Сулла! Он был прав. Сколько раз невыдержанность подводила меня и подвела опять. Всего в течение каких-нибудь двух дней мне нужен был соратник и друг – любящий, преданный, доверяющий. Всего на два дня нужно было смирить свою злобу. Не для кого-нибудь, не для Суллы, а только для самого себя. И даже этого я не умел сделать.
– Скажи, Сулла, – проговорил я, глядя в сторону, – ты доверяешь мне?
– Ты спрашиваешь: люблю ли я тебя? – сказал он, помолчав. – Конечно, император, я люблю тебя и сделаю все, что ты захочешь. Если мне придется умереть, то я радостно умру за своего императора.
– Придется умереть? – спросил я, внимательно посмотрев в его глаза. – Почему ты так говоришь? Что ты имел в виду?
– Ничего. Я сказал это, потому что радостно умру за тебя, если придется, вот и все.
Я смотрел на него так внимательно, будто хотел проникнуть внутрь его существа. Нет, он не издевался надо мной, по крайней мере, я этого не увидел. Но в таком случае это звучало самой сокрушительной издевкой. Гнев снова явился во мне, но я сумел сдержаться.
– Нет, – проговорил я особенно спокойно, – я говорил не о дружбе, не о любви к императору. Я только хотел знать, доверяешь ли ты мне.
Он кивнул и выговорил едва слышно:
– Да, Гай, я доверяю тебе.
Мы молчали еще некоторое время. Я никак не мог перейти к тому, для чего позвал его. Наконец я сказал:
– Зато я доверяю тебе, мой Сулла. И ты в этом сможешь скоро убедиться. После праздника мы уйдем вместе, но потом, если ты захочешь, я отпущу тебя. Ты заберешь половину денег, которые ты спрятал для меня в тайниках, и станешь жить сам. Купишь себе дом, или поместье, или все что угодно. Ты знаешь, там очень много денег – половины их хватит тебе еще на две жизни.
Вместо ответа он кивнул. Что означал его кивок: согласие с моим новым планом или что-нибудь другое, я не знал, но спрашивать не стал. Я вполне понимал бессмысленность этого разговора: любишь – не любишь, доверяешь – не доверяешь. Что могут значить слова!
– Хорошо, Сулла, – сказал я, – об этом поговорим после. – И добавил: – После праздника. А теперь нам нужно заняться твоим одеянием и гримом. Пожалуйста, приступай, у нас не очень много времени.
Мне не пришлось повторять это дважды: Сулла поклонился и вдруг в несколько движений ловко скинул одежду, оставшись совершенно голым. Потом, ни слова ни говоря, взял коробку с гримом, сел в кресло у зеркала и сосредоточенно стал заниматься своим лицом.
Я опустился в свое кресло, развернув его так, чтобы не видеть Суллы – мне неприятно было смотреть сейчас на его наготу. Гнев то поднимался во мне, то стихал – Сулла снова унизил меня, в этот раз откровенно и нагло. Я ощущал себя так, будто не он передо мной, а я перед ним стою голым и беззащитным, и он издевательски внимательно рассматривает мою наготу.
– Я готов, император, – услышал я и обернулся.
Сулла стоял в парике, с гримом на лице, и губы его








