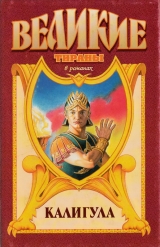
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ (Из воспоминаний Никифора Тирского)
Я человек ничем не примечательный, всего лишь жалкий раб Господа нашего Иисуса Христа. Иные говорят обо мне как о великом проповеднике и человеке святой жизни. Но я – пыль в глазах Господа, а земная слава есть одна только тщета. Да и о какой славе я говорю, когда нас гонят повсюду и предают страшной смерти, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей. Община наша мала и немноголюдна, и мы живем, как горстка овец среди сонмища волков. Но я не ропщу, потому что вера в Господа и служение Ему есть единственное счастье человека. Жаль, что это понимают столь немногие.
Придет время, и я опишу все страдания и все победы нашей веры, хотя лучше об этом скажут другие, те, кто праведнее и достойнее меня. Я же хочу рассказать о том, как Господь призвал меня к служению Ему. Может быть, моя история будет кому-то полезна и направит еще сомневающихся на путь истины. Никто не ведает, куда повернется и к чему выйдет его жизнь, это знает только Господь, потому что пути Его неисповедимы. И только Он знает, кто и каким путем приведет человека к истине
Такой человек был в моей жизни, и я ему многим обязан, хотя зла в нем было значительно больше, чем добра, Вернее, он весь был сложен из зла, но при этом… Впрочем, лучше обо всем по порядку.
Отец мой был грек, мать – еврейка. У отца была шерстобитная мастерская, и некоторое время, пока дела шли хорошо, они жили в Иерусалиме [31]31
…жили в Иерусалиме… переехали в Тир… – Знаменитая столица царств Давида и Соломона Иерусалим стала потом столицей Иудеи. В I в. н. э. город отличался архитектурным богатством и разнообразием, насчитывал до 250 тысяч жителей и был священным для иудеев.
[Закрыть]. Они переехали в Тир [32]32
Тир был основан в IV в. до н. э. в Финикии, на восточном побережье Средиземного моря; город-государство, порт, знаменитый морскими путешествиями и открытиями в начале I в. до н. э. К I в. н. э. вошел в состав Римской империи; утратил свое былое значение, но вел морскую и сухопутную торговлю.
[Закрыть]незадолго до моего рождения. В ту пору дела в мастерской отца пошли значительно хуже, а когда мне минуло десять лет, он почти совсем разорился. Нас было восемь человек детей, и жили мы впроголодь. Я был третьим ребенком. Все мы, старшие дети, помогали отцу, но жизнь наша не делалась лучше. Мать бралась за любую работу, а отец совсем пал духом и часто болел. И вот, когда мы дошли до настоящей нищеты, в нашем ломе появился этот человек.
Он был не стар, лет тридцати пяти или сорока, одет не очень богато, но вполне достойно. Правда, казался он старше своих лет: в длинной редкой бороде было много седых волос, а лоб прорезали глубокие морщины, и взгляд его голубых глаз был очень усталым.
Не знаю, как он попал к нам, но пробыл у нас два дня и две ночи. Спал он на постели родителей, а они на это время ушли в сарай, где стояла лошадь гостя. Утром третьего дня отец позвал меня и в присутствии этого человека стал говорить, что хочет отдать меня ему в учение. Я не очень понимал, что это должно означать, и смиренно слушал отца. Отец говорил довольно долго, а потом спросил, согласен ли я пойти с этим человеком? Я сказал, что сделаю так, как хочет отец.
– У тебя послушный сын, – сказал гость, повернувшись к отцу.
Отец ничего не ответил, я заметил, что он как будто чем-то недоволен, но не хочет, чтобы гость видел это.
Тогда тот обратился ко мне:
– Скажи, как тебя зовут?
– Никифор, – ответил я.
– Хорошее имя, – улыбнулся он и, шагнув ко мне, положил руку на мое плечо.
Рука его была тяжела, он сжимал плечо пальцами, будто испытывая его крепость. Мне стало больно, я попытался отстраниться, но он не отпускал меня. Я посмотрел на отца, но тот отвел взгляд в сторону, будто ничего не заметив.
– Никифор, – сказал гость, наконец выпустив мое плечо, – теперь ты будешь жить со мной. Ты ни в чем не будешь нуждаться, но я хочу одного – чтобы ты был послушен. Скажи, ты будешь слушаться меня?
Я снова посмотрел на отца. Лицо его было как из камня, я никогда его таким не видел.
– Ну, – настаивал гость, – говори!
Вместо меня ответил отец:
– Он будет, – глухо произнес он и почему-то покачал головой.
– Хорошо, – сказал гость отцу, – пусть он идет пока. Будем считать, что мы договорились. Я беру его. Мы уедем сегодня же.
Отец сказал, чтобы я вышел. Я повиновался, но, выйдя из комнаты, неплотно прикрыл дверь и слышал весь их разговор. Я не все понимал, о чем они говорили, но было достаточно того, что понял. Выходило, что отец продает меня за деньги и что гость дает за меня очень крупную сумму. Отец просил добавить еще золотой, но гость упорствовал и говорил, что и того, что он дал, хватит нашей семье на несколько лет безбедной жизни. Отец вяло возражал, и мне было неприятно слышать его голос. Я так и не понял, сумел ли отец выпросить лишний золотой или нет, потому что в эту минуту меня позвала мать. Когда я подошел к ней, она молча обхватила мою голову руками, крепко прижала к груди и заплакала. Ее слезы капали мне на макушку.
Сборы были недолгими, но прощание тягостным и надрывным. Мать плакала в голос и заламывала руки, отец был бледен и стоял, низко опустив голову. Мои братья и сестры обступили меня и стояли молча, кажется, плохо понимая, что происходит и почему этот чужой, с тяжелым взглядом человек увозит меня с собой.
Не могу сказать, что в ту минуту я был очень расстроен. Если бы не причитания матери, то я и совсем бы не плакал. Я чувствовал себя значительно взрослее братьев: не их, а меня выбрал этот человек, не у них, а у меня начинается настоящая взрослая жизнь. Но когда мы отъехали – гость посадил меня перед собой на седло – и я оглянулся, слезы затуманили мои глаза. Я вдруг ясно почувствовал, что, может быть, уже никогда не увижу ни родного дома, ни родителей, ни братьев и сестер. Кто же мог знать, что детское предчувствие меня не обмануло. А мой новый хозяин, словно бы поняв то, что со мной происходит, пришпорил лошадь, и через пару минут мы уже были далеко.
Моего хозяина звали Гай. Я долго не мог понять, чем же он занимается, то есть каким ремеслом. Он не походил на ремесленника, а скорее был похож на торговца, но только ничем не торговал. Мы переезжали из города в город, из селения в селение и нигде не задерживались больше одной ночи. Чаще всего мы ночевали на открытом воздухе, прямо в поле, а если попадался лес, то в лесу (лес в наших местах попадается крайне редко). Мы передвигались довольно быстро – в первом же городе Гай купил для меня лошадь – и за довольно короткое время изъездили полсвета. Кесария, Иерусалим, Вифлеем, Александрия, Эдесса, Самосата [33]33
Города в восточных провинциях Рима; все они связаны с зарождением христианства. Кесария – приморский город на северо-западе от Иерусалима, резиденция прокураторов Иудеи. Вифлеем – небольшой городок к югу от Иерусалима, в котором, согласно христианским канонам, родился Иисус Христос. Самосата – главный город сирийской провинции Коммагены на западном берегу Евфрата.
[Закрыть]– это перечень только крупных городов, где мы побывали.
Гай был человеком суровым, требовательным, но при этом обращался со мной вполне хорошо и не бил даже за серьезные проступки. Впрочем, я был послушным ребенком и по-своему привязался к нему. Я готовил еду, стирал, ухаживал за лошадьми и выполнял всякие другие его поручения. Он сам обучил меня всему, ругал, когда я делал что-то плохо, и хвалил, когда делал хорошо. Вообще-то он был справедливым человеком и никогда не бранил меня зря.
Так прошел год, другой, третий. Я быстро рос и в свои четырнадцать лет чувствовал себя вполне взрослым. Я уже не думал, чем занимается Гай, потому что он ничем не занимался, а только путешествовал. Это было странное занятие, но тогда я еще не понимал этого.
Одевались мы хорошо, ели всегда сытно и никогда не мерзли – что еще нужно человеку, чтобы быть счастливым! Сначала я тосковал по дому, но потом привык к новому своему существованию и не представлял себе, как можно жить по-другому.
Признаюсь, мой хозяин очень меня интересовал, особенно когда я стал взрослее и привык к нему. Во-первых, он знал довольно много языков, но особенно чисто говорил на латинском. Здесь, на Востоке, никто так хорошо не изъяснялся на латыни, кроме разве римских чиновников. Но они стояли так высоко над всеми, что казалось, их и нет вовсе. Другие наречия он знал хуже и иногда спрашивал меня, что означает то или иное слово.
Во-вторых, в каждом крупном городе, куда мы приезжали, он отыскивал какую-нибудь религиозную общину и, хотя сам не участвовал в диспутах, очень внимательно слушал. Таких общин на Востоке бессчетное множество, и у каждой свои верования. Теперь-то я понимаю, как были они все слепы и глухи, проповедуя и отстаивая каждый свое, когда истина была уже открыта. Но тогда я этого не понимал и был ко всему этому равнодушен. Но Гая, напротив, все это очень интересовало, и порой мне казалось, что вся его жизнь только и состоит из удовлетворения такого интереса.
В-третьих, Гай все время что-то писал, занимаясь этим в любую свободную минуту, порой даже пренебрегая едой и сном. Мы возили с собой большое количество свитков и письменных принадлежностей, причем пергамент он покупал самый дорогой, самого лучшего качества. Он очень дорожил написанным и, когда ложился спать, всегда клал свитки у изголовья, а засыпал, положив на них руку. Я долго не понимал, чего он боится – разве это кому-нибудь могло быть нужно!
И, в-четвертых, самое главное. Не сразу, но по прошествии довольно долгого времени мне стало казаться, что мы от кого-то бежим и кто-то невидимый все время преследует нас.
Об этом нужно сказать особо. Я уже говорил, что мы никогда не оставались на одном месте больше одной ночи. Бывало, что мы жили в городе неделями, но место ночлега меняли каждый вечер. Это было очень неудобно – всякий знает, что такое переезд. Хотя вещей у нас набиралось не так уж много, но все равно переезжать каждый раз на новое место было обременительно. Конечно, со временем я привык к этому, и все же…
Но переезды тут не самое главное, а самое главное состояло в том, что Гай вел себя крайне осторожно. Скажу более, настороженно. Мне казалось, что он ни-когда не знает покоя. Если мы прибывали на постоялый двор, то, прежде чем поселиться, он внимательно осматривал все помещения, вглядывался в лица людей, долго и подробно о чем-то расспрашивал хозяина. Только убедившись, что все в порядке, он оставался там на ночь.
Он все время был в напряжении, даже когда мы останавливались в поле и вокруг не было ни души. Сначала я думал, что он боится разбойников, но оказалось, что я ошибался, потому что когда мимо нас проезжало или проходило несколько человек, он оставался спокойным, но стоило появиться одинокому путнику – все равно, пешему или конному, – как Гай вставал и незаметно клал руку на меч, который всегда возил с собой. И пока путник не проезжал или пока он не видел ясно его лица, он пребывал в напряжении. Я называю это напряжением, но правильнее сказать, что это был страх.
Хотя должен заметить, Гай не был трусливым человеком, в чем мне не раз пришлось убедиться. В путешествиях случается разное, и на нас неоднократно нападали. Правда, больше трех нападавших не было никогда, но Гай умел справиться с тремя Он ловко орудовал мечом и делался столь неистовым в драке, что те из нападавших, кого он сразу не убил, бежали в страхе. Я и сам боялся его неистовства, при том что в отношении меня он никогда его не проявлял.
Я даже стал думать, что, может быть, Гай какой-нибудь государственный преступник, скрывающийся от властей? Но от властей он особенно не скрывался, да и на преступника не был похож.
Было еще одно странное обстоятельство – у Гая никогда не кончались деньги. То есть, возможно (и даже наверняка), они и кончались, но откуда-то прибывали снова. Потому что не носил же он все деньги с собой. Я не один раз – сейчас мне стыдно вспоминать об этом – рылся в его вещах во время его отсутствия, но никаких денег не находил. Я знал, что у него под платьем на поясе висит кожаный кошелек, но туда могли поместиться от силы несколько золотых. Впрочем, золотыми он никогда не расплачивался, а только мелкими монетами. Это и понятно: опасно, если кто-либо видит, сколько у тебя денег.
Мне страшно хотелось расспросить его обо всем этом, любопытство временами просто съедало меня, но я не смел. Достаточно было встретиться с его взглядом, чтобы отпала всякая охота задавать ненужные вопросы.
Когда мне исполнилось пятнадцать лет, Гай взялся учить меня латыни. К тому времени я уже кое-что знал, но теперь учение было настоящим, серьезным Он был хорошим учителем, терпеливым и одновременно требовательным, а я – говорю без ложной скромности – оказался способным учеником. Он и сам говорил мне не раз:
– Я очень рад, мой Никифор, что взял у родителей тебя, а не кого-то из твоих братьев. Клянусь Юпитером, никто из них не смог бы превзойти тебя в таланте учиться. Учись, слушайся меня, и со временем ты станешь моим наследником, ведь я совсем одинок.
Однажды он сказал мне:
– Жаль, Никифор, что ты так поздно родился, а мы так поздно встретились. Если бы ты родился на десять лет раньше, ты мог бы познать совершенно другую жизнь и увидеть меня в таком величии, какого ты и представить себе не можешь.
– А какое это величие? – наивно спросил я.
– Смотри в пергамент, ты снова наделал ошибок! – раздраженно проговорил он вместо ответа, – Придется переписывать заново.
Такие его внезапные переходы от благодушия к раздражению, а то даже и гневу (бывало и такое) отбили у меня охоту спрашивать его о прошлом.
Обучение мое продвигалось успешно, с некоторых пор он стал говорить со мной только на латыни, и, когда я путал слова или употреблял неправильный оборот, он сердился, но все же терпеливо поправлял меня. Когда же я говорил правильно, а особенно когда правильно понимал, он был очень доволен и не скупился на похвалы. Полагаю, ему просто нужен был собеседник, говорящий с ним на родном языке. А то, что латынь его родной язык, у меня больше не было сомнений.
Всякое знание требует применения, и я уже довольно легко справлялся с латинскими авторами, сочинения которых покупал для меня Гай. Он не скупился, хотя сам никогда не читал и отзывался о писателях с нескрываемым презрением, называя их дурными актерами, не нашедшими применения на сцене и потому пишущими для других. К слову сказать, это было не самое резкое определение, которое он им давал.
Я же, напротив, чем больше совершенствовался в латыни, тем более увлекался чтением и просил Гая купить мне еще. С некоторых пор я стал свободно ориентироваться в сочинениях современных и старых авторов и даже мог читать длинные поэмы.
Гай не очень любил слушать мое чтение вслух, быстро утомлялся, и лицо его делалось сонным. Но зато он любил, когда я пересказывал прочитанное своими словами. Внимательно слушал, переспрашивал содержание отдельных эпизодов, просил меня рассказывать еще и еще. К слову сказать, я делал это охотно.
Такое его поведение несколько удивляло меня: мне всегда прежде казалось, что он хорошо образованный человек. Впрочем, все познается в сравнении, и когда я узнал многое и о многом, я понял, что Гай знает мало и никакого особенного образования не получил. Мне стало казаться, что он не обучен самым простым вещам, и я даже ощущал в отношении его некий род превосходства.
Но только временами и только некоторое время. Дело в том, что в Гае было нечто такое, чего я не знал, не понимал и чему – не побоюсь сказать – по-настоящему завидовал. Это трудно объяснить, но был в нем некий род величия, которое отличало его от других: и очень богатых, и очень образованных. Порой, когда он смотрел на человека, тот чувствовал – и это было довольно заметно – нечто подобное страху или смущению. Или тому и другому вместе. Не стану говорить, что люди трепетали перед ним, но некоторый неосознанный трепет все-таки испытывали. Испытываемый людьми трепет иногда выливался в подобострастие, а иногда в злобу. Но разве в этом дело! Гай вел себя и держался так, будто был по меньшей мере властелином мира, причем настоящим, а не придумавшим сам себя.
Я полагал, что если прочитаю то, что он пишет, то смогу понять в нем многое, если не все, но добраться до его сочинения было крайне трудно – чтобы не сказать: невозможно. Он не любил, когда я находился рядом во время его писаний, и всегда отсылал меня куда-нибудь или что-то поручал делать. Если он сам уходил, а я оставался то он непременно брал написанное с собой. Такое его поведение сделало мое любопытство особенно сильным, но я так и не смог тогда удовлетворить его.
Прошло еще время, мне минуло семнадцать лет. Я уже не был тем наивным мальчиком, который уехал неизвестно с кем и неизвестно куда Гай перестал быть для меня просто хозяином – я чувствовал в себе мужскую силу, а знания, которые я получил, читая литературные произведения, придавали мне уверенности в себе и порождали чувство собственного достоинства. Нет, я не перестал уважать Гая и подчинялся ему практически беспрекословно, но все же наши отношения стали другими. Он и сам уже не относился ко мне, как к мальчику, и в его приказаниях и наставлениях была та мера осторожности, которая указывала на то, что он учитывает и мой возраст, и мое ощущение самого себя.
Как-то он сказал мне:
– Послушай, Никифор, может быть, тебе лучше вернуться в родительский дом? Ты уже далеко не мальчик, скоро станешь настоящим мужчиной, ты достаточно хорошо образован и найдешь себе лучшее применение, чем без конца путешествовать со мной. Я вижу, что тебе скучно, что наша жизнь и я сам надоели тебе. Скажи прямо, не нужно стесняться. Я дам тебе денег, на первое время тебе вполне хватит, а там… Скажи, что ты думаешь об этом?
Я ответил не сразу. Он угадал – я в самом деле часто думал о том, чтобы покинуть Гая и жить самому (признаюсь со стыдом, что о родительском доме и своих родных я не думал вовсе, будто их и не было никогда у меня). Мне в самом деле несколько наскучила такая жизнь, моя молодость требовала развлечений, любви и всего того, чем тешится несовершенная человеческая натура. Мне представлялось, что, когда я стану свободен от Гая, у меня начнется другая, замечательная и интересная жизнь.
Но так я думал, пока молчал Гай. Но лишь только он сказал о том, о чем я думал сам, как я испугался: как же я буду без него? Все-таки за эти годы нашего бесконечного путешествия я повидал довольно много, и жизнь людей вообще не представлялась мне легкой. Эта наша с Гаем жизнь, несмотря на постоянные переезды, была более или менее беззаботной: нам не нужно было думать о заработке, у нас всегда были деньги. Мы не знали, что такое изнуряющий каждодневный труд и думы о завтрашнем дне. Несмотря на свою молодость, я все это достаточно хорошо понимал.
Я испугался еще и того, что подумал: Гай не хочет, чтобы я был с ним. Возможно, для него я уже не очень удобный спутник и, расставшись со мной, он снова возьмет какого-нибудь маленького мальчика из бедной семьи.
– Ну, Никифор, что же ты молчишь? – повторил он. – Отвечай же.
– Ты хочешь прогнать меня, – проговорил я с настоящим, а не притворным чувством, опустив голову, – я тебе больше не нужен.
Я не видел его лица, но по чуть слышному звуку, который сорвался с его губ, понял, что он усмехнулся. Я хорошо знал Гая, и, когда уловил этот звук, у меня отлегло от сердца. Я не ошибся, и он сказал:
– Нет, Никифор, мне хорошо с тобой. Скажу больше, я к тебе привязался. Но мне казалось, что я наскучил тебе.
– Нет, нет! – вырвалось у меня. – Ты не можешь мне наскучить.
Он посмотрел на меня пристально. Я понимал, что он знает обо мне больше, чем я говорю; порой мне казалось, что его и вообще невозможно обмануть – его взгляд проникал в самое сердце.
– Хорошо, Никифор, – проговорил он, отвернувшись, – тогда собирайся, нам пора ехать.
Сначала мне казалось, что мы путешествуем без всякого плана. Впрочем, когда я был моложе, я просто не задумывался над этим. Но, став старше, я увидел, что мы посещаем города с определенной периодичностью. Некоторое время я не придавал этому значения, но потом стал думать, что все это неспроста. Антиохия [34]34
Антиохия – город на р. Оронте, основан Селевком Некатором в 300 г. до н. э., столица Сирийского государства (после подчинения Риму – провинции Сирия). Местопребывание римского наместника.
[Закрыть], Самосата, Эдесса, Пальмира [35]35
Пальмира – город в Сирии, крупный центр караванной торговли и ремесла. В 1-ІЙ вв. н. э. переживал период расцвета.
[Закрыть], Иерусалим, Александрия: мы двигались как бы по кругу (я здесь не называю более мелкие населенные пункты). Но мало того что в наших передвижениях был свой маршрут и особая система – тут было еще что-то. Дело в том, что обязательно по прибытии в очередной город Гай оставлял меня одного на довольно продолжительное время и непременно под вечер. Куда он уходил и зачем, я не знал, не мог догадаться, а спрашивать его, разумеется, не смел.
Я не имею в виду здесь те часы, которые проводил Гай, слушая религиозные диспуты, а иной раз и участвуя в них. Во-первых, иногда он брал меня с собой, во-вторых, бывало, я приходил туда за ним, и он всегда оказывался на месте. Я имею в виду другое: в первый день прибытия в очередной город он оставлял меня, уходил, ничего не объясняя, и отсутствовал довольно долго. Возвращался всегда в хорошем расположении духа и, если мы ночевали на постоялом дворе, непременно заказывал хороший обед и делал мне мелкие, но приятные подарки.
Ходить с ним в общины я не любил. Меня утомляли скучные религиозные споры, тем более что многого я просто не понимал, а люди, занимающиеся этим, казались мне не вполне здоровыми. Но с тех пор, как меня заинтересовали вечерние отлучки Гая, я стал постоянно сопровождать его и терпеливо выслушивал все эти высокопарные глупости, что изрекали собравшиеся там люди, мнящие себя чуть ли не пророками. Должен заметить, что, когда говорил Гай – а случалось это крайне редко, – мне его слова глупостью не казались. Мысли и определения его были четкими, а вопросами он часто ставил в тупик своих самоуверенных собеседников. Но относились к нему там довольно хорошо и даже уважительно. Еще бы относились плохо – ведь всякий раз он покупал на свои деньги еду и питье для всех!
Однажды я спросил его, зачем он это делает, то есть зачем поит и кормит всех этих дармоедов? Он отвечал, что, во-первых, это его дело, а во-вторых, это он делает для себя, а не для них. Я не очень понял, что он имел в виду, но он больше ничего не сказал, а я постеснялся расспрашивать.
Я подозревал, что его рукопись тоже содержит какой-нибудь религиозный трактат, но, конечно, не был в этом уверен. Правда, с некоторых пор меня это меньше волновало, а я страстно желал другого: проникнуть в тайну его вечерних отлучек.
Долго я не решался проследить за ним, но любопытство стало сильнее страха. В тот раз мы прибыли в Эдессу, со всеми обычными предосторожностями поселились на постоялом дворе. Ближе к вечеру он собрался, дал мне несколько указаний по хозяйству и ушел. Я последовал за ним. Народу на улицах было много, и я боялся, что потеряю его в толпе, и потому шел за ним на довольно близком расстоянии. С другой стороны, люди на улицах прикрывали меня, и ему трудно было заметить слежку. Я был уверен, что он об этом даже не помышляет, ведь за все время пути он ни разу не оглянулся. Так мы вышли за город. Здесь следить за ним стало труднее, тем более что сумерки сгустились почти в темноту. Но его белое платье все равно хорошо виднелось, он шел в сорока – пятидесяти шагах впереди меня быстрым уверенным шагом, направляясь к роще за городом. Он все не оборачивался, хотя я каждую секунду ждал этого со страхом. Я решил, что если он обернется, то я тут же убегу, и он вряд ли сумеет понять в темноте, кто его преследовал.
Так мы вошли в рощу – он, потом я. Его белое платье мелькало среди деревьев, казалось, что он бежит, и я едва поспевал за ним. Вдруг он исчез, словно в одно мгновение растворился в темноте. Я в нерешительности остановился. Темнота, деревья вокруг, шум ветра в листве – все это страшило меня, и я пожалел, что пошел за Гаем. Но отступать было поздно, и, пересилив страх, я осторожно пошел вперед. Но удалось мне сделать всего несколько коротких шагов.
Внезапно меня сильно толкнули в плечо, я не удержался на ногах и с невольным стоном упал на землю. Тут же на меня навалилось чье-то тело, придавило, словно глыба камня, так что я не мог пошевелить ни руками, ни ногами, и я почувствовал, как острое железо уперлось мне в шею. От страха и неожиданности я не смог даже закричать, уже не говоря о том, чтобы позвать на помощь. Острие все глубже проникало в шею, и я понял, что наступила моя последняя минута. И тут я выдохнул едва слышно, сам не понимая, что говорю:
– Га-ай!
– Мерзкий ублюдок! – услышал я голос Гая и ощутил его горячее дыхание. – Мерзкий ублюдок, я убью тебя!
Это был Гай, и я не понимаю, почему сразу этого не понял. Сказать, что он был в гневе, значило не сказать ничего – я видел, что он впал в свое страшное неистовство. Не отпуская меня, он приподнялся над моим лицом, ткнул рукой, в которой держал меч, и лезвие, скользнув по моей шее, глубоко ушло в землю.
До сих пор не могу понять: промахнулся ли он или сделал это нарочно? Он дернул меч на себя, и я скорее почувствовал, чем увидел его острие у самых моих глаз.
– Говори, ублюдок, – процедил он сквозь зубы, содрогаясь всем телом, – говори, кто послал тебя?!
– Я… я… – только и смог выдавить я.
– Нет, ты ответишь! – прокричал он так громко, что его крик непременно услышали в городе. – Кто послал тебя, кто нанял тебя и сколько тебе заплатили?! Говори, или ты умрешь сию же секунду!
При всем ужасе, который я испытывал, при всем оцепенении, в котором находился, я каким-то невероятным образом все же сумел сообразить, что если сейчас не отвечу, то умру теперь же. И я выдавил из себя, хрипя:
– Я сам… я хотел… мне было…
– Сам! Сам! – прокричал Гай надо мной, но я ощутил, что сказал самое верное из того, что можно было сказать.
Еще несколько мгновений острие меча подрагивало где-то у глаз, но вдруг Гай, опершись рукой о мою грудь, поднялся.
– Вставай! – выговорил он уже довольно спокойно, но все еще тяжело и прерывисто дыша. – Иди за мной!
И, повернувшись, он пошел по направлению к городу. Я торопливо поднялся и, зажав рану на шее рукой, потрусил за ним. Странно, но у меня ни на одно мгновение не возникло желания бежать, хотя я легко мог это сделать (Гай шел быстро и ни разу не обернулся). У меня не только не возникло такого желания, но я больше всего боялся, что он уйдет, а я останусь. Теперь я страшился потерять его из виду больше, чем тогда, когда следил за ним. Все тело мое содрогалось от боли и страха, а рука, которой я зажимал рану, была в крови – кровь прожималась сквозь пальцы и текла по запястью к локтю, – но я шел и шел, не в силах оторвать взгляда от белеющей впереди спины Гая.
Когда мы вернулись на постоялый двор, я едва передвигал ноги. Хозяин и другие постояльцы смотрели на меня со страхом, но никто из них не посмел спросить Гая, что со мной случилось. Гай обернулся ко мне и коротким движением руки приказал, чтобы я шел в нашу комнату, а сам что-то тихо сказал хозяину. Тот как будто переспросил, и тогда Гай громко и раздраженно ответил:
– Я же сказал – лучшего!
Только потом я понял, что разговор шел о враче. До его прихода Гай сам промыл мне рану и перевязал чистым холстом, который принесла жена хозяина.
Врач явился довольно поздно, он почему-то с опаской взглянул на Гая, а тот кивнул ему на меня. Увидев повязку, сквозь которую сочилась кровь, он удрученно покачал головой, но тут же принялся за меня и возился с раной до поздней ночи.
По-видимому, я потерял много крови, хотя рана не была глубокой. К тому же она загноилась, и мы пробыли на постоялом дворе больше недели. Это случилось впервые, когда мы пробыли больше дня в одном месте. Все эти долгие дни Гай выглядел очень озабоченным: то ли оттого, что рана медленно заживала, то ли оттого, что пришлось задержаться здесь. Он почти никуда не выходил, но мы не разговаривали. Врач посещал меня каждый день и все так же с опаской поглядывал на Гая. Он менял повязки, накладывал на рану какие-то резко пахнущие снадобья, заставлял меня открывать рот и показывать язык, хотя это всякий раз причиняло мне боль.
То ли врач был хорош, то ли молодой организм справился с болезнью, а скорее всего и то, и другое, но к концу недели я чувствовал себя уже довольно хорошо, стал вставать и выходить во двор. И когда на следующий день Гай спросил меня, в состоянии ли я ехать, я ответил, что чувствую себя вполне крепким. Он недоверчиво посмотрел на меня, но тут же стал собираться.
Еще через неделю я был совершенно здоров, и, если бы не рубец, который я случайно задевал время от времени и болезненно это ощущал, я бы и не вспоминал о ране.
Гай не заговаривал со мной о происшедшем, и это томило меня. Теперь он говорил со мной только по делу, да и то односложно: сделай это, купи то, пойди туда. Было бы значительно легче, если бы он напоминал мне о моем проступке. Он едва не убил меня, но я не чувствовал к нему ни злобы, ни обиды и винил только самого себя. Порой я тоскливо смотрел на него, и, когда наши взгляды встречались, мне порой казалось, что он вот-вот скажет мне то, чего я жду. Но он молчал и равнодушно отводил взгляд. Он даже не злился на меня, по крайней мере, никак злобы не показывал, и это был род пытки, которую он для меня придумал.
Не выдержав, я как-то сказал ему с горячностью:
– Я больше так не могу, Гай. Ну скажи хоть что-то, только не мучай меня. Если ты желаешь, я уйду, хотя мне не хочется расставаться с тобой. Я не хотел принести тебе вред, мне было просто любопытно.
Он ответил сразу и очень спокойно, будто не заметил моего состояния:
– О чем это ты? И я не хочу расставаться с тобой. Кстати, я заметил, что твоя лошадь хромает. Посмотри, что с ней, нам предстоит долгий путь.
С этого самого дня стена, разделявшая нас, постепенно делалась все тоньше и тоньше, пока не исчезла совсем, и мы словно бы вернулись в прежнюю колею нашей жизни: снова я читал своих любимых латинских авторов, пересказывал прочитанное Гаю, он с интересом слушал, а порой просил повторить. Я занимался нашим хозяйством, он все писал свое сочинение, и мы продолжали наше нескончаемое путешествие.
В тот раз мы прибыли в Антиохию. Остановились на постоялом дворе (думаю, излишне объяснять, что всякий раз мы останавливались у новых хозяев), и к вечеру Гай собрался и хотел было уйти. Но замешкался, не уходил, время от времени странно поглядывая на меня. Я понимал, что это та же самая отлучка, как и тогда, когда я пытался следить за ним, но я делал вид, будто ничего не понимаю, и с особенным рвением продолжал заниматься хозяйством. Он вышел, но тут же вернулся.
– Послушай, Никифор, – сказал он, пристально на меня глядя, – мне кажется, что тебе нужно развлечься.
– Развлечься? – не понял я.
– Да, развлечься, ведь у тебя совсем нет развлечений. Наши однообразные путешествия, я вижу, утомляют тебя. А ты молодой человек, тебе скучно с таким, как я. Я и сам был молод и хорошо это понимаю.
– Нет, Гай, – ответил я, по-видимому, более горячо, чем было нужно, – ты ошибаешься, мне совсем не скучно с тобой. И я счастлив…
Но он не дал мне договорить, поморщился и махнул рукой:
– Оставь это, мы не первый день знаем друг друга. Я все понимаю, но молодость есть молодость. Вот скажи мне: разве тебе не хочется женщины?
Он никогда так со мной не говорил, я покраснел и опустил глаза. Дело в том, что он попал в самую точку – с некоторых пор женщины очень волновали меня. Я засматривался едва ли не на любую женщину, которая встречалась: на молодую и не очень, на красивую и некрасивую. Они снились мне каждую ночь – обнаженные, соблазнительные, источавшие особый запах, от которого голова идет кругом и самопроизвольно извергается семя. Я очень стеснялся этого и больше всего боялся, что Гай что-нибудь заметит.








