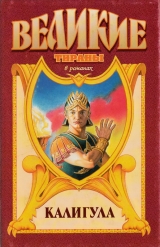
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Мне показалось, что эти конвульсивно дергающиеся ноги есть ноги моей Друзиллы. Не знаю, почему мне так показалось, ведь не было никакого сходства. Но какое это имеет значение? Я много раз видел смерть и хорошо помнил предсмертное подергивание ног. То же самое было с Тиберием, когда я накрыл его подушкой.
Да, это были ноги умирающей, это был настоящий танец смерти. Я подумал, что ноги дергаются потому, что убегают из пространства жизни в пространство смерти и сам человек ничего не может поделать с таким неукротимым бегом.
Я пригнулся и, заглянув Нунехии в лицо, увидел лицо Друзиллы. Не это страшное лицо, что я видел в доме Марка Силана, а то, настоящее лицо моей Друзиллы – моей сестры, моей жены, моей возлюбленной… Это было ее лицо, только почему-то крикливо размалеванное и очень испуганное.
– Друзилла! – прошептал я и потянулся к ней, но неожиданно соскользнул на пол.
Голова моя оказалась возле ее дергающихся ног, и я сам задергал ногами. Вернее, они задергались сами по себе. То ли я боялся быть растоптанным этими бьющимися возле меня ногами, то ли… Я приподнял голову, посмотрел на свои дергающиеся ноги, и мне показалось, что я бегу, бегу и уже никогда не смогу остановиться.
Голова моя упала, стукнувшись затылком об пол, я услышал пронзительный женский крик и надвигающийся тяжелый топот. И больше не помню ничего.
Кажется, в то же самое мгновение, как я открыл глаза, Сулла сказал, что Друзилла умерла и ее уже похоронили. Я не понял и показал ему взглядом, что не понимаю, и тогда он повторил:, – Уже три дня, как ее похоронили.
– Где? – наконец смог выговорить я.
– Что «где»?
– Я спрашиваю, где похоронили?
– А-а… – Он пожал плечами. – В вашей родовой усыпальнице, где же еще!
– Знаешь, Сулла, а ведь я не хочу жить.
– Я знаю, – заговорил он спокойно, как об очевидном. – Ты не только не хочешь, ко уже и не сможешь жить.
– Совсем? – почему-то спросил я.
– Совсем, – ответил он и почему-то усмехнулся.
Здесь я снова потерял сознание, а когда очнулся, то не увидел Суллу и велел позвать его. Он пришел, склонился надо мной, и я спросил:
– Сколько теперь?
– Что «сколько», Гай, я не понимаю.
– Сколько прошло дней с тех пор, как похоронили Друзиллу?
Он задумался на несколько мгновений, как. видно, подсчитывая про себя, потом сказал:
– Не так много. – И закрыл глаза.
Так я несколько раз выходил из забытья и, спросив, сколько прошло дней с тех пор, как похоронили Друзиллу, тут же снова впадал в забытье. В последний раз Сулла сказал, что прошло уже двадцать восемь дней. Я закрыл глаза, думая, что снова впаду в забытье, и желая этого, но ничего не получалось.
Так закончилась моя болезнь. Священная болезнь, как о том говорили в Риме. Были слухи, которые я и сам распускал и поддерживал, что в те периоды, когда я находился в забытьи, меня не было здесь, а я был на Олимпе и беседовал с богами. Множество народу приходило ко дворцу, они сидели на площади с утра и до вечера (а некоторые оставались и на ночь), и все ждали того мгновения, когда я возвращусь, и смотрели на небо. На мое счастье и в подтверждение слухов, дважды разыгрывалась страшная гроза. Молнии прорезали небо от горизонта до горизонта, а гром гремел с такой силой, что люди в страхе падали на землю. И некоторые видели – как они сами утверждали – огромную колесницу Юпитера, на которой я возвращался с Олимпа.
Когда я наконец сумел подняться на ноги и подойти к окну и когда толпа увидела меня, радостные крики, казалось, сотрясли Рим. Мне кричали, что я божественный, что я любимый, что до меня не было, а после меня не будет в Риме такого императора. (Подлый народ, говоря о моей божественности, они все-таки не верили в мое бессмертие.)
Я еще несколько дней пролежал в постели. Мне не хотелось вставать. Сулла находился со мной неотлучно. Мы не говорили о моей болезни и обо всем, что связано с нею. Собственно, мы почти не говорили.
Не буду объяснять, что делалось в моей душе, – не хочу, да и не смогу тоже. Скажу только, что мне в самом деле не хотелось больше жить после того, как умерла Друзилла. Не то чтобы я хотел смерти – нет, пожалуй, не хотел, но жить прежним Гаем, императором и быть прежним Гаем-императором я уже не мог.
В один из дней я спросил Суллу, знает ли он, что случилось с Друзиллой? Он сказал, что знает, и рассказал мне. По его рассказу выходило, что Друзилла смирилась со своей участью. По крайней мере, она не пыталась бежать из казармы преторианцев, где с нею по очереди спали Туллий Сабон и командиры когорт. Из-за этой очередности среди командиров даже возникали серьезные распри, а однажды было обнажено оружие. Да и Туллий Сабон вел себя не лучшим образом. Сначала он сам наслаждался Друзиллой в течение нескольких дней, потом заявил командирам, что она останется у него на неопределенное время и он отдаст ее командирам только тогда, когда сам этого захочет. В среде командиров было брожение, вылившееся в открытое недовольство. Они все вместе явились к дому Туллия и потребовали отдать им Друзиллу. В случае отказа они угрожали, во-первых, пожаловаться императору, а во-вторых, если это не даст желаемого результата, объяснить все солдатам и предложить им самим решить этот вопрос. Туллий сначала кричал на них грозно, угрожая всевозможными карами, потом пытался дружески урезонить и, наконец, сдался и отдал Друзиллу. Она послушно пошла в казарму и делала все, что от нее хотели (говорят, что даже танцевала обнаженной, но это по слухам). При этом – и это совершенно точные сведения – она ни с кем не разговаривала: ни с Туллием, ни с командирами. Она делала все, что они хотели, и молчала при этом.
А потом она заболела и угасла всего в несколько дней. Судя по всему, это была нехорошая болезнь любви, которой болеют проститутки. Но, возможно, это было что-то другое, или она умерла от тоски и обиды.
Когда ее привезли домой, она была уже совсем плоха и не походила на прежнюю Друзиллу. Ее муж, Марк Силан, нежно за ней ухаживал и плакал беспрерывно. Правда, после того, что с ним случилось в тюрьме, он и сам очень ослаб, и бывает, что плачет без всякой причины, но все же. Дня два, пока она еще не впала в окончательное забытье, она нежно смотрела на мужа и говорила, что очень его жалеет и виновата перед ним. И еще говорила, что очень плохо, что у них нет детей, и если бы у них были дети, то с ними не случилось бы того, что случилось. Она завещала Марку не долго держать по ней траур, а скорее жениться, но так, чтобы обязательно были дети, много детей, как можно больше. Потом она впала в забытье, лежала как мертвая, а потом и совсем перестала дышать.
Он закончил свой рассказ, а мне все хотелось спросить его, вспоминала ли она обо мне? Я не посмел спросить впрямую, а спросил: может быть, ему известно, о чем она говорила еще? Он понял мой вопрос и сказал, не глядя на меня:
– Нет, Гай, у меня нет таких сведений.
Решение уйти из этой жизни, перестать быть императором и прежним Гаем – это решение мое стало твердым. Только нужно было все как следует подготовить и уйти так, чтобы меня не искали, чтобы думали, что я умер или ушел на Олимп, что, собственно, одно и то же, а пусть каждый думает, как ему хочется. Главное, чтобы все были уверены, что меня нет среди живых, потому что бежавший император, как известно, представляет большую опасность. Император не может бежать и жить как частное лицо, и если он даже сможет бежать, то непременно должен умереть. Непременно и обязательно.
Следовательно, я должен умереть. Но умереть так, чтобы это видели все, то есть публично. Значит, нужно устроить празднество, когда соберется в одном месте очень много народа, чуть ли не весь Рим. Это первое, самое нетрудное. Второе – найти человека, который сыграет меня, но так, чтобы все поверили, что это именно я, а не подставное лицо. И третье – заговорщики. Это самое трудное, потому что нельзя положиться на подставных лиц, на ложных заговорщиков. Ведь кто-нибудь из них обязательно проговорится, и тогда вся комбинация потеряет смысл. Нет, заговорщики-то должны быть самыми настоящими, и убить они должны настоящего императора. То есть должны быть твердо уверены, что убили настоящего.
С празднеством было легко – пока я болел, я все детально продумал. Подставным лицом должен был стать Сулла. Я был уверен или почти уверен, что он согласится. Самое сложное было с заговорщиками. Они есть, и это мои же собственные гвардейцы. Но они должны действовать в тот день и в ту минуту, когда это нужно будет мне, то есть когда все будет готово для моего ухода. Нужно было проникнуть в заговор и управлять им изнутри, но я все никак не мог придумать, что же для этого нужно. Но судьба сама шла мне навстречу.
Сулла сообщил мне, что командир пятой когорты хочет сообщить мне важные сведения и просит его тайно принять. Он боялся приходить во дворец, и мы назначили встречу в безлюдном месте у реки. Я спросил Суллу, не может ли это быть ловушкой заговорщиков, ведь Клавдий Руф (так звали командира) настаивал, чтобы мы с Суллой явились только вдвоем, и добавил, что выйдет к нам лишь тогда, когда в этом убедится. Сулла сказал, что, конечно, может быть всякое, но что, по его сведениям, Клавдий не замышляет против меня ничего дурного. Впрочем, раздумывать было нечего, удача сама шла в мои руки, и в назначенный день, когда стемнело, мы с Суллой отправились на встречу.
Должен признаться, что, когда мы прибыли на место, меня охватил страх. И причина была не в том, что на меня могли напасть заговорщики, а в том, что в таком месте на нас могли напасть обыкновенные грабители. Поеживаясь от холода – вечер был сырой – и озираясь вокруг, я думал о том, как же живут простые люди, не имеющие дворцов, охраны и всего прочего, что оберегает и защищает человека. Может быть, они столь просты, что не боятся? Или боятся, но ничего с этим поделать не могут?
Мы ждали довольно долго, и я совсем замерз. Роща заслоняла огни города, и темнота вокруг была непроглядной. Я видел, что и Сулле не по себе, он вздрагивал от каждого шороха, но пытался скрывать это. Впрочем, я почти не видел его лица. Я подумал, что все это глупо – условия Клавдия и наше долгое пребывание здесь, в темноте и холоде, – потому что как же этот проклятый Клавдий мог удостовериться в такой темноте, что мы одни? Может быть, это все-таки ловушка и через короткое время мы примем смерть? Я вздохнул. Но от утомления, а не от страха – я уже не боялся смерти.
Наконец послышались приближающиеся шаги. Шел один человек, не крадучись, но осторожно. Сулла взял меня за руку (его пальцы были холодны) и проговорил в темноту:
– Германик.
– Император, – ответил ему низкий голос, и вслед за этим: – Идите за мной.
Не выпуская моей руки, Сулла пошел на голос, потянул меня за собой. Я послушно пошел. Некоторое время спустя голос впереди сказал:
– Осторожно, здесь камни.
Мы поднялись в гору. Я с трудом различал силуэт идущего впереди человека – то он мне казался огромным, едва ли не в два человеческих роста, то совсем маленьким. Вошли в рощу, и тут я увидел огонь костра невдалеке. Мы с Суллой остановились одновременно, и Сулла, кажется непроизвольно, сжал мою руку. Но человек впереди, по-видимому, понял наши опасения, подошел к нам совсем близко, сказал медленно и чуть растягивая слова:
– Холодно. Это мой костер. Там нет никого.
Впрочем, отступать нам все равно было некуда, и мы подошли к костру. Человек указал на заранее подложенные рядом ветки, мы сели. Он остался стоять, и лицо его было плохо различимо. Я сказал:
– Садись. Я хочу видеть, с кем говорю.
Чуть помешкав и как бы не решаясь, он сел на землю, и наконец я смог разглядеть его. Нет, я не помнил его лица, тем более что сейчас он был одет как крестьянин. Если бы на нем была военная форма, я непременно бы вспомнил, потому что, конечно же, не раз должен был видеть его во дворце – командиры когорт там поочередно дежурили. Но в этом ли сейчас было дело?
У него оказалось противное лицо: широко расставленные глаза, маленький, словно бы приплюснутый нос, бугристая кожа и непомерно широкий рот с толстыми, как бы вывернутыми губами. Я подумал, что он, наверное, из вольноотпущенников и, конечно же, в нем течет какая-то чужая кровь – сирийца или даже негра. Я хотел спросить его об этом, но не стал и сказал другое:
– Ты узнаешь меня? Говори, что ты хотел мне сказать.
– Я узнал тебя, император, – проговорил он и попытался подняться, но я жестом остановил его.
– Вот и хорошо, что ты узнал своего императора, это делает тебе честь, – выговорил я без улыбки и, увидев, что лицо его сделалось растерянным, закончил чуть мягче: – Говори же, я слушаю тебя. У меня мало времени.
Он смутился еще больше и никак не мог начать. Больше я не торопил его, ждал терпеливо. Наконец он начал, заикаясь и поминутно вытирая лоб ладонью.
Долго он не мог говорить внятно, и речь его трудно было понять. Сулла строго прикрикнул на него:
– Говори внятно, император пришел сюда не для того, чтобы выслушивать твое мычание!
Мне показалось, что после этих слов он и вообще не сможет говорить, но я ошибался, и с этой минуты речь его стала вполне понятной.
Он сказал, что пришел сюда, потому что он верный солдат и еще потому, что породнился с императором (то есть со мной). Для него была большая честь находиться с сестрой императора, и он понимает, что в нас теперь течет одна кровь и император для него все равно что брат или отец.
Тут он стал зачем-то говорить, что он не как другие, а понимал, что это сестра императора, то есть все равно что сам император, и потому он обращался с ней с должным почтением.
– Замолчи! – воскликнул Сулла, – Что ты несешь!
И только тогда я понял, что в словах Клавдия была
мерзкая двусмысленность, и не имеет значения, что она вышла случайно, потому что ведь все равно он спал с Друзиллой. Мне представилось, как эти мерзкие вывернутые губы касались ее губ, и его «должное почтение» выглядело особенно противным.
– Оставь это, – медленно и угрожающе проговорил я. – Говори по делу, или ты думаешь, что я пришел сюда, чтобы выслушивать, как ты спал с моей сестрой?!
Клавдий онемел, смотрел на меня со страхом и обидой, как несправедливо униженный ребенок. Если бы он не был столь противен мне, то я, наверное, смог бы его пожалеть. А так, кроме ненависти к нему и омерзения, во мне не осталось ничего.
Молчал я, молчал Клавдий. Неизвестно, сколько бы продолжалось такое молчание, если бы не Сулла. Он сказал:
– Клавдий! Император вполне понимает и принимает то почтение, которое ты оказал его сестре. Император не сомневается в твоей Преданности, иначе он бы не был здесь. Но сейчас ты должен сказать главное. Говори, император слушает тебя.
Эти простые слова почему-то правильно подействовали на Клавдия, и его последующий рассказ звучал довольно внятно.
Он сказал, что в гвардии созрел настоящий заговор и в любой подходящий момент заговорщики готовы выступить. Заговор зрел давно, но по-настоящему оформился только сейчас, то есть в тот период, когда Друзилла уже была у них. Главный пункт идеологии заговорщиков заключался в том, что император настоящий сумасшедший. Причем сумасшедший самого вредного толка. (Клавдий проговорил это «сумасшедший», прямо глядя на меня, как если бы произносил «божественный». Вот и пойми после этого истоки его недавнего страха.) Доказательство тому – как они все решили – Друзилла, потому что только сумасшедший может отдать свою сестру на поругание солдатам. При этом о породнении и всем таком прочем они и не вспоминали.
Я молчал, а Сулла спросил о деталях. Но Клавдий не знал ничего определенного, сказал только, что возглавляет заговор Туллий Сабон, командир преторианцев, и что он, по-видимому, сносится с кем-то из сенаторов. Но с кем, Клавдий не знает.
Понятно, что мы сюда пришли напрасно, потому что ничего нового этот проклятый Клавдий нам не открыл – то, что заговор существует, я знал и без него. Туллий Сабон, конечно, не главное лицо, за ним стоят Сенаторы, но что мне за толк знать, кто именно, если її не могу, да и не желаю ничего предотвращать.
Я встал, Сулла и Клавдий встали тоже. Мне хотелось вытащить меч и прикончить Клавдия тут же – просто так, потому что мне было противно на него смотреть. Если бы не игра, которую я задумал и которую должен был тонко и осторожно вести! Но разговаривать с Клавдием мне не хотелось, и я посмотрел на Суллу. Сулла понял мой взгляд, утвердительно кивнул и, обращаясь к Клавдию, сказал:
– Император доволен тобой и желает по-настоящему отблагодарить тебя за преданность. Ты станешь командиром преторианцев вместо Туллия Сабона. Император полагает, что это достаточная для тебя награда. Ты понял?
– Да, император, – дрожащим голосом проговорил Клавдий, почему-то глядя не на меня, а на Суллу, будто это он, а не я был императором. Я заметил, что такой взгляд Клавдия приятен Сулле, и тогда же подумал: «Хорошо, ты еще успеешь побыть императором!»
А Сулла, ответив благосклонным кивком на слова Клавдия, продолжил:
– Ты должен вести себя умно, мой Клавдий, и ничем не выдать себя. Пусть заговорщики думают, что ты с ними. Прояви осторожное рвение, словесно поноси императора – император дозволяет тебе это, – но будь начеку и обо всем доноси мне. Осторожность и преданность – вот самое главное, и в скором времени ты сам станешь командовать гвардией. Теперь иди, как бы нас не увидели вместе.
И он величественным жестом отпустил Клавдия. Тот низко склонился перед ним и, пятясь, исчез в темноте. И Сулла, и Клавдий вели себя так, будто меня не было здесь и будто я не был императором. Мне не понравилось такое поведение Суллы, но я промолчал, и, когда на обратном пути Сулла стал говорить мне, что вел себя так, чтобы раскрыть заговор и подавить его как можно быстрее и успешнее, я благосклонно кивнул. Я кивнул, передразнивая поклон самого Суллы, но он либо не заметил этого, либо не хотел замечать. Впрочем, было темно.
Когда мы вернулись во дворец, я совершенно продрог и никак не мог согреться: ни вино, ни горячая ванна почему-то не помогали. Я боялся, что заболею – это оказалось бы сейчас хуже всего: времени для решительных действий мне было отпущено мало. Сулла суетился возле меня, стараясь помочь, заглядывал в глаза, и, как я ни был плох, я все-таки понял, что его игра в императора во время разговора с Клавдием была не одна лишь игра, то есть, может быть, была совсем не игра. Это я понял, но только не мог понять, как это осторожный Сулла не смог удержаться, и решил с грустью, что мои дела и в самом деле очень нехороши, а власти у меня, может быть, и нет совсем.
Как бы там ни было, я сделал вид, что ничего не произошло, и велел Сулле прийти ко мне утром для разговора, а сам лег в постель. Заснуть я не мог долго, дрожь била все тело нещадно. Но при этом – что очень странно – мысли мои оставались ясными. Более ясными, чем обычно. И, пролежав полночи не сомкнув глаз и борясь с дрожью, я детально продумал весь план своих дальнейших действий. И лишь только план этот ясно предстал перед моим внутренним взором, как дрожь оставила меня, и я уснул.
Утром я чувствовал себя бодро, а следов вчерашнего недомогания не было вовсе. До прихода Суллы я еще успел поработать некоторое время со своим секретарем, то есть заняться так называемыми государственными делами, чего не делал давно. Все это время удивление не сходило с лица секретаря, а я, напротив, был серьезен и сосредоточен. Знал бы он причину такой моей серьезности, он бы удивился еще больше.
Лишь только вошел Сулла, я поманил его в самый глухой угол комнаты и отпустил секретаря. Он как-то странно вглядывался в мое лицо, но я делал вид, что ничего не замечаю.
Мы сели, и я попросил его высказать свои соображения по поводу вчерашнего свидания с Клавдием. Он стал довольно пространно рассуждать о возможностях подавления заговора и наказания заговорщиков, причем советовал мне впрямую обратиться к народу.
– За помощью? – спросил я.
Он почему-то смутился, увел взгляд в сторону и стал говорить, что народ любит меня, почитает как бога и не даст в обиду и что, поступив так, я разом лишу заговорщиков их, так сказать, социальной опоры.
– Ты думаешь, – сказал я ему, когда он закончил, – что у этого жалкого Туллия Сабона есть социальная опора? Разве ты не знаешь, что он совершенный дурак и животное? И разве ты не знаешь, что он в заговоре только потому, что у меня уже нет власти? О какой же социальной опоре тут может идти речь, мой Сулла!
Он смутился еще больше, и тогда я неожиданно выговорил:
– Я знаю, мой Сулла, что ты хотел бы побыть императором. Я говорю «побыть», потому что быть им ты все равно не можешь.
Сулла испуганно посмотрел на меня – он понял, что я знаю все. Я усмехнулся и положил ему руку на плечо.
– Нет, нет, – проговорил я как можно ласковее, заглядывая ему в глаза (при этом он старательно отводил взгляд), – я говорю это тебе не для того, чтобы уличить. Я все понимаю, потому что когда-то и сам я мечтал стать императором. Ты не должен бояться, я хочу помочь тебе. Ты сможешь побыть императором, а при удачном стечении обстоятельств… Но не будем загадывать, а подождем.
Испуг на его лице сменился недоумением. Я не стал томить его и рассказал о своем плане ухода в другую жизнь.
– Но для начала меня должны убить, – пояснил я, – вернее, должны думать, что убили. Я все предусмотрел, мы устроим празднество смерти бога, то есть меня. Смерти здесь, на земле, и воскресения там, на Олимпе. Но об этом я тебе расскажу позже. Сейчас главное – побудить заговорщиков действовать в нужное нам время. Придется пожертвовать Клавдием, тем более что он мне противен. Я приглашу Туллия Сабона.
Я видел, что Сулла в смятении и мало что понимает из моих объяснений. Не скрою, мне нравилось смотреть на него такого, растерянного, непонимающего. Скажу больше – жалкого. И скорее для полноты собственного удовольствия, чем по делу, я сказал:
– Тебе все равно некуда деваться, мой Сулла. Бежать и таиться? Нет, тебя все равно разыщут и убьют. Так уж сложились наши судьбы, что моя смерть тянет за собой и твою. Поэтому мы умрем вместе – я имею в виду: для всех других. Сами же мы станем жить другой жизнью. Жизнью вольных и свободных людей. Вспомни о «братстве одиноких». Мы с тобой будем этим братством.
Сказав это, я пояснил Сулле, что от него сейчас требуется. Он должен тайно выехать из Рима (для отвода глаз, официально, я придумаю для него некое дипломатическое поручение) и спрятать в указанных мною местах некие суммы денег, которые нам понадобятся в нашей другой жизни. Денег этих хватит еще на три жизни, а то и на четыре. Скорее всего мы их не проживем, но кто знает!..
– Надеюсь, мой Сулла, у тебя не возникнет мысли бежать с этими деньгами. Если ты не вернешься к назначенному сроку, я стану искать тебя повсюду, и тогда… Но ты понимаешь меня.
Теперь я видел, что Сулла понимает, и снова потрепал его по плечу. О боги, и этот человек когда-то считался моим учителем! В эту минуту я пожалел, что расстаюсь с императорством, потому что более мудрого правителя, чем я, Рим себе отыскать не сможет. Впрочем, судьба Рима меня уже мало интересовала.
Я отпустил Суллу. Я все решил для себя. Если Сулла обманет, я останусь императором только для того, чтобы поймать и наказать его. Я придумаю такую казнь или такие казни, от которых содрогнутся не только люди, но и небо. Чем не цель жизни и не цель власти! Чем это деяние хуже какого-нибудь нового завоевания для Рима? Мне нет дела до Рима, и тщеславие уже давно не снедает меня. Уважение других, преклонение, почести – что все это стоит по сравнению с настоящим удовлетворением от самого себя. Я и есть Рим, а за границами моего тела заканчивается и он. Кому дано это понять и оценить? Никому. Следовательно, настоящая власть и настоящее удовлетворение нечто совсем другое, чем это принято у людей. Потому-то их поклонение совершенно ничего не стоит.
Сулла уехал, а я пригласил к себе Туллия Сабона. Мы не виделись с ним с тех пор, как со мной случился этот припадок на пире у Агриппы. Не знаю, возможно, он полагал, что я совсем развалился. По крайней мере, вошел он ко мне как хозяин, громко топая и бряцая амуницией – этОт идиот в любых случаях одевался так, будто был в походе. Может быть, и спал он, не снимая доспехов.
Его трудно было чем-либо смутить, но, увидев меня, он смутился. Я встретил его, сидя в кресле в свободной, даже расслабленной позе, с ленивым, почти равнодушным выражением на лице. Впрочем, я в самом деле был спокоен, и мне не особенно пришлось притворяться.
– Рад видеть тебя, мой Туллий, – проговорил я, не предлагая ему сесть, – что хорошего ты можешь мне сообщить? Как дела в Риме, каково настроение у твоих гвардейцев? Рассказывай, рассказывай, я внимательно слушаю тебя.
Он плохо умел скрывать свои чувства и смотрел на меня с настоящим удивлением. Для полноты впечатления я еще зевнул с протяжным и сладким стоном.
– Ну, что же ты! – поторопил я его, впрочем, без всякого нетерпения. – Говори, говори, не стесняйся, император внимательно слушает тебя. Может, у тебя какие-то неприятные для меня известия? Но не бойся, говори прямо.
Туллий еще помялся некоторое время и только после моего повторного приглашения сумел что-то произнести. Он невнятно промямлил, что все в порядке и он не знает, какие неприятные известия император имеет в виду, – у него, мол, никаких сведений нет.
– Да, мой Туллий, – сказал я, многозначительно помолчав, – ты даже себе представить не можешь, как я люблю и уважаю тебя – твою преданность и твои воинские заслуги. Потому что если бы этого не было, – тут я сделал паузу, еще более многозначительную, и, подавшись вперед, закончил: – Если бы этого не было, мне пришлось бы сурово наказать тебя, и отставление от должности в этом случае было бы самым милостивым с моей стороны наказанием. Ты это должен иметь в виду.
Я смотрел на него снизу вверх и изображал лицом переход недовольства в гнев – плавный, естественный и одновременно страшный переход. Воистину, не устаю повторять, что я был великим актером, потому что сообразно с изменением моего лица изменялось и лицо Туллия: настороженность перешла в неуверенность, а неуверенность в страх.
– Я не понимаю, – сказал он глухо, и голос его дрогнул настолько, что мне показалось, сейчас раздастся всхлип, – чем я мог прогневить императора. Я – преданный солдат, неоднократно доказавший…
– Оставим это, мой Туллий, – перебил я его, – я и не собираюсь отрицать твои прошлые заслуги. Но как я должен относиться к человеку, который готовит заговор против своего императора, то есть против меня! Скажи, мой Туллий, как бы ты относился к такому человеку, будь ты на моем месте?
– Я… но я… – только и смог выговорить Туллий, озираясь по сторонам.
Он, конечно же, полагал, что я не просто так завел этот разговор и что в любую секунду могут выскочить мои люди и взять его. В прежнее время я так бы и поступил, но теперь… Впрочем, даже только видеть его испуг мне было приятно, больше скажу, сладостно.
– Я верен тебе, император, – совсем неуверенно выговорил он, побледнев лицом. – И никто, как я…
Тут что-то случилось с ним: он не договорил и схватился обеими руками за горло, будто на него напало удушье. Туллий, конечно, был дурак и животное, но он не был трусом (тем более вряд ли умел притворяться), так что его страх несколько смутил меня. Я подумал, как бы не случилось худшего – если он умрет тут же, на моих глазах, то окончательно порушит все мои планы. И я, успокаивая его, поднял руку и старательно – что далось мне с некоторым трудом – улыбнулся ему.
– Что с тобой? – проговорил я едва ли не ласково, – Успокойся, я не обвиняю тебя. Напротив, я пригласил тебя, чтобы посоветоваться, потому что лучшего советчика я найти не смогу. Кроме того, это касается твоих преторианцев.
Туллий несколько успокоился. По крайней мере, отнял руки от горла и уже не озирался по сторонам. Только лицо было все еще белым как полотно, и его маленькие глазки смотрели на меня, как из-под маски. Он вздохнул раз и другой, протяжно и неровно, и я, глядя на него, подумал, что, возможно, я ошибаюсь и моя власть не столь уж слабая, как мне представлялось, если испуг Туллия столь велик.
Но сейчас не время было для подобных размышлений, и, опасаясь снова вогнать Туллия в прежнее состояние, я быстро продолжил:
– Ты должен понять, мой Туллий, с присущей тебе мудростью, сколь я был удивлен, когда на тебя поступил донос. Разумеется, я не обратил бы на это никакого внимания: доносчики всегда были противны мне, если бы он не исходил от одного из твоих командиров.
В этом месте моей речи маленькие глазки Туллия стали большими. Это произошло так внезапно и очевидно, что я по-настоящему испугался и несколько подался назад, вдавившись спиной в спинку кресла.
– Кто? – выдавил Туллий, и глаза его, казалось, вот-вот выпадут из глазниц.
– Клавдий Руф, – быстро проговорил я, теперь уже сам несколько испугавшись.
– Клавдий Руф, – повторил он за мной, с моей же интонацией, явно не понимая, о чем я говорю.
– Да, Клавдий Руф, командир пятой когорты.
– А-а, – протянул Туллий, и глаза его снова сделались маленькими, только, кажется, еще больше сдвинулись к переносице, – пятой когорты…
– Да, да, – подтвердил я, – пятой когорты, – и быстро продолжил: – Явился ко мне этот Клавдий и рассказал о заговоре, главой которого, по его словам, являешься ты, мой Туллий. А теперь оцени степень доверия к тебе: я не стал проверять, не стал ничего выяснять, а решил поговорить с тобою прямо, как солдат с солдатом.
Я жил в детстве в военном лагере, но никогда не был солдатом, во всяком случае, в том смысле, в каком я это сказал. Но для Туллия такие выражения должны быть более понятными. И я не ошибся – его лицо приняло вполне осмысленное выражение, а на щеках появилось что-то наподобие румянца.
– Подлый изменник! – наконец сумел выговорить Туллий своим обычным голосом, впервые за все время нашего разговора.
– Да, да, – подтвердил я, более скоро, чем это требовалось, – это именно так. Или скорее всего, что так, – мне нужно разобраться. Вот я и позвал тебя, чтобы посоветоваться.
Как-то так неожиданно получилось, что Туллий Сабон из обвиняемого превратился в обвинителя. И я вдруг подумал, что какую-то минуту назад он озирался не потому, что опасался моих людей, спрятанных тут же, а ожидал нападения на меня своих гвардейцев. Мне представилось, что я опоздал – и со своим планом, и с разговором, и вообще, – и вот сейчас толпой ворвутся солдаты, и я даже не успею подняться с кресла. Хотя, если и успею, это ничего не изменит.








