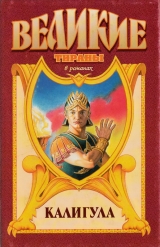
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Итак, в сенате я снова объявил себя богом и снова получил приветствия этих жалких остолопов. А когда сказал, что отныне в храмах вместо статуй Юпитера будут мои статуи, приветствия сенаторов по-настоящему сделались бурными, будто они только и желали уничтожения прежних богов и совсем их не боялись.
Я приказал все сделать быстро и всякие глупые верования других народов отменить совсем, потому что вера в едином государстве тоже должна быть единой. Правда, тут мне возразили, что быстро не получится (не возразили, конечно, но пролепетали с особенным страхом, как и подобает в обращении с богом). Не получится потому, что хотя бюстов моих имеется множество, но изображений в полный рост крайне мало, а в виде бога так и нет совсем. И даже если заставить всех скульпторов работать быстро, то и тут не все просто, потому что такое дело нельзя же доверять всем, но только самым лучшим. А как известно, самых лучших всегда единицы.
В этих возражениях был свой резон. Я несколько растерялся и не знал, что же отвечать. Но нашелся Сулла, стоявший за моей спиной. Он наклонился к моему уху и прошептал, что изготовление статуй пусть идет своим чередом, а пока, временно, можно взять головы от моих бюстов и заменить ими в храмах головы Юпитера. Я кивнул и громко объявил о замене.
Исполнители принялись за дело с самым похвальным рвением. Со всех концов империи непрерывно поступали сведения об установлении в храмах моих статуй. У народов, имеющих своих богов, моя статуя устанавливалась на месте – и вместо – главного божества.
Я ожидал недовольства, а то и народных волнений, но странность всего происходящего была в том, что вокруг оставалось тихо и смерть главных богов, казалось, не затронула никого и никого не опечалила. Будто боги – это всего лишь статуи в храмах: глина, дерево, мрамор, и больше ничего.
Это и радовало меня – принятие моих статуй и такое равнодушие к прежним богам, – и озадачивало. Порой мне было не по себе, и я не мог понять, чем же отличается отношение к старым богам от отношения к новому, то есть ко мне самому. Если бы они возмущались и бунтовали, то, значит, теряли для себя что-то важное (пусть и ложное), что-то по-настоящему необходимое в жизни. И тогда надо силой заставить их отбросить старое и ложное, и принять истинное, и представить это истинное самым истинным, абсолютным. Для выявления и утверждения истины нужна и необходима борьба, и если не жестокость и отчаянность сопротивления, то хотя бы упругость. Если же одно только равнодушие, то, значит, нет ничего. Какая же это истина, если ее принимают равнодушно. Можно заставить ее принять, но верить…
Ну да, они признавали меня богом, но что из того? Чем легче они это признавали, тем больше я испытывал сомнений в успехе своего предприятия и тем сильнее меня охватывали тоска и скука. Скука даже больше, чем тоска. Я чувствовал, что уже ничего не хочу: богом, оказывается, стать легче, чем императором. Но при этом быть императором можно, а богом нельзя. Быть может в этом все и дело!
Иудея не приняла меня. Я был взбешен, метал громы и молнии, кричал, что уничтожу весь этот проклятый народ – во всей империи и за пределами империи не останется ни одного. Но втайне я был благодарен Иудее. Скука, тоска – всего этого как не бывало. Я снова был императором и боролся как император за бога. За самого себя: ведь я был богом.
Сулла сказал мне:
– Не все так просто, Гай. Они боятся тебя, они боятся за свои презренные жизни, но больше этого, то есть больше всего, они боятся бога.
– Меня?
– Нет, Гай, они боятся своего бога. Он у них один.
– Я единственный бог! Посмотри в любом храме, есть ли там Юпитер. Нет его, а я есть. Ни громы, ни молнии не сваливаются с небес, потому что там пусто. Когда я буду там, небо будет заполнено мной одним. А пока я здесь, там пусто.
– Ты верен себе, – сказал Сулла.
– Я не понял, объясни.
– Ты верен себе, – повторил он, – так же, как они верны своему богу. Они знают, что бог один, но они просто не знают, что это ты, а думают, что это тот, в кого они верят.
Я шагнул к Сулле, положил руку на его плечо и стиснул пальцы что было сил. Лицо его исказилось болью, но он продолжал смотреть на меня, не отводя взгляда.
– Так ли я понимаю тебя, мой Сулла, что тебе приятно их непослушание? Или, может, ты гордишься их стойкостью, их жертвенностью, их верой?
– Я только объясняю тебе, император, – отвечал Сулла.
– Нет, – не унимался я, – вспомни их лица, их мерзкие лица, вечно грязное платье и немытые тела. Разве может быть у таких настоящий бог? Нет, Сулла, их бог такой же грязный иудей, как и они сами.
– Да, император, – глухо проговорил Сулла и опустил глаза.
Кажется, я только этого и добивался. Я отпустил его плечо, отвернулся и велел покинуть меня.
Он ушел, и я не приглашал его несколько дней. Я был зол и не мог простить сказанного им и особенно этого его взгляда. Но я был одинок. Я всегда был одинок, но теперь это ощущал особенно. Кроме Друзиллы и Суллы, у меня не было никого. Император всегда одинок. Возможно, только бог более одинок, чем император. Власть над всеми распространяется на всех, и на самых близких в том числе. Но все равно, кроме них, у меня не было никого.
Мы лежали с Друзиллой, едва касаясь друг друга бедрами, когда я спросил ее, могла бы она переспать с иудеем. Сначала она не ответила, будто не слышала, потом, когда я повторил вопрос, лениво произнесла:
– Что ты такое спрашиваешь, Гай?
– Нет, скажи, – привстав, опираясь на локоть и легонько подтолкнув ее в плечо, не отставал я.
– Я не знаю, – улыбнулась она и завела глаза к потолку, словно представила себе одного из тех, о ком я спрашивал, – не знаю, они такие грязные. – Она брезгливо повела плечами. – Нет, Гай, я не знаю.
– Нет, – не унимался я, – ведь не все они грязные: их военачальники, придворные, сам тетрарх [19]19
Тетрарх – титул правителя в Иудее. Дословно означает «правитель четвертой части», но реально этот титул ниже царского.
[Закрыть]. Они такие же, как мы, богато одетые, умащенные благовониями.
– Тетрарх? – поморщилась Друзилла. – Я не видела его, но все равно я знаю, что он такой же, как они все.
– Грязный?
– Не в этом дело, – она посмотрела на меня внимательно и серьезно, – а только такой же.
– А если бы я, скажи, если бы я был иудеем, ты была бы со мной?
– Ты не можешь быть иудеем, Гай, потому что ты
бог.
Воля императора – закон. А закон распространяется на всех. Допускаю, что законы не могут быть хороши для всех. Допускаю и то, что они просто могут быть нехороши. Но когда они исполняются, это уже не плохие законы, потому что суть не в самом законе, а в строгом исполнении его. В строгом исполнении плохого закона есть больше справедливости, чем в неисполнении хорошего.
Я был богом и объявил себя богом. Это закон. Такой же, как и закон о римском гражданстве. Не по сути, а для исполнения всеми. Кто не подчиняется ему, есть враги Рима, и они должны быть подвергнуты суровому наказанию. Если наказание не образумит их, то они будут уничтожены.
В вопросе о постановке моих статуй в храмах Иудеи возникли непредвиденные осложнения. Все словно сговорились не исполнять закона. Доносили мне, что положение сложное, что евреи отказываются ставить мои статуи в храмах и невозможно заставить их сделать это ни уговорами, ни угрозами. Если бы я был не так разозлен, мне оставалось бы просто посмеяться над этим «невозможно заставить». Как будто речь шла о дополнительных налогах или о чем-нибудь подобном. В самом деле, это было смешно – бог не может заставить людей поклоняться себе! Тут одно из двух: или это не бог, или люди, не признающие его, недостойны жить. Понятно, что истиной было второе. То, что у них был свой бог, даже и единственный, ничего не значило. Бог не может не обладать полной властью. Я ею обладал, а он – нет.
Я велел Петронию, моему полководцу, человеку отважному, отправиться туда и решить вопрос разом. Три легиона и сирийские полки – внушительная демонстрация силы бога. Я сказал Петронию:
– Посмотрим, чем сможет ответить их бог.
Он почтительно улыбнулся.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Все с этой проклятой Иудеей было непросто. Порой мне казалось, что она существует только для того, чтобы я перестал существовать. Не в моей божественности тут было дело, а во мне самом, в Гае, сыне Германика. Ни ненависть сенаторов, ни ненависть всех тех, кому я причинил зло или только намеревался причинить, ничего не стоили по сравнению с неприятием меня Иудеей. Неприятие это было значительно сильнее любой ненависти: они не принимали меня так, будто меня не было вовсе. Дело было не в собственно моих статуях, которые они отвергали, а в статуях вообще. Для них, кажется, не существовало ни меня, ни моих статуй, а было одно только неприятие.
Я сказал Сулле, что готов уничтожить всех евреев поголовно, а тех, что все-таки останутся живы, продам в рабство. Я был уверен, что Сулла поддержит меня или, во всяком случае, согласится со мной, но я ошибся. Помолчав, он сказал:
– Напрасно ты затеял все это дело с евреями, император.
– Что ты говоришь! – разозлившись, вскричал я и ударил его в грудь так сильно, что у него перехватило дыхание и он немо открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. – Это ты мне говоришь императору: Богу!
У меня самого перехватило дыхание, и я некоторое время держался за грудь, не в силах вымолвить ни единого слова.
– Я сказал, – с трудом выговорил наконец Сулла, – что не нужно было затевать этого дела с евреями – ни к чему хорошему это привести не может. Если люди держатся за своего бога больше, чем за жизнь, разумнее всего оставить их в покое. Таких людей лучше иметь друзьями, а не врагами. Я говорю тебе так, потому что люблю тебя, Гай.
Мне нечего было ответить – он был прав. Я и сам уже думал, что моя затея не очень удачна, но отчего-то мне не хотелось отступать. Если бы они ненавидели меня лично, то я еще мог бы смягчиться, потому что их ненависть есть тоже признание моей силы и моего величия, но неприятие…
– Ты связался с евреями, – неожиданно для самого себя выпалил я и добавил с нехорошей усмешкой: – Да они просто купили тебя. Известно, что они могут купить любого, кто им нужен. Ты просто продался им.
– Нет, император, – неожиданно спокойно отвечал Сулла, – они не купили меня. Никто из них ничего не предлагал мне за поддержку.
– Не предлагал?! А если предложат? А? Значит, если предложат, ты продашь меня? Так я тебя понимаю?
– Не так, – еще спокойнее, будто для того только, чтобы позлить меня, сказал Сулла. – Дело не в евреях, а в том, что народ, так чтящий своего бога, нельзя победить.
– А уничтожить? – приблизив свое лицо к его лицу почти вплотную, зло выговорил я. – А уничтожить можно?
– Да, уничтожить, наверное, можно, – сказал он и, как мне показалось, чуть поколебавшись, добавил: – Если их бог позволит сделать это.
– Что-о? – протянул я, по-настоящему удивленный его словами. – Значит, ты не считаешь меня богом? Значит, все, что ты говорил мне, есть ложь? Отвечай прямо: ты не считаешь меня богом?
– Ты бог, – отвечал Сулла, потупив взгляд. – Но я хочу, чтобы ты понял, что я имел в виду.
– Что же ты имел в виду? – притворно ласково проговорил я. – Скажи же мне, мой Сулла!
– Я хотел сказать, что бог существует тогда, когда в него так верят. Если никто не верит в бога или если любят его не больше жизни, то его нет, а есть только название.
– Ты говоришь глупость, – сказал я, еще не вполне вдумавшись в его слова. – Уходи, я не хочу тебя видеть.
Он почтительно поклонился и вышел, а я некоторое время чувствовал какое-то странное беспокойство: мне чудилось, что кто-то смотрит на меня с небес.
Я простил Суллу и больше не возвращался к этому разговору (ведь я всегда прощал его). К тому же другая проблема вытеснила проблему с Иудеей. Мне стало известно, что меня хотят убить. Это известие меня, правда, не очень удивило и даже не очень напугало – и прежде уже составлялись заговоры против меня. Это было вполне в традициях Рима. Но в этот раз в лице Суллы, когда он говорил со мной об этом, было что-то такое, что меня по-настоящему обеспокоило. В его лице был страх, и он не мог его как следует скрыть, хотя и пытался.
– Ты думаешь, они смогут убить меня? – спросил я прямо.
– Они очень этого хотят, – отвечал он. – Так же сильно, как…
Он замялся, а я вдруг досказал за него:
– Столь же сильно хотят убить, как те, твои любимые евреи любят своего бога.
– Да, император, так же сильно, – твердо проговорил Сулла.
Мне снова, как и в прошлый раз, захотелось крикнуть, сказать ему что-то резкое, может быть, ударить в грудь. Но я сдержался, ведь в этот раз разговор шел о моей собственной жизни, а я, Гай Германик, совсем не хотел умирать.
Кроме того, теперешний заговор был много серьезнее прежних – нити вели к солдатам преторианской гвардии. Просто так распустить гвардию или сменить командиров я не мог – это было бы равно самоубийству. Их нужно было задобрить и привлечь к себе. Но и это было не столь легким делом, как может показаться: они и без того имели много привилегий и свобод и, если говорить честно, ни в ком особенно не нуждались, даже в императоре.
– Восстание в Иудее не принесет нам ничего хорошего, – сказал Сулла.
– Ты опять про это, – недовольно бросил я. – Ведь я просил тебя…
– Восстание в Иудее будет непременно, – упорствовал он, не желая замечать моего недовольства и не страшась возможного гнева, – и даже Петроний ничего с этим поделать не сможет.
– При чем тут Иудея? – строго и уже чувствуя накатывающие волны гнева, спросил я.
– Эта война не будет победной, Гай, – глядя мне прямо в глаза, продолжал Сулла. – Кроме того, евреи могут восстать и в других местностях. Усмирение потребует больших средств, а денег в казне недостаточно. Народ, конечно, станет избивать евреев с большим удовольствием, но, когда ты введешь новые налоги – а без этого ты не сможешь обойтись, – народ столь ж сильно будет недоволен тобой. Могут возникнуть волнения, и я сомневаюсь, что преторианцы с большой охотой встанут на твою защиту. Они заелись, они слишком любят спокойную жизнь. И еще. Они любят деньги, а у евреев их много.
– Значит, ты считаешь, что все зло от евреев и трогать их нельзя?
– Трогать их неразумно, я уже говорил тебе это, Гай.
Я ничего не ответил. Я склонил голову и прикрыл ладонью лицо, как бы размышляя над его словами. Но думал я совсем о другом: как же мне все это надоело! Я уже не был уверен, что Сулла не подкуплен евреями, и тогда выходило, что Иудея сильнее меня. Не только меня самого, Гая, императора, но и сильнее Рима. Пусть Рим еще не знает об этом, но получалось именно так.
Что же это за народ, который может быть сильнее Рима? Разве они могут собрать армию, подобную армии персов? Или у них есть блестящие полководцы и хорошо обученные солдаты? Да, у них есть деньги, но деньги еще не военная сила. Или у этого народа есть общая идея? Или они умеют хорошо сорганизоваться? Нет, не думаю. Насколько мне известно, они не умеют сорганизоваться и вечно не ладят друг с другом. Тогда что же? Неужто этот их бог сильнее Рима? Если верить Сулле, то никаких римских богов не существует вовсе, а их бог есть, потому что они верят в него и любят его больше жизни. Сам я не мог понять, как можно любить бога больше жизни, но, может быть, для этого нужно быть евреем?
Мне хотелось спросить об этом Суллу, но я не спросил. Я сказал совсем другое:
– Мне нужно породниться с преторианцами.
– Я не понимаю, император, – отозвался Сулла.
Честно говоря, я и сам еще ничего толком не понимал
и эта идея высказалась как бы сама собой.
Я знал одно – да и Сулла знал это, – что если нити заговора ведут к преторианцам, то мне до них не добраться и попытка помешать будет тоже самоубийственной попыткой.
– Я не понимаю, император, – повторил Сулла, и я сказал:
– Породниться – значит отдать им самое дорогое, что есть у меня. А ты же знаешь, что у меня самое дорогое!
– Да, император, твоя драгоценная жизнь.
– Вот и ошибся, мой Сулла, – с удовольствием отвечал я. – В самом деле, моя жизнь очень мне дорога, но зачем им моя жизнь, если они и без того могут взять ее? Жизнь есть самое дорогое только тогда, когда ее отнимают у тебя, а я говорю о дорогом внутри жизни. Ну? Ты понял меня? Отвечай.
Но он не ответил, а только пожал плечами, тогда я сказал:
– Друзилла. Самое дорогое в моей жизни – это Друзилла. Я отдам им Друзиллу и породнюсь с ними. Теперь ты понял?
– Да, – отвечал он, но я видел, что он ничего не понимает. Настолько, что в какой-то момент мне даже стало жаль его.
Но мне не хотелось высказывать ему свои чувства. Я посмотрел на него величественным императорским взглядом и зачем-то покачал головой.
Потом я сказал, будто продолжая какой-то другой разговор:
– У нас не все хорошо со шпионами. Я хочу, чтобы ты разобрался.
– Со шпионами? – переспросил он.
– Ну да, – кивнул я, – ведь спокойствие государства во многом зависит от полноты сведений, которые имеет император. Ты знаешь, что я доверяю тебе как самому себе, и лучше тебя никто с этим не разберется.
– Ты называл меня братом, – вдруг и совершенно невпопад проговорил Сулла. – Ты уже не называешь меня так?
Его слова застали меня врасплох, и я смутился.
– Да нет, называю, – не очень уверенно отвечал я. – А почему ты спрашиваешь?
– Потому что ты называл Друзиллу сестрой, – сказал он, и голос его задрожал.
– И что из того? – Я старался говорить со всем возможным безразличием в тоне. – Я и сейчас ее так называю. Кроме того, она ведь и в самом деле моя сестра.
– Я не об этом.
– А о чем? – спросил я, глядя на него прямо и уже чувствуя раздражение.
– Я имею в виду «братство одиноких»: где ты, я и Друзилла. Если ты хочешь отдать Друзиллу преторианцам, то, значит, нет никакого братства и нет ни братьев, ни сестер. И если ты собираешься отдать Друзиллу… То и меня ты можешь…
Я не позволил ему договорить.
– Я все могу! – крикнул я так резко, что он вздрогнул, а я как будто на мгновение оглох от собственного крика.
– Да, император, – выговорил он после короткой паузы, почтительно склонившись передо мной.
Я отпустил его величественным движением руки, хотя мне было трудно справиться с дрожью пальцев.
Если бы не одиночество, от которого я так страдал, я бы вообще никогда не отдавался бы привязанностям. Сулла был такой привязанностью (я уже не говорю о Друзилле). Отказаться от него ничего не стоило, если бы не одиночество. Проклятое одиночество – обратная сторона счастья. А счастье – это когда тебе ничто не угрожает и ты имеешь друзей, которых не боишься потерять.
Порой я думал, почему Сулла терпит все это от меня? Неужели только потому, что зависим и ему некуда деться? Или те блага, которыми он пользуется… Впрочем, он не пользовался благами, которые я ему предоставлял или мог предоставить. Нет, тут было что-то другое. Может быть, близость к императору? Не знаю, ничего не знаю и вряд ли смогу узнать когда-либо. Если бы мог, то жил бы по-другому и, наверное, был бы другим.
Мне тяжело было думать обо всем этом, и, если бы я мог, не думал бы. Но я не мог – одиночество и страх томили меня.
Я позвал Друзиллу. Она, как и обычно, прижалась ко мне и обвила мою шею руками. Я мягко, но решительно отстранил ее и чуть тряхнул за плечи, чтобы она лучше внимала мне.
– Скажи мне, Друзилла, как здоровье Марка? – спросил я, глядя на нее со всей возможной строгостью.
– Марка? – переспросила она, помотав головой, и я почувствовал, что она и в самом деле не поняла, о ком я ее спрашиваю.
– Я говорю о Марке Силане, твоем муже, – выговорил я отчетливо, едва ли не по слогам.
– А-а, – протянула она беспечно и словно бы вспоминая о ком-то, кого не видела много лет, – ну да, Марк… Я не знаю, он так постарел и всего боится. Знаешь, он давно уже не прикасался ко мне, и мне кажется, что я его забыла. Он никогда не был хорошим мужчиной, а сейчас…
– Что сейчас? – нетерпеливо спросил я.
– Не знаю, Гай, – лениво ответила она, – зачем ты спрашиваешь. При чем здесь Марк? Есть ты, только ты, и я хочу только тебя.
С этими словами она прыгнула на ложе и легла, упершись локтем в подушку, изогнувшись всем телом и призывно глядя на меня. Я не испытывал вожделения, но на всякий случай отошел и сел в кресло.
– Послушай, – начал я, уже не строго, а умоляюще, заранее чувствуя, что ничего с ней поделать не смогу. – Ты можешь хотеть еще что-нибудь, кроме этого…
– Кроме чего, Гай? – отозвалась она, закрыв глаза и словно бы не проснувшись.
– Кроме того, чтобы спать со мной. Ну, у тебя есть еще какие-нибудь желания?
– Желания… желания… – проговорила она совсем тихо, как бы заплетающимся языком и, вздохнув, поманила меня рукой. – Ну иди же, Гай, я так соскучилась без тебя.
– Нет, постой, – не отставал я, но и сам говорил уже полусонно, – ты скажи: тебе нужно что-нибудь еще? А? Скажи, ты любишь меня без этого?.. Ну, самого меня, не любовника просто.
– О-о, Гай, – вздохнула она и уткнулась лицом в подушку, – зачем ты мучаешь меня? Ты же знаешь…
Она не договорила и стала раздеваться, одновременно ленивыми и резкими движениями сбрасывая с себя одежду.
Я понимал, что придется сделать то, чего она хочет, да и сам я чувствовал, что хочу сделать с ней это, но все же, подойдя и упершись коленом в край ложа, я еще попытался… Я сказал:
– Я ты любишь меня? Ты по-настоящему любишь меня? Ты сделаешь все, что потребуется, если я… если мне…
Но я так и не сумел договорить. Проворным движением она ухватилась рукой за мою шею и, страстно шепча: «Да, да…», – повалила меня на себя.
Туллий Сабон [20]20
Туллий Сабон – собирательный образ. Его прототипами стали реальные убийцы Калигулы – командир преторианской когорты Касий Хэрея и префект претория Корнелий Сабин, сменивший на этом посту Макрона.
[Закрыть]был командиром преторианской гвардии. Он был высок ростом, плечист. Близко посаженные глаза и орлиный нос придавали его лицу выражение постоянного удивления. И вообще, несмотря на стать и видимую силу, что-то в нем было как будто птичье. И это несмотря на то, что сам он себе очень нравился, ходил широким упругим шагом, голову держал высоко, и, разговаривая с кем-либо, поигрывал дутыми мускулами рук, и отвечал непременно рокочущим басом, хотя, по-видимому, это требовало от него усилий, потому что естественный его голос был довольно высоким. Солдаты называли его «Дутым», но при этом относились к нему по-доброму и подчинялись беспрекословно. Кроме всевозможных отличий и наград он имел целых три лавровых венка – награда тому, кто первый взобрался на стену вражеской крепости, – а это чего-нибудь да стоило. Он любил громогласно рассказывать о своих победах над женщинами, хотя поговаривали, что мужчина он был слабый и больше говорил, чем мог.
Впрочем, все это мне было безразлично. Небезразлично было другое – мера его преданности мне. Я говорю о мере, а не о преданности, потому что никто не может быть предан всецело. И не может быть предан просто так, а обязательно за что-то. И это «что-то» не относится к чувствам, а относится к выгоде. Преданность есть плата за выгоду, а все остальное – любовь, честь, поклонение – одни только красивые выдумки.
Туллия Сабона я назначил сам, вытащив, можно сказать, из небытия. В то время он командовал легионом в Сирии и, несмотря на свою очевидную храбрость (даже, можно сказать, тупую храбрость), был довольно посредственным командиром. Связей и влиятельных родственников он тоже не имел, и будущее ничего хорошего ему не сулило.
Впервые я увидел его там же, в Сирии. Мне показали его и сказали, что он был любимцем моего отца, Германика. Само по себе это обстоятельство для меня мало значило: простец Германик, мой отец, любил таких же, как и он, простецов. Но мое внимание обратилось к Туллию Сабону потому, что другие командиры – и выше, и ниже его по званию – относились к нему с каким-то особенным презрением, как к простецу, как к солдатскому выскочке. И три его лавровых венка за личную храбрость ничего для них не значили.
Я давал пир для местной знати и командиров. Все они говорили мне здравицы, всячески восхваляли меня, соревнуясь друг с другом в лести, и только Туллий Са-бон, сидевший в самом конце стола, молчал, глядя куда-то в сторону своим птичьим взглядом. Я спросил сидевшего рядом со мной наместника, хороший ли командир этот молчащий Туллий. Губы наместника презрительно дернулись, но он почтительно ответил мне, что– Туллий человек простой, командир ничем не выдающийся, но когда-то мой отец, Германик, под началом которого служил сам наместник (что он не преминул подчеркнуть), относился к нему неплохо. Эта презрительная ухмылка наместника тогда же навела меня на мысль. И когда я уезжал, то в самый последний момент, уже сидя в носилках, велел позвать ко мне Туллия Сабона. Он явился и удивленно, но без страха смотрел на меня, играя своими дутыми мускулами. Я спросил его, почему он молчал во время пира. Он не смутился и отвечал, что плохо умеет говорить и, кроме того, не считал себя вправе.
– Это почему же, мой Туллий? – спросил я.
– Я, император, воспитывался среди солдат, сражался в разных местах и не имел возможности научиться римскому красноречию.
Меня приятно поразило то обстоятельство, что он не упомянул о моем отце. И я спросил его:
– Мне говорили, что ты сражался под началом моего отца. Это так?
– Да, император, но за время моей службы у меня было много начальников.
И этот его ответ мне понравился тоже. И я сказал ему, что и сам воспитывался в военном лагере и мое прозвище, ему, конечно, известное, подтверждает это. А он вдруг сказал, совершенно пренебрегая этикетом, что солдаты прозвали его «Дутым», и хотя в этом прозвище, в отличие от моего, нет ничего военного, но он-то знает, что солдаты дают прозвище только тем, кого уважают.
Да, Туллий Сабон умом не блистал, но-почему-то нравился мне все больше и больше. Может быть, мне приелась однообразная лесть, которой меня осыпали со всех сторон, а этот человек разговаривал со мной хотя и не очень умно, но открыто и по-человечески. А может быть, – хотя я сам в это не очень верю, – глядя на него, я вспомнил свое детство в военном лагере, и этот человек был как бы образом моего действа. Но скорее всего, виною был мой характер и желание насолить всем этим льстивым аристократам с камнем за пазухой и презрительной усмешкой на губах. Как бы там ни было, я сделал то, что пожелал, и велел Туллию Сабону сопровождать меня в Рим. Разумеется, что никто из его начальников не посмел возразить.
Не сразу, а только полгода спустя я решился назначить Туллия Сабона командиром преторианской гвардии. Не буду говорить о том, какое это вызвало у всех недовольство, хотя, конечно, никто не выступил открыто. Тогда же Туллий сказал мне, как-то очень серьезно:
– Император, никто не посмеет причинить тебе вред.
Я отвечал, что очень на это надеюсь, а сам подумал: «Почему бы и нет? Кто мог видеть во мне, мальчишке, растущем в солдатском лагере, будущего императора! Почему бы и Туллию, которого так презирали его командиры, не возвыситься над всеми ними? В конце концов, никто не знает своей судьбы».
Туллий был, конечно, не Макрон, я его не боялся. Вопреки всеобщему недовольству, сами преторианцы приняли его хорошо, хотя, как мне доносили, подсмеивались над ним.
С тех пор прошло много времени, и Туллий уже был не тем Туллием, с которым я разговаривал в Сирии, у своих носилок. Он пообтерся среди римских аристократов, и, хотя ума у него не прибавилось, он уже не выглядел среди них белой вороной. Дважды он спасал меня и жестоко расправлялся с заговорщиками. Но постепенно я стал ощущать, что благодарность за свое возвышение, которую он испытывал ко мне, сначала несколько потускнела, а потом (особенно после последней расправы с заговорщиками) и совсем исчезла. Вообще, благодарность неумного человека имеет более короткую жизнь, чем осознанная благодарность умного. Короче говоря, Туллий стал видеть себя если еще и не равным мне, то, во всяком случае, таким, без которого я обойтись не смогу и обязательно погибну. Впрочем, в таком его виденье был свой резон. Я бы с удовольствием заменил его, но было некем. Снова притащить из провинции какого-нибудь простачка? Но то, что сошло с рук однажды, может не сойти в другой раз. Сейчас я не чувствовал себя столь же сильным, как прежде, и власть моя при всей ее видимой силе не была уже столь безгранична. Те, которые хотели моей гибели, слишком сильно ее хотели. Больше хотели моей гибели, чем я сам хотел власти, которой пресытился.
Как будешь защищать свой обед, когда ты сыт по горло, и тебе противно смотреть на еду, и ты не можешь заставить себя думать, что завтра снова захочешь есть?!
Но все это, конечно, досужие размышления. Уже не только во власти было дело, но в самой моей жизни, которую можно отобрать только вместе с властью. И как мне ни противно было разговаривать с Туллием, да еще и просить его о чем-то, я вынужден был позвать его. Смешно, что ты зависишь от тех, кто тебя охраняет, но сейчас мне стало не до шуток.
Туллий Сабон явился, бряцая оружием и вышагивая, как павлин. Он, по-видимому, полагал, что шагает, как барс, любовался на себя со стороны и полностью был собой доволен.
Это металлическое бряцанье раздражало мой слух, но я через силу улыбнулся и предложил Туллию сесть в кресло напротив. Те времена, когда он смущался и оставался стоять, прошли. Он приветственно выкинул руку и опустился в кресло с такой силой, что дерево жалобно скрипнуло. Расставив ноги и упершись руками в колени, он гордо, только обозначая почтительность легким наклоном головы, смотрел на меня. Я помолчал, продолжая улыбаться и не зная, с чего начать. Не уверен, но мне кажется, что он почувствовал мое смущение. Это я увидел в его сведенных у переносицы глазах, которые смотрели на меня не мигая.
– Ну что, мой Туллий, – начал наконец я, откинувшись на спинку кресла и заставив себя скрестить на груди руки, – ты можешь сказать мне?
Любой другой обязательно поинтересовался бы, о чем я спрашиваю и что имею в виду. Но только не мой Туллий. Ведь он был значимым лицом и все хорошо понимал и без моих вопросов.
– Все в порядке, император, – громогласно заявил он, как мне показалось, нехотя добавив «императора». – Мои преторианцы всем довольны, исправно несут службу, и никакой остолоп не сможет изменить что-то, пока я командую ими.
Я благожелательно кивнул. Ну конечно, преторианцы были его, а не мои. Еще слаще ему улыбнувшись, я сказал:
– Хотел спросить тебя, мой Туллий, что ты думаешь о возможности заговора против императорской власти? До меня дошли кое-какие сведения.
– Пустое, – отозвался он, в этот раз посчитав добавление «император», по-видимому, излишним. – Любого, кто попробует, я разорву на куски вот этими руками.
При этом он сделал движение перед собой, как бы разрывая что-то. Я подумал, что такой разорвет и быка.
– Да, мой Туллий, – вынужден был я с ним согласиться, – в этом у меня нет никаких сомнений. Но, видишь ли, враг не всегда поступает явно, враг бывает хитер и коварен. Он может так проскользнуть меж пальцев, что его не успеешь ухватить.








