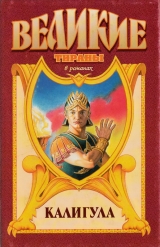
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
В то время, когда я представлял себе это, Туллий говорил. Я был поглощен своими мыслями и не слышал, что он говорит, но видел его свирепое лицо, сверкающие глазки. Кожа на его лице сделалась багровой, а от прежней бледности не осталось и следа. Я прислушался. Он говорил о том, какой же негодяй Клавдий Руф и что он никогда ему не доверял. (Я вспомнил, что Клавдий был выдвиженец Туллия и он сам представлял его мне, но, разумеется, Туллий сейчас не хотел помнить об этом.)
Да, у меня и в самом деле теперь не было власти, если я должен был выслушивать гневные речи Туллия. Он уже вполне оправился от испуга и сейчас вольно или невольно пугал меня. Он кричал, какой подлец и негодяй этот мерзкий Клавдий и как он его ненавидит, а я слышал, какой подлец я сам и как он ненавидит меня.
Казалось, он никогда не сможет остановиться – он уже свободно взмахивал руками и угрожающе надвигался на меня. Я сидел, все глубже вдавливаясь в кресло, и ощущал себя подсудимым. Если бы он захотел ударить меня, он бы свободно мог это сделать, я, наверное, даже не смог бы укрыться от удара.
Пришлось ударить первым. Впрочем, мне больше ничего не оставалось. Когда он угрожающе навис надо мной, я, поймав его на паузе, быстро проговорил:
– Да, да, мой Туллий, я понимаю твое негодование, но тебе все равно придется доказывать свою невиновность.
– Невиновность? – спросил Туллий уже без прежней энергии, делая шаг назад.
В лице его уже не было той уверенности, и я воспользовался минутой.
– Невиновность, – повторил я и продолжил: – Посуди сам: Клавдий твой человек, я помню, как ты представлял мне его и говорил о его достоинствах. Если бы ты сам открыл его предательство, тогда другое дело, но ведь открыл его я. Твой человек предатель, а ты ничего об этом не знаешь. Или – как могут подумать – не хочешь знать. Ты возглавляешь гвардию, то есть то подразделение, которое отвечает за безопасность императора. Ты делаешь своего человека командиром одной из когорт. И этот же человек покушается на жизнь императора. Так что – либо ты не соответствуешь своей должности, либо…
– Но я… – начал было Туллий, не столько возмущенно, сколько с испугом. Только я не дал ему говорить.
– Я не обвиняю тебя, – произнес я как можно более угрожающим тоном, – но тебе придется, во-первых, во всем этом тщательно разобраться, во-вторых, все равно доказать свою невиновность.
И, посмотрев на него пристально и жестко (насколько мог, потому что и сам боялся), я сделал величественный жест рукой и сказал:
– Иди. Даю тебе три дня. Иди, мне надо заняться неотложными государственными делами.
А так как он не двигался с места, я мельком – но чтобы он сумел заметить – посмотрел мимо него в один дальний угол комнаты, потом в другой. Посмотрел так, будто там были спрятаны мои люди и будто они только ожидали от меня знака. Я не очень надеялся на успех, но поведение Туллия превзошло все ожидания. Он вздрогнул, напрягся всем телом и стал пятиться к двери. Я смотрел на него, пока он не скрылся за нею.
Лишь только дверь за ним закрылась, мои руки упали с подлокотников, а голова опустилась на грудь. Я не ощущал своего тела и не мог пошевелиться. Так я просидел до самого вечера. Слуги входили ко мне несколько раз, но никто не посмел меня окликнуть. Я не слышал, как они зажигали светильники, но именно их свет заставил меня поднять голову. Я с трудом встал и подошел к окну. Как и всегда в подобные минуты, я пожалел, что Суллы не было рядом.
Нужно было бы отдохнуть, прийти в себя, но для этого не нашлось ни времени, ни возможностей. Я жалел, что отправил Суллу с известным поручением, мне его очень не хватало. Я представил себе, что он никогда не вернется. Мне сделалось страшно: все мои планы рушились, и вся моя жизнь в этом случае уже не могла иметь никакого смысла.
То, что я боялся за свою жизнь и не мог перебороть страх, – об этом и упоминать излишне. Звуки на улице и во дворце, шорохи в комнате (реальные и мнимые), да и сама тишина – все вызывало во мне приступы страха. Казалось, что вот-вот сейчас они ворвутся с обнаженными мечами и перекошенными злобой лицами… Кажется, я дошел до настоящего сумасшествия: прятался за занавески, за дверцу шкафа… Не было такого места в моей комнате, куда бы я ни пытался прятаться.
Конечно, я говорил себе, что должен взять себя в руки, что страх не позволит исполнить мой план, что страх сделает мою смерть неминуемой и скорой, тогда мечтать о другой жизни – это все равно что мечтать родиться снова. Говорил себе, убеждал себя как мог, но это мало помогало, и приступы страха приходили все чаще и продолжались все дольше. Я понимал, что если Сулла не вернется, то я погиб окончательно и факт моей физической смерти ничего к этому не прибавит, потому что я умру еще до этого, растворюсь и исчезну внутри собственного страха. А на то, что Сулла вернется, у меня не было никаких реальных надежд. Я ставил себя на его место, и получалось, что возвращаться не было никакого резона. Любовь ко мне, преданность императору и все такое прочее есть одни только мертвые понятия, когда у тебя много денег и ты можешь бежать. Я бы не вернулся. Так почему же должен был вернуться он!
И как всегда в последнее время в мою жизнь снова вторгся Туллий. Неведомо для себя он направлял события в нужное русло, а я только покорно следовал за ним.
Три дня спустя он явился ко мне и доложил, что заговор раскрыт и ему нужно лишь мое письменное предписание, чтобы схватить и наказать виновных. Он говорил, а я некоторое время не мог понять, о чем он говорит, и смотрел на него бессмысленным взглядом, кажется, еще и с открытым ртом. Он называл мне имена сенаторов-заговорщиков, я послушно кивал, но сами имена ничего мне не говорили, словно это было только сочетание звуков, за которым не стояло ничего. Туллий протянул мне список, я взял, пробежал по нему глазами и снова послушно кивнул. И когда Туллий произнес, что вина злодеев не нуждается в доказательствах, а возможный суд над ними покажет только слабость императора, а не его силу, я произнес вслед за ним:
– А не его силу.
– Я не совсем понял, император, что ты имел в виду? – произнес Туллий, несколько озадаченный.
– То самое, о чем ты говорил мне, – сказал я, кивнул и неуверенно улыбнулся.
Не знаю, о чем при этом думал Туллий, но он зачем-то снова стал убеждать меня в виновности сенаторов, которые были в его списке. Я хотел сказать, что со всем согласен, что он напрасно утруждает доказательствами и себя и меня, но был так слаб, что не смог выговорить ни единого слова, а сидел, склонив голову и глядя в пол.
– Тогда надо позвать секретаря, – наконец произнес он и пригнулся, чтобы заглянуть мне в глаза.
Я с усилием поднял голову, встретился с ним взглядом и, не понимая, что нужно ответить, повторил его последнюю фразу:
– Тогда надо позвать секретаря.
Уж не помню, сразу ли явился секретарь или мы еще некоторое время переговаривались с Туллием таким образом, но, когда он явился, я почувствовал себя немного лучше. По крайней мере, голова уже не падала на грудь, а руки держались на подлокотниках кресла довольно уверенно.
Дальнейшее помню весьма смутно: говорил Туллий, говорил секретарь, что-то говорил я. В конце концов я подписал бумагу, и Туллий ушел. Я не сразу отпустил секретаря, велев ему задержаться. Я боялся, что Туллий вернется, а находиться с ним один на один я был не в силах.
Прошло еще несколько дней, но возможно, что и недель – я очень смутно ощущал движение времени. Дважды я выходил к народу, а один раз выступал в сенате. Но что я говорил и говорил ли вообще, сказать не могу. Я видел лица, слышал голоса, но все как в тумане. Удивительно, что этого никто не заметил, то есть не заметил того, что меня, в сущности, нет и что передвигается, присутствует и даже, наверное, произносит более или менее связные речи одна только моя оболочка. Если бы я стал убивать всякого, кто попался мне на пути – слуг, сенаторов, обычных прохожих, – то, несмотря на мое императорство, меня бы схватили и посадили в клетку, как дикого зверя. А вот то, что вместо меня функционирует какая-то оболочка – функционирует и правит ими, – это почему-то никого не волновало. Каждый занимался своими делами (плебеи – своими, патриции – своими), а я оставался как бы сам по себе.
Вот в те дни я по-настоящему понял, что хочу жить сам по себе: никем не править и никого не представлять. И та самая другая жизнь, в которую я собирался вступить соответственно своему плану, представлялась мне в самом выгодном свете. Зачем быть императором, если можно быть самим собой? Тщеславие? Но все это вздор, если приходится быть разряженной куклой и изображать, что ты не кукла, а вершитель чужих судеб. Каким я на самом деле был вершителем, думаю, ясно из всего вышеизложенного.
Когда эти простые мысли явились мне, я выздоровел, и мир перед моими глазами достаточно прояснился. Меня теперь не волновала власть, не донимал страх, не нужны были женщины, а я желал лишь изобразить свою смерть как можно правдивее – и уйти отсюда навсегда. Даже возможное невозвращение Суллы уже не приносило мне прежних волнений. Если он сбежит с деньгами и не подготовит материального фундамента моей будущей жизни – то что из того! В самом деле, разве я могу знать, что по-настоящему понадобится в той жизни!
Да, мне скучно было без Суллы, но не более того. Я подумал, что и без его помощи приведу свой план в исполнение. Мне нужен человек на роль меня самого, императора Гая? Я найду такого. Я, в конце концов, куплю такого, тем более что он не будет знать, что ему суждено умереть.
Так вот, я перестал ждать Суллу, его возвращение или невозвращение уже не имело особого значения. По крайней мере, сейчас Сулла мне еще не был нужен, его появление на сцене планировалось значительно позже. Сейчас я играл с Туллием Сабоном, и мы оба старались играть свои роли хорошо. Во всяком случае, убедительно.
Бумага, которую я тогда подписал, была написанной для него ролью, и то, что он не догадывался об этом, оказалось еще лучше – ведь он не был великим актером, как я. Чтобы ему играть правдиво, ему нельзя было знать, что он играет, а нужно было думать, что он не играет, а живет. Он так и думал, и в этом состояла вся ценность его игры. Для меня, по крайней мере.
Злой умысел заговорщиков стоил им слишком дорого, они за него жестоко поплатились. Туллий Сабон оказался изобретательнейшим палачом. Кажется, он получал от этого истинное удовольствие. Не могу сейчас вспомнить, сколько имен было в его списке, но, по-видимому, достаточно много. Думаю, что список этот увеличивался по мере того, как Туллий входил во вкус. Возможно, он приносил мне на подпись еще и другие списки – я не помню. Но, конечно, не в этом дело, потому что спектакль разыгрывался не по моему или его желанию, а по тексту трагедии. Кем написанной? Судьбой, если она есть, богами, если они существуют. Все равно кем, пусть даже иудейским богом, которого они так любят, – мне-то что за дело?
Меня никоим образом не смущало и то обстоятельство, что никакого заговора не существовало вовсе, то есть те, кого пытали в моем спектакле, в жизни были чисты. Но никакой жалости я в отношении их не испытывал. Более того, я получал от разыгрываемой трагедии определенное удовольствие. Как зритель, только и единственно как зритель. Ведь актер, умирающий на сцене, доставляет зрителям удовольствие своей игрой. И чем правдоподобнее он играет, тем большее доставляет удовольствие: удовольствие-переживание, удовольствие-страх, удовольствие-ужас. Все верят в смерть актера, и никто не жалеет о его смерти, но, напротив, хвалят его за смерть, восторгаются им.
Заговорщики в моем спектакле играли безупречно, я не сделал в их адрес ни одного замечания. Никто из них не сфальшивил, замечательно и правдиво сыграв свою роль от самого начала до самого конца. Кто бы помнил о них, если бы они остались живы! Кто бы оплакивал их! Нет, я им дал возможность вполне проявить себя, и, если бы они могли видеть себя со стороны, они бы были мне благодарны. Но я не ждал от них благодарности, потому что делал все это единственно из любви к искусству.
Туллий докладывал мне о ходе спектакля ежедневно. Он был хорошим помощником режиссера и вовремя выводил на сцену все новых и новых персонажей. Порой он удивлял меня, потому что среди схваченных заговорщиков я вдруг узнавал своих прежних друзей. Иногда, когда пытки были особенно жестокими, а палачи особенно усердными, – не узнавал. И тогда Туллий подсказывал мне, склонившись к моему уху.
– Не может быть, что это он, – говорил я, когда он называл очередное имя.
– Но это именно он, император, – утверждал Туллий, несколько обиженный моим недоверием, и предлагал мне подойти поближе, чтобы в точности удостовериться.
Я мягко отклонял его предложение, говоря, что, конечно же, верю ему. Не в том было дело, что я боялся вида крови или что мне было неприятно смотреть вблизи на обезображенное пытками тело. Просто на маску актера лучше смотреть издалека, и тогда ты веришь, что это живое лицо, а при приближении видишь всего-навсего маску, и тогда впечатление от игры становится не таким сильным и острым.
Один-единственный раз я нарушил свое правило. Это случилось тогда, когда пытали Клавдия. Да, того самого командира когорты, с которым я встречался ночью, на берегу Тибра. Я сам сказал Туллию, что желаю посмотреть на него. Мне показалось, что Туллий смутился.
– Сегодня будут допрашивать еще двух сенаторов, – сказал он мне, – Надеюсь, что они назовут кое-кого. У меня есть сведения.
– Очень хорошо, – ответил я, дружески потрепав его за плечо, – но мне и в сенате надоело смотреть на их лица. Кстати, не кажется ли тебе, мой Туллий, что все они похожи друг на друга? Все на одно лицо.
Туллий пожал плечами – мой вопрос отчего-то показался ему трудным.
– Не знаю, император, – отвечал он нерешительно, будто ожидая от меня подвоха, – я не думал об этом. Императору виднее, потому что я не заседал в сенате.
– Ну, ну, – улыбнулся я ему, – тебе не стоит так принижать себя, мой Туллий, тем более что это ты их делаешь еще более одинаковыми, чем они были в жизни. Уверяю тебя, что каждый из них тщился быть необыкновенной и неповторимой личностью и, уж разумеется, не желал походить на других – ни лицом, ни поведением, ни одеждой. Но я-то всегда знал, что они одинаковы: одинаково тупы, одинаково алчны, одинаково тщеславны. Другие, может быть, не видели их одинаковости, но только не я. Но ты, мой Туллий, ты это видел, хотя, возможно, и не вполне осознавал. Их мнимый блеск несколько смущал и пугал тебя. Но когда они оказались в застенках, ты все прекрасно понял и сделал их одинаковыми. Одинаково окровавленными, одинаково изуродованными, одинаково униженными. Не так ли?
Он согласно, но несколько неуверенно кивнул, кажется, еще не понимая, куда я веду. Я же сказал:
– Но и это не все. Я хочу сказать, что это еще не абсолютная, не вполне совершенная одинаковость. Еще не та, к которой ты стремишься. Вот когда ты умертвишь их, тогда они будут одинаково мертвыми. Это абсолютная одинаковость, скажи мне?
– Я не знаю наверное, – проговорил он, не глядя на меня.
– Должен тебя огорчить, но ты ошибаешься, – сказал я, тронув его за подбородок, и заставил смотреть в глаза. – Это еще не абсолютная одинаковость. Признайся, что я прав, ведь у них неодинаковый рост, разные ступни и все такое прочее. Кроме того, твои палачи не очень соблюдают правила симметрии – у одного переломано то, у другого другое. Нет, мой Туллий, абсолютная одинаковость наступит тогда, когда они станут прахом. Должен тебе заметить, что греческий обычай сжигания мертвых мне больше по сердцу. Тут одинаковость праха достигается быстро и без хлопот. Наши гробницы и саркофаги только замедляют процесс. Не скажу, сколько лет нужно, чтобы кости превратились в прах, но, уверяю тебя, очень много. По крайней мере, дольше человеческой жизни. Ты, конечно же, понимаешь, мой мудрый Туллий, к чему я веду?
Туллий ничего не ответил, а только болезненно мне улыбнулся. Лицо его побледнело, а правое веко задергалось, будто он пытался мне подмигнуть.
– К тому я веду, – продолжал я, – что все мы будем прахом, и все достигнем одинаковости: и последний раб, и ты, Туллий, и я тоже. Представь себе, как я держу в руках урну с твоим, Туллий, прахом. Представь, как я высыпаю его к себе на ладонь. Вот на эту самую. – Тут я раскрыл ладонь и поднес ее к самым глазам Туллия (его и без того близко расположенные глаза сейчас почти слились у переносицы). – Я высыпаю твой прах на ладонь, он струится меж пальцами, ветерок подхватывает его и уносит. Через минуту твоя урна пуста: ни тебя, ни даже твоего праха – ничего не осталось. Правда, из уважения к твоим прежним заслугам я прикажу сохранить урну и написать на ней: «Здесь хранился прах Туллия Сабона». Если ты хочешь, я окажу тебе такую услугу. Ну, ты хочешь? Скажи, не стесняйся, я уверяю тебя, что обязательно сделаю это.
Я убрал ладонь от его лица. Оно было теперь белым как полотно. Глазки в самом деле слились у переносицы, и он был сейчас похож на циклопа Полифема, тем более что ростом был значительно выше меня. Правда, я не ощущал себя Одиссеем и не бросился бежать, а холодно сказал ему:
– Отведи меня к Клавдию. Я хочу видеть его. И пусть все командиры когорт присутствуют при нашем свидании.
Он шел за мной деревянной походкой, и мне все казалось, что он не удержится на ногах и, не сгибаясь, рухнет на землю. Впрочем, главное, чтобы упал не на меня, а в противоположную сторону.
Некоторое время пришлось ждать, когда соберутся все командиры. Ждать не хотелось, ожидание было тягостным, но в этот раз я проявил терпение. Мы вошли вместе: я, за мной – Туллий, за ним толпой – командиры. Странно, но я не слышал звука их шагов, а вот деревянную поступь Туллия за спиной слышал отчетливо.
Мы вошли в темный сарай, пропахший навозом (по-видимому, еще недавно здесь держали лошадей). Для пыток Клавдия, разумеется, не нашлось лучшего помещения, чем этот вонючий сарай. Как же, невелика птица! Сенаторам предоставили (я в этом убедился сам во время посещений) значительно лучшие помещения.
Было сумрачно, я приказал внести факелы. Клавдий был привязан к деревянной решетке, стоял на коленях, свесив голову на грудь. Волосы на голове торчали клочьями, были в бурых пятнах запекшейся крови. Я подошел совсем близко, присел возле него на корточки, не оборачиваясь, приказал поднять его голову. Приказание исполнили не сразу, никто из командиров не решился, дождались слуг.
Когда голову подняли, мне стало страшно, и я едва сдержал себя, чтобы не подняться и не уйти тут же. Лицо Клавдия в самом настоящем смысле было маской – опухшее, глянцевидное, в кровавых подтеках. И только глаза (может быть, именно это испугало меня) смотрели прямо на меня и были живыми. Не знаю для чего, но я протянул к нему руку и едва не дотронулся до его плеча. Меня остановил Туллий.
– Нет, император! Нельзя! – воскликнул он за моей спиной довольно фальшиво.
Однако я отдернул руку.
– Это почему? – недовольно обернулся я к нему. Полифем-Туллий смотрел на меня единственным глазом, в котором был испуг. Замечу, что двойной испуг, так как глаз все же был составлен из двух.
– Император, мне не хотелось говорить тебе об этом… – начал Туллий, мельком оглядываясь по сторонам и давая мне понять, что не хочет говорить в присутствии командиров.
– Говори! – приказал я и поднялся.
– Видишь ли, – глядя в сторону от моих глаз, сказал Туллий, – он не простой заговорщик. Он… как бы это лучше сказать… Он был… он заражен дурной болезнью. И он… твою сестру… Мне не хотелось тебе говорить.
– Вот как! – сказал я, холодно усмехнувшись. – А я и не знал. Спасибо, что ты сказал мне об этом. Выходит, что во всем виноват этот Клавдий, твой выдвиженец.
– Император! – произнес Туллий, и мне показалось, что лицо его сделалось красным. Впрочем, в колеблющемся свете факелов это труднее было увидеть ясно.
– Да, мой Туллий, это именно я, твой император, – выговорил я громко и обвел взглядом стоявших за спиной Туллия командиров, – тут ты не ошибся. Но я еще и ваш брат, потому что мы ведь породнились. И он, – я указал на Клавдия, – тоже твой брат. Но я сейчас не об этом, а о другом. Если мой брат, Клавдий, заразил мою сестру, Друзиллу, дурной болезнью, то заразились и некоторые из вас. Он командир пятой когорты, следовательно, командиры шестой, седьмой и остальных тоже заразились. А? Так получается, мой Туллий? Так что воистину, больная гвардия императора Гая!
– Нет, нет, император, – горячо сказал Туллий и оглянулся на командиров, как бы ища поддержки, – это не так.
– А как? – крикнул я, уже не в силах сдерживаться: шагнул к Туллию, приблизив свое лицо к его лицу так, что глаза его снова слились в один и он снова стал Полифемом.
– Он был последним, император, – быстро проговорил Туллий чуть в сторону, боясь, что его дыхание достигнет меня, – Он был последним, после него не было никого.
– То есть как это последним? – грозно выговорил я. – Он не мог быть последним! А-а, – протянул я, будто только что догадался, – значит, ты нарушил мой приказ. Почему ты его нарушил? Ведь я сам ввел очередность, и это слышали все. Ну, пусть мне скажет кто-либо из вас, что он не слышал! Говорите!
Командиры стояли, низко опустив головы, никто не сказал ни единого слова и не посмел поднять на меня взгляд.
– Негодяй! – прокричал я (в этот раз непритворно; наверное, и мое лицо тоже сделалось багровым). – Вы нагло нарушили приказ императора! Вы все будете жестоко наказаны! Я начинаю думать, что Клавдий был прав и все вы заговорщики: от нарушения приказа до измены всего один шаг.
Кто бы знал, как я их всех ненавидел! Я ненавидел их так сильно, потому что еще сильнее ненавидел самого себя! Я был противен самому себе – ощущал свое нечистое дыхание и мерзкий запах собственной плоти! Эти мужланы, толпой стоявшие передо мной с опущенными вниз головами, они все спали с моей Друзиллой.
Но это я, я отдал ее им! Мне казалось, что я слышу их пыхтение и ее стоны. Не стоны страсти, а стоны боли и унижения.
Мне хотелось броситься тут же на землю, кататься по земляному полу, покрытому соломой и навозом, – кататься, кричать, рвать волосы на голове, приказать им, чтобы они пытали меня, чтобы они сделали со мной то, что они сделали с этим несчастным, по-своему преданным мне Клавдием.
Не знаю, как я сумел сдержаться, как пересилил собственные отчаяние и злобу. Все они стояли передо мной виноватые и покорные и казались безропотными слугами императора. Но я-то знал, что это не так и что в любую минуту – даже в эту самую – они готовы броситься на меня и растерзать в клочья. И тогда участь несчастного Клавдия покажется мне счастьем, если я еще успею хоть о чем-нибудь подумать. Но, конечно же, не успею, потому что я не Клавдий: императора убивают сразу, а убивать было профессией стоявших передо мной людей. Нужно было родиться в Риме, нужно было прожить всю жизнь при дворе, чтобы знать это. Я это знал. И это знание позволило мне сдержаться. Императору нельзя ссориться с гвардией. Это закон империи, закон жизни. В конце концов, в этом проявляется обычный здравый смысл.
Я желал, чтобы они посягнули на меня, но не теперь, а в выгодное для меня время. И, справившись со своим лицом, я подошел к командирам, потрепал по плечу двух или трех (никто из них, правда, так и не поднял головы) и произнес примирительно:
– Ну, ну, поднимите головы. Мы братья, а чего не бывает между братьями! Император умеет гневаться, но умеет и награждать. Я доверяю своей гвардии. Заговор раскрыт, империя спасена, вы хорошо потрудились. Вы все получите щедрое вознаграждение – мне ничего не жаль для братьев.
Если бы не те усилия, которые я прилагал, чтобы справиться со своим лицом и голосом, я бы мог получить от собственной игры настоящее удовольствие. Но сейчас было не до этого. Сейчас мне нужен был выигрыш во времени, и я его получил. Командиры подняли головы, а Туллий перестал быть Полифемом: глаза его хоть и сходились у переносицы, но все-таки их опять было два, а не один.
– Хорошо, что ты предупредил меня, мой Туллий, – как ни в чем не бывало проговорил я. – Императору не время болеть, тем более дурной болезнью. Впрочем, его болезнь есть наказание судьбы, потому что посягательство на жизнь императора – дурная болезнь. Я был не прав. – Тут я возвысил голос, обращаясь не к одному Туллию, а ко всем. – Я был не прав, и император имеет мужество признать это. Ваша мудрость, ваша преданность и ваше чутье выше всяких похвал. Да, вы нарушили приказ и поставили Клавдия последним, но этим вы сделали гвардию здоровой. В сущности, Клавдий и в самом деле был последним… последним…
Я так и не нашел определения, но и без того все было ясно. Я всматривался в их лица и думал: неужели ни один из них не понимает игры? Хотя – какая разница, ведь мне всего-навсего нужно было выиграть время, и, кажется, я этого вполне добился.
– Он сказал что-нибудь? – деловито спросил я у Туллия, – Назвал имена сообщников?
Туллий облегченно вздохнул и, чуть склонившись ко мне, стал называть имена, планы заговорщиков и все такое прочее. Говорил он очень подробно, словно заранее выучил все наизусть, но я не слушал. Какое мне было дело до тех или иных имен, до еще живых и уже мертвых? Я ухожу от этого мира, и он уже перестал для меня существовать. Я смотрел на Туллия и думал о том, что он не знает, как мало ему осталось жить. А ведь у него, наверное, большие планы, и он видит себя владельцем богатой виллы, а то и нескольких вилл, почетным гражданином, может быть, даже сенатором. Он видит, а я знаю, что он уже, в сущности, мертв. Я представил, как он лежит бездыханным, в крови, раскинув в стороны руки, и как жирные мухи ползают по его бледному и одутловатому лицу. В моем воображении он почему-то лежал на животе, уткнувшись лицом в землю, и я все никак не мог понять, один у него глаз при этом или два. Это не имело ровно никакого значения ни для меня, ни тем более для него, мертвого, но отчего-то мне было интересно: все же один или два?
Подробности Туллия были утомительны, хотя я не слушал и не понимал того, о чем он говорит. Но я выдержал: кивал время от времени, принимал то глубокомысленный, то гневный вид и сумел дослушать до конца. По-видимому, Туллий был доволен, да и командиры позади него стали вести себя посвободнее: переговариваться, конечно, не решались, но, по крайней мере, переминались с ноги на ногу и смотрели по сторонам. Но я был доволен больше всех. Мне уже не жалко было несчастного, по-своему преданного мне Клавдия, и, когда Туллий закончил, я бросил на Клавдия брезгливый взгляд и процедил сквозь зубы:
– Этот изменник достоин самой страшной казни, но я думаю, что мы ограничимся распятием, потому что много чести придумывать для него что-нибудь новенькое.
Сказав это, я оглядел стоявших передо мной. Никто из них ничего не ответил, и только Туллий согласно, но тоже не очень решительно, кивнул.
– Хорошо, – кивнул я в ответ, будто это они предложили мне распятие, а я согласился, – пусть будет так. Я окажу вам честь и буду присутствовать при этом. Распорядись поставить перекладину тут же, у конюшни.
Туллий почему-то не сразу понял, и мне пришлось повторить. Он что-то сказал ближайшему из стоявших командиров, тот кивнул и вышел. Я уже пожалел о своем распоряжении, потому что не знал, что же теперь делать: отбыть во дворец, а потом вернуться или ждать здесь? Я ощутил некоторый не уют в присутствии стольких людей, угрюмо молчавших, и мне захотелось бросить все и уехать. Но отступать было поздно. Я посмотрел по сторонам и остановил взгляд на Клавдии. За все время моего здесь пребывания он ни разу не пошевелился, не простонал и вообще ничем не дал знать, что еще жив. И в самом деле, непонятно было, жив он или нет. Если нет, то распятие отменялось и мне можно было спокойно удалиться.
– Как ты думаешь, мой Туллий, он еще жив? – спросил я, кивнув на Клавдия.
– Жив, император, – уверенно отвечал Туллий, – он побывал в опытных руках, что ему сделается!
– Это хорошо, – покивав, проговорил я лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить и заполнять время ожидания. – Значит, ты считаешь, что с ним больше заниматься нечего – он все сказал?
– Да, император, – едва ли не с гордостью ответил Туллий и даже приосанился каким-то особенным образом, – уверяю тебя, что негодяй сказал больше, чем мог. Сосуд пуст, из него не выжмешь и капли вина.
Я удивленно на него посмотрел, и мое удивление на этот раз не было притворным: никак не ожидал, что этот идиот умеет говорить образами, даже и такими примитивными.
– Это ты хорошо сказал, – заметил я с дружеской улыбкой, – сосуд и в самом деле пуст – так разобьем же его, чтобы взять новый,
Я и сам не понял, что я такое говорю, но Туллий довольно улыбался, поводил головой и только что не подмигивал мне – видно было, что быть с императором на короткой ноге для него обычное дело.
Несмотря на заверения Туллия, я не был уверен, что Клавдий жив, но больше не поднимал этого вопроса: мне нужно поприсутствовать при казни, а ему теперь уже все равно – даже если жизнь еще теплилась в нем, то голова вряд ли что-либо сознавала.
Надо отдать должное расторопности помощников Туллия – они все сделали очень быстро. Вернулся командир, которого посылал Туллий, что-то прошептал ему на ухо, и Туллий, повернувшись ко мне, сказал с почтительным поклоном, будто приглашая не на казнь, а к застолью:
– Все готово, император, мы ждем только тебя.
Я не ответил, даже не кивнул и быстро вышел наружу
сквозь шеренгу расступившихся командиров – я больше не в силах был оставаться здесь, сарай казался мне ловушкой.
На площадке около сарая, тоже загаженной и смрадной, уже все было приготовлено: перекладина, веревки, яма; несколько солдат стояли рядом, они вытянулись при моем появлении. Но я только мельком взглянул на них, я подставил лицо солнцу – неожиданно яркому и теплому для поздней осени. Когда я ехал сюда, а потом входил в сарай, было пасмурно, и казалось, что вот-вот пойдет мелкий противный дождь. Но солнце!.. Да еще такое! Я подумал, что это какой-то знак мне, но не мог понять какой. Соображая, я сделал короткий шаг вперед и вдруг, почувствовав под ногой что-то мягкое и скользкое, едва не упал. Солдаты подхватили меня с обеих сторон – я наступил на откуда-то взявшуюся тут, у конюшни, коровью лепешку, к тому же еще и свежую. Я зачерпнул носком сандалии теплую, зеленоватого цвета жижу и брезгливо пошевелил пальцами ноги. Солдаты, по-видимому, неправильно поняли мое движение и еще крепче ухватили меня за руки, а один из моих слуг, встав на колени передо мной, осторожно приподнял мою ногу.








