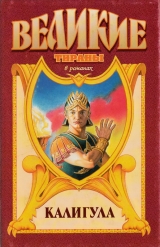
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Только оговорюсь – объяснять не имеет смысла – государственные дела меня не интересовали. Мне безразлично было и само государство, и населяющие его люди. И люди вообще. С какой стати я должен был заботиться о них и направлять их жизнь?
Власть тоже в скором времени перестала иметь смысл. Правда, терять ее было еще бессмысленнее. И потому я казнил тех, кто был угрозой власти или кого я мог только подозревать в этом.
Суллу я наградил. Он стал очень богатым человеком. Сказал ему, что теперь он мой друг и пусть он хорошо запомнит это, но все равно – и это я сказал ему тоже – больше всего мне хочется увидеть его распятым. Он почтительно поклонился на мои слова – богатый, мудрый, свободный Сулла. Мой друг.
– Когда же бессмертие? – спросил я его, – Или теперь, когда я император, бессмертие уже не имеет значения?
– Нет, Гай, – ответил он (все-таки не побоялся говорить «Гай» мне, императору). – Сейчас ты ближе к бессмертию, чем когда бы то ни было. Но сначала нужно насытиться властью, настолько ею объесться, чтобы тошнило и рвало.
– Как Тиберия? – не удержался я.
– Много сильнее и много невыносимее, – отвечал он, – когда единственное спасение – бросить власть и бежать.
– Куда?
– Куда глаза глядят. В нищету, которая не будет нищетой, в лишения, которые не будут лишениями. Или через некоторое время перестанут ими быть. Все человеческое: радости, любовь, страсти, горе, лишения – все, все перестанет быть. И страх смерти тоже, потому что он самое человеческое. И когда все это уйдет, ты будешь бессмертен.
– Значит, ты думаешь, что меня свергнут и я вынужден буду бежать?
– Нет, ты уйдешь сам.
Я не верил тому, о чем говорил Сулла. Кроме того, мне не нравилось такое бессмертие, очень уж оно было непривлекательным. Не обращать внимания на власть и быть бессмертным властителем выглядело все-таки привлекательнее. Хорошо было бы казнить Суллу и забыть обо всем. О нем самом и о его непривлекательном бессмертии. Было бы правильнее и лучше всего, но я не мог. Я не хотел обманываться его ложью, но и не мог жить без нее. Другой у меня не было.
Я посылал Суллу с различными важными поручениями, чем дальше, тем лучше, надеясь, что его убьют по дороге или он заболеет и умрет. Надеялся и боялся одновременно.
Как я любил Друзиллу! Со дня смерти Тиберия – а не моего императорства – я не отпускал ее от себя. Теперь я не боялся любви. Я ей прямо говорил: «Люблю», и радовался тому, что говорил, больше ее. Она тоже радовалась, обнимала меня крепко и целовала нежно. Мне совсем не хотелось делать с ней то, что я делал с Эннией и другими женщинами. Удовлетворение страсти перестало быть необходимостью. Зато необходимо было постоянно ощущать тепло ее тела – особенное, необходимое мне тепло.
Кто бы видел, каким я бывал с ней: тихий, ласковый, нежный. И одинокий. Я не мог понять, почему чувство одиночества проявляется во мне с такой силой именно тогда, когда я с ней. Никто не был мне нужен, кроме нее. И весь мир людей, и все, что окружает людей. Но почему-то среди людей я так остро не чувствовал одиночества. А с ней чувствовал иногда так сильно, что делалось невыносимо и хотелось бежать.
Но все равно, я любил. Любовь – постоянная необходимость теплоты другого тела, даже не самого тела, но теплоты только. Чего-то такого, что и телесно и нетелесно одновременно. Мне всегда казалось, что теплота у всех одинаковая – и не имеет значения. Но то, что я ощущал в Друзилле, была особенность теплоты. Особенность и не могла быть телесной.
Ладно, об этом обо всем я, конечно, много позже размышлял – много, много позже. А тогда не думал, а только ощущал. Даже ощущение одиночества опускаю – оно не в счет. Тут другое: что мне было нужно от Друзиллы, кроме теплоты? Оказывалось, ничего. Я уходил от нее, и она переставала быть. Ее черты, слова, движения – вся та сумма, что называлась Друзиллой. И тело тоже уходило. Оставалась только необходимость тепла.
Какая-то была во всем этом недостаточность: я не мог проникнуть в Друзиллу и что-то такое понять. Что? – я не могу сказать, не знаю. А необходимость в тепле… Что-то здесь все-таки было унизительное. Не говорю – как животное к животному в норе, но все же.
Такая недостаточность время от времени настолько превышала ту черту, после которой мое терпение и воля переставали иметь смысл и не могли помочь мне, что я отталкивал Друзиллу и бежал от нее. Грубо отталкивал и бежал почти в гневе.
Да, был нежен и ласков. Кто меня таким видел? Но ведь был. И отталкивал, и бежал в гневе. В это поверят с радостью. Глупцы! Ненависть ко мне ослепляет вас, и вы видите лишь то, что хотите. Вам бросаю пояснение – не для прозрения, а единственно из злорадства: да, отталкивал и бежал в гневе, но ведь не бил и не терзал и не издевался. Себя отталкивал и от себя же бежал. И от себя отрывал необходимое для жизни тепло.
Тут, может быть, виною достигнутая мною власть, мое императорство. Ведь я теперь был выше всех. Намного выше, недосягаемо. Правда, Тиберий – вижу его мерзкую усмешку – мог бы сказать: да, недосягаемо, только не для яда и кинжала. Соглашусь, убить меня можно, но ведь я говорю о недосягаемости, пока я император и пока я жив.
Теперь я стоял так высоко, что все, кто окружал меня, потеряли свое лицо и свой облик, сделались единственно только подданными. Да и не окружали меня, а остались где-то внизу. Они сделались какими-то тенями. Может быть, тенями самих себя. Они, наверное, были тенями и раньше, еще до моего императорства, но тогда я еще видел их людьми. Теперь они стали для меня тем, чем были всегда – тенями. И это обстоятельство не требовало особых доказательств: достаточно было провести рукой по толпе или по сенаторам, стоявшим в две шеренги (так я велел стоять), когда я поднимался на Капитолий [13]13
…поднимался на Капитолий… Капитолий – один из семи холмов, на которых возник Древний Рим. На нем находился храм, посвященный Капитолийской триаде: Юпитеру, Минерве и Юноне, в нем проходили заседания сената, народные собрания.
[Закрыть], – рука свободно проходила сквозь них, как если бы летела в пустом пространстве. Только Друзилла, когда я обнимал ее, была плотью. Не знаю, что с нею было, когда не обнимал. Возможно, она становилась такою же тенью, как и все. Но я не хотел ни думать об этом, ни испытывать этого.
Порой мне хотелось просто растерзать Друзиллу, кажется, только для того, чтобы посмотреть, что у нее внутри. И убедиться, что там то же, что и у всех, то есть – ничего. И значит, то, что я называл любовью, – любовь к ничему. Лживое, ложное чувство, уводящее меня от божественного к человеческому. И в конечном счете – к смерти. Все как у всех, и я как все. И власть – лишь более приятный, чем другие, способ времяпрепровождения жизни: этого бессмысленного, ложного и ничтожного отрезка. Отрезка чего? Да ничего.
Энния в первое время не хотела отпускать меня от себя. Боялась, что ускользну. Справедливо боялась. Сначала я не отталкивал ее, не пугал – всему свое время. Тут я отбрасываю всякие тактические уловки. Просто я еще не вполне осознал себя императором, а всех остальных хоть и презирал, но еще не видел тенями. Я даже приходил к ней и оставался у нее. И Макрон, мой боевой соратник, когда ему нужно было доложить о событиях минувшего дня, бывало, ждал меня у дверей собственной спальни. Лицо его было, когда я выходил, более чем почтительным. Я говорил ему:
– Ты знаешь, сегодня Энния всхлипывала не так громко, хотя стонала протяжнее, чем всегда. Кому-нибудь такой стон понравится больше, но мне милее всхлипы. Громкие, чтобы сводило уши. Тебе самому, мой Макрон, что нравится больше?
– Что будет угодно императору, – отвечал он.
– Мне угодно, чтобы ты ответил, – настаивал я и даже суживал сердито глаза. Он, конечно, пожимал плечами, склонялся еще ниже, но я не отставал.
– Мне противны женщины, – наконец выдавливал он.
– Это странно, мой Макрон, и может ли так быть, чтобы женщина, с которой спит император и под которым она так неистово кричит, может быть тебе противна? Это граничит с изменой.
Он ничего не отвечал, а я больше не спрашивал.
Энния упрекала меня, зачем я мучаю Макрона, потому что все равно он помог нам (она говорила «нам», а не «тебе», но я делал вид, что не замечаю разницы; наверное, она думала, что не вижу). И как бы там ни было, продолжала она, он опора твоей власти. Хороша опора: не вытянул меч и не ударил меня ни сначала, когда я заставил Тиберия выпить яд, ни потом, когда душил его подушкой. Тогда он тоже был опорой власти. Опора, которая не поддерживает, а стоит в стороне, и я должен быть благодарен ей за то, что она не «залилась и не придавила меня. Положим, хорошо, что устояла, но лучше убрать такую опору куда-нибудь подальше.
Но ей я ничего такого не сказал. Сказал другое: что не могу простить Макрону, что он спал с ней, и не могу смириться. Она осталась довольна. А я и сам точно не знаю, зачем я все это говорил Макрону. Может быть, для того, чтобы он поскорее стал тенью. Что до Эннии, то она меня никогда особенно не возбуждала, а теперь, когда тепло Друзиллы сделалось для меня столь необходимым, Энния, несмотря на свои усердные стенания и крики, была… Нет, не холодна, но ее просто не было со мной как любовницы. Спать с ней стало – все равно что спать с самим собой. Вряд ли столь уж необходимое для императора занятие.
Я знал – не только чувствовал, но знал, – что дни их, Эннии и Макрона, сочтены. И не в том дело, что убийцы (а ведь они оба были убийцами) не могут быть друзьями. Ни друзьями, ни соратниками; только у таких же убийц. Дело в том, что я просто не хотел смотреть на них. Не хотел их видеть, и больше ничего. Но вынужден был смотреть и видеть их, как бы далеко они ни были, как бы далеко я ни услал их. Я обречен видеть их, по крайней мере, пока они живы, потому что они видят меня тем самым Гаем, подобным многим, подобным всем остальным, подобным им самим. Они и тогда достойны смерти, если будут видеть меня только и единственно императором. Все равно для них я стал императором, а не был им всегда. Никогда не рождался, а все время был. Мне уже невыносимо было быть ставшим императором. Впрочем, видевших меня другим было не так мало. Некоторых боги, правда, благоразумно отправили в подземное царство. Но остальных оставили мне – как равному с ними.
* * *
Моя бабка Антония просила свидания со мной наедине. Макрон доложил мне об этом. Я спросил:
– Кто она такая?
Он отвечал, что моя бабка, мать моего отца, Германика.
– Германика? – удивился я (вот тогда же я почувствовал в себе явственные признаки неподдельного удивления). – Но разве он был моим отцом?
Макрон, по своему обыкновению, не знал, что отвечать, и, конечно же, стоял, почтительно опустив глаза. Я отпустил его едва заметным движением руки.
Но Антония, как я и предполагал, была настойчивой. Макрон, правда, теперь боялся докладывать мне о ней. А я ждал, и это было приятным для меня занятием в течение нескольких дней. Наконец случайно – думаю, что все же случайно, – ее прошение оказалось на моем столе. Она просила все того же – свидания наедине.
– Ты видел ее? – спросил я у Макрона.
И когда он ответил: «Да», спросил:
– И как ты ее находишь? Кажется, она уже старая? – Руками я совершил в воздухе округлые движения, чтобы он лучше понял, о чем я спрашиваю.
Он нерешительно взглянул на меня, но на этот раз попытался ответить:
– Она еще вполне красивая женщина.
Ну да, конечно, при всех колебаниях ситуации все же было благоразумнее всего назвать бабку императора красивой.
Я сказал.
– Если так, это меняет дело. Если так настойчиво требует свидания наедине, то при красоте ее настойчивость имеет свой смысл.
Макрон посмотрел на меня недоверчиво, но я не шутил: ни перед ним, ни перед собой. Уверен, я не имел плана, но желание возникло само собой, внезапно.
То, что она моя бабка, было во мне. Не совсем слабым чувством. Или почти и не чувством, а лишь воспоминанием о нем; не так, как когда-то, когда она считалась моей бабкой. Впрочем, я подумал о ней как о родственнице только тогда, когда боль унижения отразилась на ее лице: я не принял ее, как она просила, – рядом стоял Макрон. Но не просто посторонний, а префект Макрон, лицо официальное. То, о чем она собиралась говорить со мной, не могло быть высказано. И конечно же, она не решилась бы попросить Макрона удалиться.
Я не узнал ее, мне показалось, что я вижу ее впервые. Не знаю, говорил ли Макрон правду, но я и без него видел, что она красива. Я почувствовал, как вожделение поднимается во мне. Это принесло мне радость, потому что вожделения, что называется, в чистом виде я не чувствовал давно. Друзилла – это другое. А так – нет, не чувствовал, а всегда заставлял себя.
Антония молчала и смотрела на меня, не отводя глаз. Как будто только для того пришла, чтобы стоять, молчать, смотреть. И для этого только так упорно добивалась встречи со мной.
– Чего ты хочешь от меня, женщина? – спросил я.
Но она продолжала молчать. Ее грудь, ноги, ее увядшее лицо – нет, тут было что-то другое, большее, чем просто женщина, и вожделение было направлено на это другое.
Я велел Макрону поднести светильник, подошел к Антонии, взял ее руку в свою и повел. В комнату, где больше половины площади занимало мягкое упругое ложе; окна по моему приказу были там заложены камнем и занавешены тяжелыми шторами кроваво-красного цвета, и стояло там множество светильников. Им предназначалось гореть всегда, и специально назначенные Макроном люди – сам я их никогда не видел, потому что никому не дозволялось входить сюда, – следили за этим.
Я подвел ее к краю ложа, развязал пояс и тут же раздел ее всю. Макрон стоял за моей спиной и высоко над головой держал светильник. Я только раз, мельком, взглянул на него: рука была напряжена, а пламя светильника дрожало.
Не могу сказать, как она была хороша. Не могу вспомнить ее изъянов. Она вся была изъян. Ее тело не было старым, оно было другим. И хотя она стояла передо мной обнаженная и вожделения во мне было, кажется, больше, чем я мог выдержать, я не смотрел на ее тело, а смотрел в ее глаза так же неотрывно, как и она смотрела в мои. Не красота и не страсть, а что-то сильнее красоты и страсти было в них.
Хочется сказать, что это было бессмертие. Так хочется, что я уже говорю это. Но не бессмертие это было, а жизнь, похожая на бессмертие. Вся ее жизнь, вся ее красота, все ее вожделение, страсть… и все остальное, что я не могу назвать, все, что она видела, все, что понимала, и все, что не успела понять…
Тело уже не имело значения, а все было в глазах. Не в самих глазах, а в том, что они отражали. Если бы в глазах, то я стал бы их целовать, раздвинул бы веки губами и провел бы кончиком языка по глазному яблоку. Но это тоже было тело, а в теле не было ничего.
Я трогал ладонями ее плечи, грудь, живот. Я делал это по привычке и еще потому, что вожделение мое желало этого. Но я не смог. Я страшился ее тела, как яда. Не могу точно объяснить, но я боялся заразиться смертью. Бессмертие было в ней, в Антонии, но как-то по-другому. А тело было готово к смерти.
Не знаю, может быть, я тогда только чувствовал, но не понимал. Но – побоялся и не смог.
– Возьми ее, – сказал я Макрону.
– Да, император, – отозвался он, но, конечно, не понял.
Я надавил на плечи Антонии, и она села. Я легко оттолкнул ее плечи от себя, и она легла. Лежала на самом краю, вытянув руки вдоль тела. Руке у края ложа не было места, и она прижимала ее к себе, подоткнув пальцы под бедро.
– Возьми ее, Макрон. – Я наконец обернулся к нему. – Раздевайся.
Он не опустил руку со светильником, но другой рукой стал отстегивать пояс и никак не мог отстегнуть. Я ждал. Наконец он справился, но с такой силой дернул ремень, что он выскользнул из пальцев и упал на пол. Между мной и им. С металлическим лязгом, потому что короткий меч был тяжел. Я отбросил его ногой в сторону. От резкости моего движения Макрон едва не выронил светильник. Я успел подхватить его. Поднял над головой и держал в вытянутой руке неподвижно.
Ему было стыдно. Он стоял боком ко мне, смотрел в пол, но изгиб его тела был почтительным, ведь он стоял перед императором. Продлевать его стыд было мне приятно, но нетерпение торопило меня, и я крикнул:
– Ложись!
Прозвучало как боевая команда, и мне показалось, что он бросится на пол, исполняя ее. Но трудно было упасть, не задев меня или край ложа. И он, уже дернувшись, понял это. И упал на Антонию. Впрочем, придерживаясь руками, чтобы не раздавить ее.
Спина его была покрыта веснушками и поросла рыжими волосами, прямыми и жесткими, как щетина. Я подумал, что если неосторожно тронуть спину, то можно уколоть руку до крови. И еще: когда тело истлеет, то волосы еще очень долго, может быть бесконечно, будут оставаться все такими же прямыми и жесткими. Дальше я должен был бы поразмышлять о бессмертии, но ни место, ни время, ни его ерзающая вперед и назад спина не располагали к долгим и серьезным размышлениям.
Мне даже сделалось досадно, что он так просто и откровенно ерзал передо мной и так быстро исполнил то, что я приказал. Он работал, как какая-нибудь стенобитная машина. Мне хотелось крикнуть, заставить его прекратить, и я едва не крикнул. Но тут произошли крик и движение – и мой крик сначала застрял в горле, а потом исчез совсем.
Кричала Антония – не от страсти, боли или насилия, но от всего разом: и от первого, и от второго, и от насилия тоже. А движение – одновременно с криком – было содроганием ее стопы. Не дрожанием просто, не подрагиванием, но именно содроганием, будто что-то внутри билось, как в клетке, стремясь вырваться наружу. Что? – я не в силах определить, но мне и сейчас кажется, что и крик вырвался не из горла Антонии, но оттуда.
Я пригнул колени и ухватился за ее стопу, не опуская светильника, который я продолжал держать высоко над головой; рука, державшая его, окаменела. Внутри стопы билось, и сама она содрогалась, и рука моя, будто заразившись от стопы, содрогалась тоже, то есть от собственного моего внутреннего биения. Я силился разжать пальцы, но не мог. Ерзающей спины Макрона я уже не видел, но только обонял и слышал, как он старался: тяжелый запах и частое, с присвистом, дыхание. Я понял, что умру, и смерть оказалась страшнее, чем я мог себе представить. Я хотел закричать, но только широко раскрыл рот. Так широко, что что-то хрустнуло в челюстях и как будто замкнуло: рот остался открытым. Но не это было страшнее всего, а то, что он, уже сам по себе, открывался все шире и шире, и я уже ощущал, даже сквозь невыносимую боль, как он выворачивает меня наизнанку, внутренностями наружу.
Тут опять закричала Антония, нога ее дернулась коротким и сильным движением, все тело мое содрогнулось, и что-то раскаленное обожгло плечо и руку, и я упал на спину. Но прежде чем мои лопатки коснулись пола, сознание покинуло меня.
Болел я долго, более сорока дней. Рука моя и плечо были обожжены маслом светильника. Кроме того, упав, я сильно ударился об пол затылком и в течение нескольких дней не мог говорить и плохо видел. Кожа от ожогов вздулась, и боль невозможно было перенести. Я мог погибнуть просто от боли в любое мгновение. Не понимаю, почему Макрон не помог мне умереть.
Но закончить дни так мне было не суждено. Язвы заживали быстрее, чем предполагали лечившие меня. Кроме Друзиллы и врачей, я не допускал к себе никого. Но Друзиллу не отпускал ни на минуту: и когда засыпал, и даже когда терял сознание, держал ее руку в своей; потом я видел на ее руке синие полосы от моих пальцев.
Народ скорбел о моей болезни. Толпы людей собирались под моим окном. Как мне говорили, были такие, которые давали письменные клятвы биться насмерть за мое выздоровление или отдать за меня жизнь. Ничего удивительного в этом не было: разве не эти толпы ворвались в сенат и заставили заседавших там объявить меня императором? Теперь они скорбели о болезни и страшились моей смерти. Лучше бы им страшиться моего выздоровления. Мне было приятно видеть эти толпы у моего окна – многие оставались тут и ночью, – но кто бы знал, как я презирал их всех. Глупое стадо. Да разве большой почет – быть вашим погонщиком?
Я не мог без содрогания вспоминать Антонию – отпечаток ее стопы на моей ладони, кажется, уже невозможно было стереть ничем. Я прятал это место даже от Друзиллы. Кожа на ладони тоже казалась как будто обожженной (говорю теми словами, которыми могу, хотя это и нечто другое), и время от времени, когда я касался чего-либо, то ощущал боль, словно кожи не было совсем.
Народ под окнами надоел мне – к тому же стоял постоянный гул и тяжелые запахи. Но я не решился дать приказ разгонять их, а попросил передать им, что император вполне ценит их преданность, самоотверженность и любовь, но течению его болезни вреден шум. Лучше всего было бы уничтожить их в уме, а потом подойти к окну и увидеть, что они уничтожены наяву. Я так и делал, и не один раз, и так уничтожил большие толпы. Только к окну не подходил.
Вообще, за время болезни желание уничтожать проснулось и выросло во мне с новой силой. Мне уже не хотелось быть выше всех, властителем над всеми, но хотелось быть одному. Не одному, отдельно от всех, но одному, уничтожив всех.
«А Друзилла?» – думал я. Порой мне хотелось уничтожить и ее, но как бы я мог обходиться без тепла ее тела?
Любовь народа унижала меня. Его любовь была корыстной: он хотел, чтобы я, называясь его господином, служил бы ему, как раб.
Я велел Сулле сделать так, чтобы Антонии давали яд. Через две недели она умерла. Я приказал зажечь погребальный костер перед окнами пиршественного зала и смотрел, сидя с кубком в руке, как дым поднимается к небу. Он то тянулся столбом, то извивался под порывами ветра, повторяя очертания тела Антонии: грудь, стопа, овал плеча. Стопа уже не содрогалась, ничто не билось внутри ее, она была пуста и прозрачна. Хотелось протянуть руку и попытаться ухватить ее, и ощутить, как дым рассеивается под рукой, а пальцы сжимают пустое пространство. Я бы и протянул руку – Ничего я не боялся, – но она была занята кубком, а тот был полон до краев, а я пьян и нетверд в движениях, и, опуская кубок, я обязательно бы пролил вино. И я медленно поднес кубок к губам, и медленно выпил веселящую влагу, и неотрывно смотрел на дым, уже затянувший полнеба и готовый затянуть его всё.
И мои друзья – те же презренные люди толпы – тоже пили вино и шумели, и равнодушно смотрели на дым, не видя в нем ничего, кроме дыма, будто не часть моей собственной плоти поднималась к небу, а просто для продолжения и полноты пиршества зажаривали на огне быка или барашка.
И тут на одно мгновение ветер задул в нашу сторону, не просто порывом, но единым мощным дуновением. Так могло сделаться только по желанию богов. Нас всех обсыпало пеплом. Я уронил кубок и попытался стряхнуть с себя пепел, но только размазывал его по лицу и рукам – такой он был жирный. Одежда и лица сидевших за столом сделались грязно-серыми, а некоторые размахивали руками в воздухе, как слепые. Другие терли глаза и кричали от боли. Я обернулся к Друзилле: она сидела неподвижно и прямо, и только ее лицо и одежда были чистыми, потому что пепел, падавший на нее, был сух и похож на осенние листья, они скользили по плечам, рукам, одежде и ложились вокруг нее полукругом. Она очнулась под моим взглядом, встала, взяла мою руку и вывела меня из зала. Когда мы вышли, остановилась, повернулась ко мне и легкими движениями стала стряхивать с меня пепел. И то, что было жирным и размазывалось по рукам и лицу, вдруг стало скользить вниз легкими хлопьями и падать к моим ногам и легло вокруг меня полукругом. Мои друзья кричали и топали в зале, и я подумал, что теперь никому из них не остаться в живых, и если я не приказал страже убить их тотчас же, то только потому, что пепел красиво лежал полукругом у моих ног, и я смотрел на него затаив дыхание и боялся его потревожить.
Мы тихо ушли. Я был так слаб, что едва сумел добраться до своей спальни и лечь. Друзилла гладила меня осторожными движениями и прикасалась ко мне губами. Но я не чувствовал ничего – или так слабо, что все равно как если бы не чувствовал совсем, – ни тепла, ни тела, ни прикосновения ее губ: все мне было безразлично и ничего не было нужно. Я даже не понимал, что же такое произошло: какой-то нелепый костер перед окнами (кто приказал? с какой целью?), жирные полосы на теле, легкие хлопья, полукруг… И эта женщина, прикасающаяся ко мне губами (кто впустил? кто позволил?).
Потом в меня вселилось безумие: никак по-другому я назвать это не могу – мне просто хотелось уничтожать людей. Всех, кто чтил во мне императора, кто любил, кто не чтил и кто ненавидел. Просто всех.
Оказывается, я был просто человеком. Просто, просто, просто человеком. Какой-то бессмысленный пепел какой-то сожженной женщины, пусть и моей бабки, мог ввергнуть меня в состояние, когда мне сделалось всё все равно и жить не хотелось… Нет, было все равно, жить или не жить, и все равно, что было вчера и будет завтра. Боги правили мной, не богом, не равным им, но как человеком, рабом. Я был такой же раб богов, так же любой римский гражданин правил своим рабом.
Проклятый Сулла. Я сказал ему:
– Значит, я не бог, а такой же смертный и бесправный, как и ты, как и все.
– Нет, – отвечал он, – но ты сам должен знать это, а не искать подтверждения. Лишь только ты перестанешь искать его, как тут же осознаешь это.
Он был прав. Проклятый и ненавистный Сулла был прав, потому больше всего мне нужно было, чтобы верил он. А ведь он не верил. Я бы уничтожил его, вот сейчас же, в любое следующее мгновение, но разве я сам поверил бы, если бы его не стало на свете.
До этого разговора я обезумел или после, но, во всяком случае, после него безумие мое сделалось отчаянным.
Пиры следовали за пирами, без отдыха, так, что длился один беспрерывный пир. И жизнь моя сделалась пиром. Если бы не вино, то… Ведь меч всегда поблизости, а у Суллы всегда найдется кувшинчик с хорошим ядом. Но люди… Тут нечего было раздумывать: палач всегда в наличии, тем более если страшится стать жертвой.
Смерть, оказывается, была совсем не страшна, пусть и не собственная твоя, а чужая. Во время пира за моей спиной стоял человек. Я знал о нем только то, что зовут его Клувий и что свое ремесло он знает лучше других. О боги, сколько людей на свете виноваты перед императором и сколько достойных смерти! Впрочем, недостойных смерти, наверное, и нет на земле. Разве что Друзилла.
Я не любил суды. Вся эта говорильня не имеет смысла, когда я хочу, чтобы Клувий поработал мечом. Вот этот, толстый, почему-то никогда не клялся моим гением. А при виде Клувия любой поклянется чем угодно. Что слова! Лживее слов я ничего не знаю. И вот голова его отсекалась от тела и откатывалась в сторону, а тело сначала вздрагивало, а потом замирало. И все. Если даже толстяк и клялся моим гением, то и это не имело значения, потому что – «и всё».
Сколько их закончило жизнь передо мной – толстых, худых, немощных и здоровых! Мне казалось, что Клувий мог вообще поочередно перебить всех римских граждан. Больше одного удара он никогда не делал, все равно, тонка была шея, как тростинка, или мощна, как столб. И еще: ни одна капля крови не запятнала моих одежд, хотя он делал свое дело у самых моих ног и кровь брызгала в разные стороны.
Я всегда ставил Клувия у себя за спиной, с правой стороны, чтобы ему при случае было удобно. Ведь он был левша. И когда я ему делал знак покончить с кем-то, всякий раз моя шея напрягалась, ожидая удара. И расслаблялась, как только удар приходился не по ней. Лучшего наслаждения, чем это напряжение и расслабление шеи, кажется, невозможно было придумать.
Мне казалось, что наступление смерти у моих ног никогда мне не наскучит. В постоянстве интереса я тоже ощущал бессмертие. Но некоторое время спустя я стал приказывать Клувию совершать разные удары: под сердце или просто сверху мечом по голове. Он, правда, и это совершал с безупречным мастерством, но все-таки что-то уже было не то, и я ощущал уже какую-то притупленность интереса. Способы смерти могли быть разными – и я перепробовал разные, – но сама она выглядела уж очень однообразно.
Друзилле не нравилось то, что я делал, хотя она всегда сидела рядом и ни разу не ушла. Думаю, не посмела. Как бы я ни любил и как бы ее тело ни было мне необходимо, все равно она находилась в моей власти, то есть в императорской. Все были в этой власти, и Друзилла не стала исключением. Сам я не хотел такой власти над нею: пусть все будут, а она – нет. Пусть останется только власть любви, власть тела, пусть я не посмею делать то, что ей не нравится, а она посмеет сказать, когда что-то не нравится ей. Так я желал бы, но изменить ничего не мог. Если мне, императору, необходимо было видеть смерть, то как я мог отказаться от своего желания; а если бы она посмела уйти, то, значит, это либо каприз, либо бунт.
Я ничего не мог изменить, потому что не мог изменить себя: «хочу» и «могу» не просто стояли рядом, но были одним и тем же понятием. Выходило, что измениться можно было, только если не «хотеть». Чего-то не хотеть, но я не знал чего. Не знал, пожалуй, что нужно хотеть. Хотеть прекратить пиры или не хотеть сидеть на них. Не хотеть видеть смерть или хотеть ее не видеть. Я в самом деле не мог понять, намеренно ли я путаю понятия или они сами так хитро и лукаво путаются. Хотеть, не хотеть. А как возможно было не хотеть, когда все было можно? Не хотеть ничего – значит лишиться страстей, но что останется и с чем я останусь, если лишусь их? Да и разве смогу лишиться? Даже боги…
Даже боги живут страстями. Кажется, единственно этим и живут. Только страсть богов вечна, как и они сами, и в этом смысл. Бессмертие и вечность и есть смысл. Другого смысла, кроме бессмертия, быть не может, потому что нет конечного смысла, но смысл бесконечен и вечен. Я хочу видеть смерть, потому что хочу. Бог не спрашивает себя, почему он хочет, – он бог.
Когда Клувий выходил из-за моей спины, Друзилла закрывала глаза и не открывала их до тех пор, пока слуги не утаскивали тело и не убирали кровь.
Однажды, лаская Друзиллу, я взял ее шею обеими руками.
– Какая удобная шейка для моего верного Клувия, – сказал я.
Она не ответила. Я не знал, зачем я это сказал. Было темно, и я не видел ее глаз. Но тогда же я подумал, что, может быть, скорее умру от яда, чем от меча Клувия.
Утром она улыбнулась мне жалкой улыбкой. Впервые так. Клувий тоже похоже смотрел на меня. Неужели и Клувий, и она по отношению ко мне стояли на одной ступени? Страх, жалкая улыбка, страх, отчаяние, яд и меч. Или не яд и не меч, но снова жалкая улыбка?
Отчего я все медлил и не убивал Макрона? Ведь я знал, что он хочет моей смерти больше всего на свете. И его преторианцы, во всяком случае многие из них, хотят того же. А у меня не было своей гвардии, да и просто людей, на которых я мог положиться в крайнюю минуту. Не буду говорить, что я был беспечен, не буду говорить, что слишком надеялся на силу своего духа. Или что я уже почитал себя богом настолько, что, конечно, не мне бояться людей. К тому же я осознавал, что почитать себя богом насколько-то нельзя: если даже чуть-чуть только не хватает до бога, то ты уже не бог.








