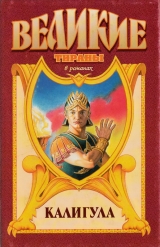
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Не понимаю, что такое со мной случилось – возможно, что виновато было неожиданно выглянувшее солнце, слепящее глаза, – но прикосновение чужих рук было мне значительно противнее, чем то, на что я наступил.
– Прочь! – крикнул я.
Слуга выронил мою ногу и едва не опрокинулся на спину. Солдаты же выпустили меня только тогда, когда я резким движением стряхнул их с себя.
Только в это мгновение подошли Туллий и командиры.
– Угодно будет императору переобуться? – осторожно произнес Туллий за моей спиной.
– Императору угодно смотреть, – зло процедил я сквозь зубы. – Начинайте!
И, несколько раз тряхнув ногой, я повернулся к дверям сарая и встал, скрестив руки на груди. Солнце теперь было сзади, и я ощущал его тепло спиной и затылком, но прежнего удовольствия уже не испытывал. Опять злость и раздражение явились во мне, хотелось сказать Туллию и им всем что-нибудь самое резкое, самое обидное, и я едва сдерживал себя, напрягши руки и прижав их к груди с такой силой, что трудно было дышать.
Наконец в дверях сарая показались двое солдат, они волокли Клавдия. Тело его безжизненно висело в их руках, а голова свободно болталась из стороны в сторону. Я снова подумал, что Клавдий мертв. Его уложили на перекладину, стали привязывать. То ли перекладина была узкой, то ли его тело было как-то особенно расслаблено, но оно норовило упасть то на одну сторону, то на другую, и двое солдат, ругаясь вполголоса, £ с трудом поддерживали его.
Уже руки и ноги Клавдия были привязаны, уже солдаты взялись за веревки, чтобы поднять перекладину, как мне в голову пришла новая мысль. Разумеется, безотчетная злоба и усталость сегодняшнего дня были v тому виной, но что поделаешь, если в какие-то моменты не можешь сдержаться. И не только не можешь, но и не хочешь, и, зная, что, очевидно, вредишь самому себе, все равно делаешь это.
– Стойте! – громко произнес я, и солдаты замерли, повернувшись в мою сторону.
В свою очередь я посмотрел на Туллия. В его лице была тревога. Мне показалось, что у него чуть подрагивают руки. Он проговорил, неуверенно улыбаясь: – Что-то не так, император?
– Все не так! – отрывисто сказал я и продолжил со все более и более нарастающим озлоблением: – Ты думаешь, я пришел сюда, чтобы посмотреть, как распинают какого-то Клавдия? Кто он такой? Скажи мне, кто он такой, чтобы император присутствовал при его казни? Он что, сенатор? Или хотя бы консул? Командир пятой когорты – да у меня тысяча таких когорт! Ты понимаешь, ты понимаешь меня?
Конечно же, Туллий не понимал. Теперь он смотрел на меня испуганно, так, будто с моим лицом в одно мгновение произошло что-то необычное и странное. Может быть, у меня, как и у него недавно, глаза сошлись к переносице и из двух образовался один? Может быть, теперь я сам сделался Полифемом и взирал на него своим единственным глазом, алча крови? Все могло быть, потому что гнев во мне перешел все возможные границы, и я сам удивляюсь, как я еще мог стоять недвижимо со скрещенными на груди руками, а не бросился на Туллия или на других или не покатился по земле со стонами и воплями. По-моему, Туллий тоже был удивлен и напуган этим. Наверное, и другие были точно так же напуганы, но я не смотрел на них, а видел перед глазами лишь лицо ненавистного Туллия – в эту минуту вся скверна мира выразилась для меня в его лице.
– Значит, не понимаешь! – негромко, медленно и угрожающе проговорил я, не отрывая взгляда от лица Туллия. – Тогда я тебе объясню, для чего я здесь, чтобы ты хорошенько все понял и чтобы все вы, – я выбросил руку в сторону стоявших плотной группой командиров, – чтобы все вы поняли. Поняли, что это ваш товарищ, что он не более виноват, чем все вы, и, главное, чтобы знали, что каждый из вас и все вы вместе можете оказаться на его месте!
Я сделал паузу. Я хотел увидеть, какое впечатление произвели на них такие мои слова. Если бы они бросились на меня в следующее мгновение, я бы, наверное, был только рад этому.
Но никакого видимого впечатления мои слова на них не произвели. Группа командиров, стоявшая чуть поодаль, так же продолжала стоять (выражение на их лицах с моего места трудно было определить), Туллий тоже не упал на колени, не бросился бежать, только правое веко снова стало подергиваться и на лбу выступила испарина. Впрочем, возможно, что и от солнца, которое припекало все сильнее.
Гнев мой несколько ослабел, но зато решимости стало больше. И уже довольно спокойно, но с абсолютной уверенностью, что этому нельзя прекословить, я распорядился:
– Пусть солдаты отойдут, а вы (я ткнул пальцем в сторону группы командиров) возьмитесь за веревки. Все, ни один не останется в стороне. Надеюсь, что мне не придется повторять приказание дважды!
Но мне пришлось, потому что никто не сдвинулся с места: солдаты все так же стояли у перекладины, держа в руках веревки, командиры – все той же плотной группой. Вокруг наступила такая тишина, что казалось, весь Рим прислушивается к ней. Весь Рим, все провинции, все сопредельные государства. И даже боги, если они все-таки существуют, в полном молчании, настороженно смотрели с небес. Все ждали, чем же закончится противостояние, и хотели понять, есть ли еще у римского императора власть.
И когда тишина – я ясно почувствовал это – достигла критической точки и любой, самый незначительный и случайный шорох мог взорвать ее, я произнес:
– Римский император, Гай Германик, приказывает вам. Исполняйте!
И, сказав это и достаточно небрежно посмотрев на Туллия, я повел рукой в сторону перекладины. Он помедлил всего несколько мгновений и, ничего не ответив мне, пошел в сторону командиров. Он был значительно выше меня ростом и шел, так низко опустив голову, что, глядя со спины, казалось, будто головы нет вовсе. И я произнес про себя: «Гвардия обезглавлена», хотя и сам не понял, что имею в виду.
Я не слышал, что Туллий говорил командирам и что они, возможно, отвечали ему, но переговоры оказались короткими. Медленно, очень медленно, будто все это происходило во сне, все они, так же плотно держась друг возле друга, двинулись в сторону перекладины. Туллий шел позади всех, так же низко свесив голову на грудь. Сейчас он не казался обезглавленным, но напомнил мне Клавдия в тот первый момент, когда я увидел его, войдя в сарай: так же низко голова свисала на грудь.
Когда подошли командиры, солдаты аккуратно положили веревки на землю и так же медленно отошли в сторону.
Все последующее в самом деле происходило, как во сне, и я смотрел завороженно. Одни взялись за веревки, другие за основание перекладины, и она пошла вверх. Вернее, поплыла, и словно бы сама по себе. Теперь я смотрел только на тело Клавдия, оно уже не казалось мне мертвым. Более того, в нем даже была какая-то красота. Оно поднималось все выше и выше, и я, поднимая вслед за ним взгляд, увидел облака – особенно белые и особенно пышные. И тело поднималось к облакам медленно, но неуклонно. И, лишь достигнув их, оно остановилось. Нет, не остановилось, а стало парить, недвижимо зависая где-то в самой высокой точке.
И, не отдавая себе отчета, что я делаю и зачем, я медленно, не отрывая взгляда от парящего в небесах тела, пошел к перекладине. По мере приближения голова моя закидывалась все выше и выше, так что заломило в затылке и что-то хрустнуло в основании шеи. Когда я услышал и почувствовал хруст, я остановился и только тогда опустил взгляд.
Я увидел, что все стоящие вокруг командиры смотрят на парящее над ними тело, запрокинув головы. Они были так сосредоточены, что не заметили, как я подошел. И Туллий, оказавшийся рядом со мной, ничего не замечал вокруг и смотрел вверх, раскрыв рот. Я никогда бы не подумал, что его лицо может выражать такой мистический восторг, но сейчас оно его выражало. Оно даже показалось мне красивым, я не ощутил ни гнева, ни раздражения, но, напротив, мне хотелось протянуть руку и положить ее на плечо Туллия по-братски, с любовью.
Я уже развернулся в его сторону, но тут мой взгляд как бы сам по себе потянулся к телу Клавдия и, достигнув его, остановился.
– Он жив, – пробормотал я, – он не может быть мертвым. Он умер за наши грехи. За наше бесчестье, за наши алчность и злобу. Нет, он не умер, он не может умереть.
Проговорив это, я понял, что если сейчас же не узнаю, жив он или мертв, то сам не смогу жить.
– Туллий! – позвал я. – Ты слышишь меня?
Мне пришлось повторить, пока он сумел повернуться ко мне. Он смотрел на меня не понимая; кажется, он не видел меня вовсе.
– Туллий, ты слышишь меня?
Он не слышал. Тогда я, совершив усилие над собой, поднял руку и тронул его за плечо раз и другой. Только несколько мгновений спустя лицо его приняло наконец осмысленное выражение, и он сказал:
– Да.
– Туллий! Клавдий не может умереть, потому что он страдал за нас.
– Да, – снова сказал Туллий.
– Ты понимаешь, он жив, он не может умереть. Ты должен сделать это.
– Да, – сказал Туллий, кивнув, и только потом спросил: – Что?
– Нужно проверить. Я знаю, что он не умер.
– Как? – На лице Туллия выразился испуг.
И тут я что-то вспомнил, еще сам не зная что. Я не знал, что вспомнил, но знал, что нужно сделать.
– Копье, – сказал я. – Нужно попробовать его копьем.
Туллий уже пришел в себя окончательно.
– Да, император, – кивнул он и отошел.
Не могу сказать, сколько он отсутствовал, но мне показалось, что очень долго. Вернулся, держа в руке копье.
– Делай, – сказал я и, подняв руку, указал пальцем на парящее над нами тело Клавдия.
Он снова кивнул и, медленно подняв копье, сначала поднес острие к груди висевшего над нами и только потом резко ткнул его в грудь. Тело не дернулось. Туллий ткнул еще раз, но результат был тем же. Этот второй удар решил все. Я почувствовал жжение в затылке, и солнце ослепило меня, хотя я стоял к нему спиной. Я понял, что Клавдий мертв, и, глядя на теперь уже окончательно мертвое тело, я вспомнил мальчика, которого приказал распять после того, как мы с Макроном задушили Тиберия.
Тогда тоже было солнце, слепившее глаза, и я приказал солдату добить копьем мальчика, потому что от солнечного света болели глаза, а смотреть на распятого, но еще живого, было невыносимо, а отойти я не мог. Сейчас я не мог вспомнить лица мальчика, но отчего-то было необходимо его вспомнить. Я подумал, что если подниму голову и посмотрю на Клавдия, то обязательно вспомню. Но взгляд мой, дернувшись вверх, остановился на полпути. Я испугался, дрожь пронизала все мое тело, и я невольно отступил назад. Я понял, что Клавдий похож на того мальчика, удивительно и невероятно похож. Более того, он и был тем мальчиком, только повзрослевшим за эти годы. Значит, он не умер тогда, когда мы с Макроном убили Тиберия, а умер сейчас, когда…
Я был так испуган, что непонятно было, как я еще жив. Выходило, что мальчик не умер, а ждал… ждал моей смерти. Она уже где-то здесь, совсем рядом, но я не вижу ее, потому что солнце слепит глаза. Я медленно развернулся, но ничего не увидел, перед глазами была лишь белая пелена.
И вдруг посреди этой пелены я увидел… Сначала это было только мутное пятно. Оно приближалось, принимая очертания человека. Только очертания, и больше ничего. Я скорее почувствовал, чем понял, что это и есть смерть и что она неотвратимо приближается. Нужно было бежать, но я не мог не только бежать, но и просто шевелиться. Значит, от смерти никуда не уйдешь, будь ты хоть император, хоть кто угодно. Я уже не чувствовал страха, его было больше, чем может почувствовать человек.
Смерть подошла совсем близко и остановилась. Я ощущал ее дыхание. («Странно, – подумал я, – что смерть дышит так же, как и человек».) И вдруг я услышал:
– Гай!
Это смерть позвала меня, но почему-то очень знакомым голосом. Я узнал его сразу, но не мог поверить, что это голос… Суллы.
– Гай, – снова позвал голос и добавил еще тише: – Император.
Почему-то именно по этому последнему «император» я понял, что это Сулла, а не смерть, и тут же увидел его. Одежда его была запыленной, а лицо усталым, с синими кругами вокруг глаз.
– Сулла! – выговорил я хрипло и бросился ему на шею.
Мы сидели в моей комнате, во дворце, я держал Суллу за руку. Сейчас мне представляется, что я не выпускал его руки несколько дней, с той самой минуты, когда он подошел ко мне у распятия.
Он много говорил все эти дни: рассказывал о поездке со всеми подробностями – в каких местах спрятаны были деньги, где сколько, называл ориентиры и приметы. Я довольно плохо слушал его, потому что после всего произошедшего был слишком слаб, но отчего-то все сказанное им запомнилось очень ясно, будто он не говорил, а записывал все это в моем сознании. Наверное, причиной было то, что я держал его за руку. Мне кажется, если бы он и вовсе ничего не произносил вслух, я все равно узнал бы и запомнил все подробности, так как, держа его за руку, я как бы слился с ним и знал все то, что знал он.
Он спросил меня:
– Скажи, Гай (теперь он снова говорил мне: «Гай» и не добавлял: «император»), ты в самом деле твердо решил уйти? Как бы там ни было, но тебя ждет трудная жизнь и ты будешь совершенно беззащитен.
– Почему же? – спросил я.
– Я вывожу это из своего теперешнего путешествия, когда я ходил без охраны, в простой одежде. Понимаешь, я увидел другую жизнь, жизнь изнутри. Не знаю, я не могу хорошо объяснить, но я ощутил, как она страшна и жестока. Видишь ли, Гай, сидя здесь, мы не понимаем этого.
– Ты прав, – отвечал я, – не понимаем. Скажу больше – никогда не поймем. И сидя здесь, и поскитавшись несколько дней, как ты. Не поймем, потому что хотим понять, а не жить. Гости никогда не поймут хозяев, пока они гости. Чтобы понять, нужно жить.
– Может быть, ты и прав, – сказал он, подумав, – но беззащитность… Ты же не можешь отрицать, что будешь там без защиты!
– Ты имеешь в виду охрану, слуг, моих гвардейцев?
– Хотя бы и гвардейцев. Хотя бы разбойники или кто другой не смогут на тебя напасть, когда ты под охраной. Никто не посмеет обидеть или унизить тебя. Кроме того, ты не знаешь той жизни и еще долго не сможешь быть в ней своим.
– Да, Сулла, своим я не стану, наверное, довольно продолжительное время. Возможно, что на это уйдут годы. Но что из того! Оставшись здесь, императором, я не протяну и нескольких месяцев. А когда убьют меня, то ведь не пощадят и тебя. Так что мы вместе с тобой обречены.
– Я не думаю о себе! – воскликнул он, посмотрев на меня с укором, и я почувствовал, что он не лукавит, и пожал ему руку, которую все еще держал в своей руке.
– Конечно, мой Сулла, – проговорил я с улыбкой, – я нисколько не сомневаюсь в твоей любви ко мне, как и в твоей преданности. Именно потому я и не хочу, чтобы тебя убили. Как ни говори, из-за меня. Но у нас с тобой, посуди сам, нет выбора. Представь себе, что оба мы больны страшной смертельной болезнью и знаем, что очень скоро непременно умрем. И вдруг приходит некто – я не знаю, бог или врач, – кто угодно – и предлагает нам изменить жизнь в обмен на выздоровление. Неужели же мы с тобой откажемся и гордо заявим, что не хотим никакой другой жизни, а желаем умереть: я – императором, ты – ближайшим другом императора? Конечно же, не откажемся и даже раздумывать не будем. Так почему же сомневаемся сейчас? Ты не хуже меня понимаешь положение вещей. Мы не спасемся, пойми, у нас нет выбора.
Так мы переговаривались довольно долго. Разговор наш делался вялым, угасал и наконец угас. Сам не знаю, зачем мы об этом говорили, потому что все уже было решено мной, и убеждать Суллу не имело ни смысла, ни резона. Конечно, лучше быть другом императора Рима, чем спутником странствующего изгнанника. Но ничьим спутником (и своим собственным тоже) я не собирался его делать, потому что ему уготована была смерть. Его смерть была залогом моей будущей жизни, но не мог же я беседовать с ним об этом. Желание умереть за императора или друга – благородное желание. И в таком желании Суллы не приходилось сомневаться. Но желание и исполнение желания есть все-таки разные вещи, хотя кажутся очень похожими. Желать умереть, пока этого не требуется, даже приятно. Но разве кто-нибудь станет утверждать, что так же приятно принять смерть! Нет, никто не станет.
Кроме того, Сулле и. не надо было знать о моих действительных планах – хотя он и не желал этого, но все равно он должен был быть уверен, что я возьму его с собой. Мне нужно было его свободное согласие. И наконец я услышал его.
– Да, Гай, – сказал Сулла со вздохом – то ли некоторого сожаления, то ли неизбежности, – я, конечно, пойду с тобой. Я все равно бы пошел. Ты мог бы не убеждать, а попросить меня об этом.
– Я понимаю, мой Сулла, – отвечал я с грустью (снова играл), – что ты пошел бы и без моих объяснений, но дело в том, что я уже не буду императором, а останусь только твоим другом, и мы будем совершенно равны.
– Ты всегда будешь для меня императором, Гай! – воскликнул он неожиданно горячо. – Я навсегда останусь твоим другом, но никогда мы не будем равны. Ты всегда будешь первым, и я горячо желаю этого.
Бедный Сулла! Если бы он знал, какую участь я ему уготовил. Но ему и не следовало этого знать, как не знает этого теленок, которого разукрашивают цветами, оглаживают, лелеют, чтобы потом принести в жертву богам.
Впрочем, я довел игру до конца: потянулся к Сулле, обнял его за шею, прижался щекой к его щеке. Я ощутил, как дрожь пробежала по всему его телу и как его слеза пробежала по моему лицу. Да, дрожь еще можно было изобразить, но заплакать мне было трудно, несмотря на весь мой актерский талант. Но его слезы заменили мое неумение: когда я отодвинулся от него, все мое лицо было мокрым. От его слез, разумеется, но он ведь не знал этого и смотрел на меня с умилением.
В тот вечер нашего общего умиления я не заговаривал с ним о моем плане, чтобы не разрушать реальностью идиллию. Но уже утром следующего дня, лишь только он вошел, сказал:
– Теперь я объясню тебе, что нам нужно сделать. И я стал объяснять ему идею празднества в честь распятого и воскресшего бога. Этим богом, разумеется, был я сам. Я должен буду показать народу, как мучается за него бог-император Гай, какие он принимает муки, чтобы Рим благоденствовал. И, прежде всего, должен показать неверность и низость преторианцев. Пусть люди поймут, кого они теряют или могут потерять.
Это что касается идейной подоплеки празднества. Что же до самого действа, то оно должно происходить следующим образом. За городом, на широкой поляне (цирк тут не подходит, потому что это не представление, а действо), будут установлены две вышки с площадками, в четыре примерно человеческих роста каждая. Позади вышек сооружается специальная подъемная мачта, которая поднимет мою скульптуру в виде распятого на перекладине. Все будет устроено таким образом, чтобы поднять скульптуру над вышками на высоту самих вышек. Под основанием вышек, в земле, выкопают глубокую и широкую яму, заполненную горючим веществом. Яма будет замаскирована так, чтобы ее не было видно. Вышки соединены галереей. Правая вышка предназначается для императора. Не для меня, а для Суллы, одетого в императорскую одежду и загримированного под меня. На площадке второй вышки будут стоять гвардейцы, командиры когорт и сам Туллий Сабон, От вышки императора будет вести к лесу глухая крытая галерея. Площадка сделана в виде клетки, как и открытая галерея, соединяющая обе вышки. Как и другая, где будут стоять гвардейцы.
Действие начнется с пения хора перед вышками и декламации чтеца. Монолог напишу я сам. В монологе будет говориться о злодействах гвардейцев, предавших императора. О том, что его власть и его жизнь, невзгоды и заботы этой жизни есть как бы перекладина, на которой он распят как последний раб. Впрочем, о злодействах гвардейцев будет сказано не сразу, а в самом конце монолога. Сначала все будет туманно, иносказательно, но в конце вещи будут названы своими именами, и гвардейцы будут обвинены открыто.
В тот момент, когда все будет сказано, позади вышек поднимется мачта со скульптурой распятого императора, то есть моей. И сразу же по крытой галерее поднимется Сулла и выйдет на площадку императорской вышки в облачении императора. После этого зажгут горючее вещество в яме. Оно разгорится не сразу. Сначала пламя высветит как бы парящего в небе императора и императора, стоящего на площадке в клетке. Это должно означать муки императора-бога, распятого и парящего над всеми, и муки императора-человека, заточенного в клетку своей власти…
Дальнейший смысл действа уже не имеет существенного значения, то есть для публики, а будет иметь смысл лишь для меня, Суллы и гвардейцев. Когда огонь станет сильнее и подожжет основание вышки, где будут стоять гвардейцы (вышка гвардейцев с деревянными опорами, тогда как вышка императора – с металлическими), у них останется лишь два выхода: либо попытаться спуститься по лестнице, по которой они поднялись на вышку, либо перебежать на площадку вышки императора и спуститься по глухой галерее. Спуститься со своей вышки они не смогут, потому что, как только в яме зажгут огонь, лестница, ведущая на их площадку, упадет. Им ничего не останется, как только перебежать на площадку императора. Когда они будут перебегать, Сулла откроет дверь клетки, запрет ее снаружи и быстро уйдет. А гвардейцы, попав на площадку императорской вышки, в самом деле окажутся в клетке. Им некуда будет деться, и они заживо сгорят. Я буду ожидать Суллу в конце галереи, и мы благополучно уйдем.
Я объяснил Сулле, что, когда он выйдет в дверь клетки, прежде чем запереть ее снаружи, он быстро снимет императорское одеяние и бросит его на площадку. После того как все окончится и гвардейцы сгорят заживо, люди обнаружат среди сгоревших тел металлические знаки императорского отличия и будут уверены, что император сгорел вместе с гвардейцами. Конечно, одного тела как бы не будет хватать, но ведь никто не станет заранее считать, сколько было гвардейцев на площадке: восемь, девять или десять. Так что смерть императора станет очевидной. Мы же с Суллой благополучно выйдем из города, переодевшись в самую простую одежду, сядем на заранее приготовленных лошадей и отправимся в Иудею, где и начнем нашу другую, новую жизнь.
Это я рассказал Сулле и спросил его, что он думает о моем замысле. Он отвечал, что все продумано великолепно и у гвардейцев не будет ни одного шанса на спасение.
Бедный Сулла! Бедный, несчастный, глупый Сулла! Он не предполагал, что и у него не будет ни одного шанса, потому что я не объяснил ему главного.
Он сможет войти на площадку императорской вышки, но не сможет покинуть ее, когда огонь начнет лизать опоры. Замок будет устроен особенным образом – открыть его изнутри невозможно. Он сгорит вместе с гвардейцами, а я в эти минуты уже буду далеко.
Я не утерпел и все-таки сказал Сулле:
– Как бы там ни было, но ты все равно побудешь императором. Не имеет значения, что ты играешь роль. Во-первых, никто этого знать не будет – все будут видеть тебя императором. Во-вторых, все мы в этой жизни играем какую-то роль. Знаешь, вспоминая себя мальчиком в военном лагере, я иногда не верю, что я настоящий император, а мне кажется, что я играю чью-то чужую роль.
Сулла не отвечал, и лицо его было грустным. Я так и не смог добиться от него: хочет ли он побыть императором или нет. Минутами мне казалось, что он понимает мой настоящий замысел и чувствует неминуемость смерти. Я стал осторожно выяснять это, обсуждая с ним подробности предстоящего. Нет, он, конечно, не догадывался. Но тогда отчего на лице его была грусть, похожая на смертную тоску?
Впрочем, какое мне до этого дело! Может быть, такая грусть есть преддверие смерти, не осознаваемое человеком!
Не могу сказать, что мне совсем не было жалко Суллу. Порой я даже думал: «Как же я буду обходиться без него! В той, в другой жизни?» Но на то она и другая жизнь, чтобы в ней не осталось никого и ничего из жизни предыдущей. Кроме того, мне не нужны были свидетели: я должен был умереть для всех. Для Суллы, при всем моем желании, нельзя было сделать исключения. Ведь нельзя предугадать, как он поведет себя, когда я перестану быть императором: мы можем поссориться, и он захочет выдать меня. В конце концов, он может просто проговориться – человек есть человек. Я, правда, тоже могу проговориться, но это совсем другое.
Итак, с Суллой все было решено, оставались Туллий Сабон и гвардейцы. Конечно, мой замысел был беспроигрышным, но это только в том случае, если гвардейцы захотят войти в клетку. Если ничего не заподозрят. А ведь они вполне могли и не пойти. Нужно было заманить их, найдя причину, по которой они захотят пойти сами. Этой причиной могли быть угроза их жизням и моя собственная смерть. Я буду один, без охраны, в железной клетке, в каких-нибудь двадцати шагах от них. Лучшего времени, чтобы расправиться со мной, им не найти. Мне нужно было убедить в этом Туллия Сабона, и я пригласил его к себе.
Мы не виделись с того самого дня, когда казнили Клавдия. Дважды Туллий просился ко мне на прием, но я отказывал.
Когда он вошел, я почувствовал в нем напряжение. Он склонился передо мной достаточно низко и почтительно, но при этом, как мне показалось, очень осторожно, будто ожидая подвоха. Мельком оглядел комнату, встал так, чтобы не быть спиной к двери.
– Ну что, мой Туллий, – проговорил я холодно и со скрытой угрозой. – Я недоволен тобой и твоими гвардейцами. Я больше не верю в их преданность и решил во всем серьезно разобраться. Кое-кого из командиров придется отослать в дальние гарнизоны. Но имей в виду, это наказание будет самым легким. Только для нерадивых. Тот же, кто окажется замешанным в заговоре против меня – хоть как-нибудь, хоть самым ничтожным образом, – будет жестоко наказан. Сегодня я назначу сенаторов, которые будут разбирать это дело. Ты понял меня, Туллий? Ты хорошо меня понял?
Да, он хорошо меня понял, его рука невольно коснулась ножен. Я подумал: знай он, что его ожидает, он немедля вытащил бы меч и убил меня на месте.
– Отвечай, я жду!
– Не понимаю, император, – сумел выдавить он, – что ты имеешь в виду.
Он хотел еще что-то добавить, но я не дал ему говорить, остановив властным жестом руки (который, должен признать, дался мне непросто):
– Я недоволен тобой и не буду скрывать этого. Если ты виновен, ты будешь наказан по закону. Если нет, то будешь отправлен в провинцию. Туда, откуда я привез тебя в Рим. Это все, можешь идти.
Туллий постоял несколько мгновений неподвижно, потом повернулся и, даже забыв поклониться, пошел к двери. Когда он был уже в двух шагах от порога, я остановил его:
– Да, забыл тебе сказать. Я назначил празднество в честь избавления от смерти, и я отложу разбирательство вашего дела до его окончания. Праздник уже назначен, и я не хочу его испортить – римский народ, в конце концов, не виноват, что у меня такие гвардейцы. Поэтому во время праздника ты и все командиры когорт будете находиться рядом со мной. Подробности тебе объяснит мой секретарь. Теперь иди!
Он смотрел на меня, и мне казалось, что он не может сдвинуться с места.
– Иди же, Туллий, я не хочу видеть тебя, – сказал я и отвернулся.
Пока я не услышал стук двери за своей спиной, я и сам не мог пошевелиться.
* * *
Кажется, я никогда не был столь деятельным. Энергии было столько, что я не успевал воплощать ее в дела. Я прежде не мог себе представить, что с таким рвением буду стремиться к собственной смерти. В каком-то смысле это были самые счастливые дни моей жизни. Ощущалось, что вся моя жизнь воплощена в этих нескольких днях. При этом я не старался их растянуть, но, напротив, старался все сделать быстрее.
Кроме собственно энергии и мысль моя работала четко (я даже думал, что если бы она работала столь четко во все время моего императорства, то обстоятельства сложились бы по-другому и мне не нужно было бы делать то, что я делал, – то есть готовить-свою смерть).
Итак, я действовал сразу по нескольким направлениям. Во-первых, пригласил архитектора, объяснил ему замысел сооружения, начертил примерный план и обсудил все детали. Приказал начать работы немедленно и закончить в наикратчайшие сроки. Архитектор был наделен чрезвычайными полномочиями, все чиновники римской городской администрации обязаны были исполнять его требования, и никто не должен был чинить ему препятствий.
Во-вторых, из Греции (где он тогда находился), был немедленно отозван в Рим любимый легион моего отца. Многих офицеров легиона я знал с детства. Пока легион находился в пути, я, не доверяя охране, сделал так, чтобы народ сам охранял меня. Был распущен слух, что против императора готовится заговор с целью его убийства и что нити заговора ведут в Иудею. Недоверие к иным народам, а тем более к евреям я использовал очень хорошо. Стали говорить, что я собрался издать законы, по которым каждый член еврейской диаспоры должен будет отчитываться перед специальной комиссией о своих доходах, и что я хочу поставить некий предел их богатству, а то, что останется сверх предела, будет роздано самым бедным горожанам поровну.
Уже через день после того, как были распущены такие слухи, у моего дворца стали собираться толпы народа, требующие покарать заговорщиков. Люди не уходили домой и ночью. Некоторые лавки богатых евреев оказались разбиты и разграблены толпой. Разумеется, среди толпы находились и мои люди, умело направлявшие народный праведный гнев. Чтобы беспорядки не вышли из-под контроля, мне пришлось выйти на площадь перед дворцом и поговорить с людьми. Речь моя была довольно уклончивой, и я только намекал на грозящую мне опасность, но просил людей сохранять спокойствие и разойтись по домам.
Речь моя произвела то самое впечатление, которого я и желал. Народ не только не разошелся по домам, но, напротив, толпы перед дворцом сделались еще более многочисленными. Люди сами установили круглосуточные дежурства, по ночам жгли костры. Площадь перед дворцом стала похожа на некое подобие военного лагеря.
Этого я и добивался. В такой обстановке гвардейцы не смогли бы выступить. Так продолжалось до того времени, пока не подошел легион из Греции. Легион встал лагерем недалеко от Рима, а несколько когорт вошли в город. Прибытие легиона возбудило народ еще больше, произошло братание горожан с солдатами. Из толпы кричали, что гвардия ненадежна, а некоторые призывали даже идти к казармам преторианцев и расправиться с ними.
Такого энтузиазма я никак не ожидал, и кровавая резня мне сейчас была ни к чему, потому что в этом случае всегда неизвестно, как она в конце концов отразится на моей персоне – кто может сказать с уверенностью, в какое русло войдет так называемый праведный гнев? Пришлось снова выходить и разговаривать с народом.








