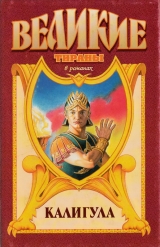
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
Мне почудилось, что я люблю его. Сначала почудилось, а потом сделалось явью. Самое настоящее чувство любви ощутил я в себе. Он пил яд из моих рук, а я любил его. Я не был спасителем римского народа, я не был убийцей императора, я не был богом – я стал сыном Тиберия. Не знаю, не могу объяснить: когда он, отставив чашу, взял мою руку в свои ладони, я сполз с ложа и встал на колени.
– Я люблю тебя, – сказал я ему. И увидел, как слизкая поволока исчезает из его глаз, они теплеют, делаются живыми, они смотрят на меня по-настоящему отеческим взглядом:
– И я люблю тебя, Гай.
Сказал и покачал головой. Скорбно. Я уверен, что скорбно. Я не хочу об этом думать и не хочу этого вспоминать, но он покачал головой скорбно.
– Завтра я жду тебя снова, – едва слышно проговорил он, – а теперь идите.
Я поднялся с колен, Макрон уже стоял рядом. Мы повернулись и вышли. Идущий рядом Макрон был мне ненавистен. На его глазах императору дали яд, а он промолчал. И он шел со мной плечом к плечу, будто я в самом деле был сыном императора и в самом деле любил его. Flo, впрочем, я и был сыном, и любил.
Когда Энния упомянула о «горечи», я ударил ее. И ушел к себе и велел никого не допускать и занавесить окна. Оставшись один, я ощутил, что умираю и что умер уже. Так просто я отколупнул ногтем воск с горлышка, так просто всыпал яд в чашу. Все сделалось просто и легко, и императорский венок уже ощущался на моей голове. Откуда же эта любовь и теплота в глазах: я умер и никогда теперь не воскресну. Я катался по полу и грыз свои руки до крови, как дикий зверь. Макрон, Энния, моя бабка Антония – они, а не мой отец, Германик, олицетворяли Рим. И у Германика, если покопаться внимательно, достанет и похоти, и богатства, и жестокости. Война ведь не что иное, как жестокость, какою бы доблестью, смелостью, патриотизмом ее бы ни прикрывали. Не я это придумал – величие Рима стояло на этом. На разврате, похоти, на стремлении к власти. На самом изощренном умении пользоваться ею. Все эти благородные устремления, так воспеваемые нашими поэтами, есть устремления ради власти. А власть – это «делаю, что хочу». А чего можешь ты хотеть, добившись власти? Женщин, мальчиков, вина. И опять: женщин, мальчиков…
Да, я бог или думаю, что бог. Но я бог не воплощенный, только и единственно сам в себе. Власть императора. И следующая – власть бога. Без этой последней ступени, императорской власти, мне не обойтись. Ногтем отколупнуть воск с горлышка. Всего лишь несколько раз, и я император. Но любовь… Кто же мог знать, что и во мне тоже живет эта зараза? Противная императорскому трону, императорской власти, противная Риму. Я сам разрушусь от любви, и никогда не быть мне ни императором, ни богом.
Я думал, что никогда не успокоюсь – любовь изъест меня изнутри и на мое мертвое тело страшно будет смотреть.
Поздно ночью Энния сама явилась ко мне.
– Я не сержусь на тебя, – сказала она, – сделать первый шаг всегда трудно. Но ты сделал его.
Она увидела кровь на моих руках и стала целовать их. Не из сострадания ко мне, но возбуждаясь видом крови. И я вдруг почувствовал возбуждение: ту самую, в чистом виде похоть, которую в последнее время уже перестал ощущать. Мелькнуло в голове: «Еще не умер». Мелькнуло и прошло. Я набросился на Эннию.
Я кричал, я почти что рвал ее тело. Самые мерзкие, самые циничные ругательства изрыгал мой рот. Сам не знаю, почему я не растерзал ее. Когда мы обессиленные лежали рядом, я чувствовал, как мелко дрожит ее рука. Впервые за все время таких наших сражений Энния сделалась по-настоящему поверженным воином. Случись здесь поэт, он бы, конечно, высокопарно воспел ее крайнюю благородную усталость. От любви.
– Гай, мне никогда не было так хорошо, – едва слышно прошептала она.
Я промолчал, не хватило сил ответить. Во мне уже не было ненависти к ней. Как, впрочем, и желания. Но я чувствовал, как опустошенный сосуд моего вожделения пусть по капле, но непрерывно наполняется снова. Этим сосудом был я сам.
Я ходил к императору каждый день. И каждый день уже привычным движением сколупывал воск с горлышка кувшина. Тиберий пил яд, поданный мной как лекарство, прописанное врачом: медленно, с пониманием, до дна. То, что проявилось во мне тогда, в первый раз, к Тиберию, больше не проявлялось. Когда он брал мою руку в свои ладони или обнимал меня, мне делалось так плохо, так хотелось отбросить его и уйти, что я едва сдерживался.
А он все не умирал. Говорил о своих недомоганиях, но он и прежде о них говорил так же. Вроде того, что старость тяжка, а императорская старость ничем не лучше. Однажды сказал, что было бы даже неплохо, если бы ему помогли умереть. Макрон напрягся, а я спросил, что он имеет в виду.
– Все равно что, – ответил он, – яд или меч. С ядом легче, но это если медленно и долго. И это только в том случае, если сам ничего не знаешь. А если узнаешь вдруг, пусть и в самом конце, когда захрипишь, то страшнее этого ничего нет. Меч страшнее, если только его при тебе вытаскивают из ножен. А если за спиной и умелым ударом, то ничего ни понять не успеешь, ни почувствовать.
Мне бы промолчать или, сделав страшные глаза, вскричать: «Кто посмеет покуситься на жизнь императора, отца отечества?» Но я не сделал ни того, ни другого… Если бы в этот промежуток времени между его речью и моей Макрон хотя бы тронул меня за плечо, я бы во всем признался. Не могу объяснить, но знаю это с точностью. Но время протекло в молчании и бездействии, и я сказал императору:
– Позволь узнать, отец (я впервые назвал его отцом), ты это говоришь просто так или подозреваешь? Или знаешь? И чего бы ты хотел больше: чтобы тебя отравил или убил враг или самый близкий тебе, любящий тебя?
Император посмотрел на меня в упор, и слизь снова ушла из его глаз: они смотрели холодно, жестоко – это был взгляд императора. Не той развалины, которая только что сидела передо мной, но человека, правящего миром. Но взгляд такой продолжался всего несколько мгновений и тут же потух. А голос, когда он заговорил, был слабым и усталым. Он сказал:
– Я бы хотел жить всегда и никогда не умирать, хотя и не знаю, для чего это человеку. Я казнил бы тебя за эти слова, если бы мог. Если бы это удлинило мою здоровую жизнь. А удлинять жизнь больную не имеет смысла. И тяжело. Когда к тебе придет смерть, вспомни, что я не убил тебя. Тебе будет безразлично, от моей ли руки ты умираешь или смерть убивает тебя годы спустя, так что казнь просто откладывается. – Он сказал это и отпустил нас. Мы ушли.
Я не боялся его слов, не боялся его самого. Больше всего жалел, что не ответил: «Я бессмертен или буду бессмертен». Но хорошо, что не сказал. Не потому, что опасно, хотя и опасно тоже, а потому, что он мог нехорошо улыбнуться на мои слова. Или ответить самое страшное, что только можно было мне сказать. Ответить: «Все так предполагают».
Сулла сказал мне, что моя сестра, Друзилла, с мужем прибыли сегодня на остров. Не скажу, как это обрадовало меня. Я сделался сам не свой. Послал Суллу предупредить Друзиллу о встрече, а сам стал ходить из угла в угол по комнате, не в силах оставаться на месте. Не заметил, как вошла Энния. Когда она заговорила, меня передернуло от внезапности ее голоса. Я никогда не видел ее такой, лицо ее было гневным.
– Макрон мне все рассказал, – сказала она шепотом, но все равно как если бы кричала, – Ты, наверное, задумал погубить нас всех. Предупреждаю тебя, я не буду ждать, когда за мной придут. Я сама пойду к императору и все ему расскажу.
– Тогда мы будем висеть на соседних перекладинах, – ответил я ей.
– Это ты будешь висеть, и это тебя будут клевать птицы. – Лицо ее исказилось до болезненной гримасы, она хотела еще что-то сказать, но не смогла, опустилась на пол и вдруг заплакала. Я не ожидал от нее такого и стоял перед ней в растерянности.
Она плакала не таясь, открыто, громко, и я боялся, что услышат слуги. Я не мог переступить через нее и уйти, хотя меня, наверное, уже давно ждала Друзилла. Опять то прежнее, ненавистное – любовь, жалость – проявилось во мне. Хотел идти, но не мог. Заставлял себя уйти, но не мог заставить. Опустился на пол рядом с ней, притянул к себе ее голову. Она долго плакала; моя туника от шеи до пояса вымокла от ее слез. Я не забыл о Друзилле, но не в силах был оставить Эннию. Так просто, такой неожиданной слабостью она подавила мою волю. Я уже не мог принадлежать самому себе. Я поднял ее и отнес на постель. Он уже не плакала, но, обняв мою шею и уткнув лицо в грудь, лежала молча.
Я чувствовал нежность к ней. Я сознавал, что это проклятая, мерзкая нежность, что это болезнь. Но ни избавиться, ни хотя бы только чуть утишить ее я не мог. Так мы пролежали, наверное, полночи. Она лежала недвижно, но не спала. И я не мог уснуть. К тому же ее тело стесняло мое, и трудно было дышать. Но я не шевелился, мне было жалко ее, и я не смел. Потом она высвободила руки, стала гладить мое лицо, говорить какие-то ласковые – я ни одно не расслышал внятно – незнакомые мне слова, трогать губами мои губы, руки. Я почувствовал желание, но нежность и жалость не уходили. И когда желание достигло вершины, я слился с ней. А она со мной. Не взял ее, но именно слился. Я утверждаю и настаиваю на этом.
Когда это закончилось, я был так расслаблен, как никогда раньше. Мне ничего не хотелось, только лежать рядом с ней, чувствовать ее голову у себя на груди, и все, больше я ничего не желал. О нежности как о болезни я уже не думал. Я не видел ее лица в темноте, но знал, что это уже другая Энния, и даже не Энния вовсе. Я не видел ее лица, и оно было прекрасно.
Утром мне сделалось тревожно. Чем больше высветлялось окно, тем более тревожно мне делалось. Когда тревога достигла своей вершины, я резко поднялся на постели: оглянулся на Эннию, она открыла глаза. Не было никакой другой Эннии, а была Энния прежняя, «жена императора», яд, Макрон, притоны, крики, похожие на предсмертные, мерзкая брань, послушно повторяемая мной. Глядя на нее, я еще больше уверился, что любовь – один только обман. Мне снова захотелось ударить ее, ударить, отбросить далеко от себя, уничтожить и никогда больше не видеть. Но этого желал Гай-император, Гай-бог. Но желание не воплотилось, потому что существовал еще один Гай – Гай-царедворец. Он не был выше первых двух, но сейчас он вел за собой настоящего Гая. Так явно в себе самом я никогда не ощущал царедворца. Я отдал себя ему, и все оказалось простым и легким. Я улыбнулся Эннии. Той самой улыбкой любви. Нежно обнял ее и дотронулся губами до ее плеч. Она тоже нежно прижалась ко мне. Та ли это была Энния или другая, мне стало безразлично. Царедворец не может и не должен быть естественным, он всегда играет свою игру. Мы нежно простились с ней до вечера. Она спросила, люблю ли я ее. Я ответил:
– Очень.
Сулла сказал мне, словно бы не прошло времени с Эннией, что Друзилла ждет меня в кипарисовой роще у моря. Когда я подходил, то вспомнил, что он не объяснил где. Но я тут же увидел ее: она ждала меня именно с той стороны рощи, откуда я подходил. Я уже видел ее, но она еще не видела меня. Я остановился и смотрел на нее молча и неподвижно. Опять явно и внезапно то самое чувство, что называют любовью, и то самое чувство, что называют нежностью, возникли во мне. Если бы я хотя бы за мгновение знал, что они возникнут, я, может быть, успел бы отвернуться и бежать. Я и теперь знал, что нужно бежать, но уже не мог. Я чувствовал, что нужно бежать, но внутри меня проговорилось: «Сестра». Это «сестра» не было определением наших родственных отношений. Это было выше родственности, выше любви, выше всего того, что я только мог себе представить. Тут она повернулась в мою сторону, и наши взгляды встретились. Лишь только они коснулись друг друга, исчез Гай-император, исчез Гай-бог и не стало больше Гая-царедворца. Я чувствовал себя маленьким мальчиком, слабым и беззащитным. И единственной моей защитой, и единственным моим утешением была она, Друзилла, сестра моя. Мы бросились друг к другу я отнялись. Не было разлуки, не было ее замужества, не было тех гадостей, которые я совершил. И вообще, вокруг не было ничего: ни Тиберия, ни острова, ни Эннии, ни славы, ни власти, ни бога, а только неутолимая жалость к себе и неутоленная нежность к ней.
Я сказал, что никогда ее не покину и она всегда будет со мной. Она не отвечала, но я знал, что она ответила. Мы дошли до середины рощи и опустились на траву. Мы сидели обнявшись. Не только не желая; распустить объятия, но даже не желая просто ослабить; их. Не знаю, не могу объяснить и не хочу, но я чувствовал, что больше не могу без Друзиллы.
Мне виделся остров. Не этот, а другой – безымянный и безлюдный, о котором никто не знает, не знал и не сможет узнать никогда. Только я, она, море, деревья, животные, птицы. И нет никакого мира людей и не было никогда. Я назвал этот остров «островом любви». Всякие безумные мысли, одна за одной, рождались в моей голове. Все они были о побеге и об «острове любви».
Так мы сидели. И наступила темнота. И казалось, что солнце не взойдет больше. Нам и не нужно было солнца. Вдруг она сказала, что ей нужно идти, потому что муж станет искать ее. Я хотел сказать: «Какой муж?», но не сказал, потому что вспомнил. Луций Лонгин. Как я его ненавидел. Не его самого, с чертами его лица и телом, с особенностями его голоса и движений. Но я ненавидел мужа. Ненависть моя была слепа и яростна. Все мужья всех женщин назывались луциями лонгинами, и всех их я ненавидел.
Но это нам только кажется, что мы полностью уходим в любовь. Мир людей, на какой бы остров мы ни уплывали, все равно окружает нас. Только смерть избавляет от этого мира. Я бы примирился со смертью, если бы она не избавляла и от любви.
Я сказал Друзилле, что в самом деле ей пора идти и я провожу ее. Мы вышли из рощи. Она ушла не оборачиваясь и исчезла в темноте. Я остался один. Хотелось упасть на землю и плакать. Лежать так и никогда не подниматься.
Я не вернулся домой, мне не хотелось встречаться с Эннией. Я долго бродил по песчаному пляжу туда и обратно и думал, думал. Мир не отпускает меня и никогда не отпустит, даже если я сделаюсь императором. В большей степени не отпустит, когда я буду императором. Но когда я буду богом и когда обрету бессмертие… Мне не хотелось думать, потому что никто не обещал бессмертия для Друзиллы. Потому что мое бессмертие уже не имело смысла.
Но я заставлял себя думать: моя мысль была одновременно изворотлива и проста. Если бессмертие не имеет смысла, то смысл остается только во времени жизни. Не собственно моей, но того отрезка, который мы можем прожить вместе с Друзиллой. Кто уйдет первым, не имеет значения, потому что оставшийся жить и при жизни все равно будет мертвым. Но жизнь коротка, а отрезок жизни с любимой еще короче, потому что он только составная этой жизни. И сейчас, когда я думаю об этом, он с каждым мгновением делается все короче. Значит, чем скорее мы станем жить вместе, тем больше мы вместе проживем. Есть другие земли, но нет «острова любви» на земле. Значит, мы просто должны вырвать у мира этот остров. Власть, единственно только власть может дать мне Друзиллу. Нечего медлить, нужно получить ее как можно быстрее.
Я каждый день давал Тиберию яд, но никаких признаков приближающейся смерти не было видно. Он оказывал мне все больше внимания и говорил, что по-отцовски любит меня. Мне казалось, что он издевается надо мной. Тем более что время от времени он говорил о ноже и яде, которые могут окончить его жизнь. И еще он добавлял, что с удовольствием сам бы всыпал яд врагу. Не заставил бы выпить, но дал бы тайно, с риском, а после смерти врага с самой настоящей болью в душе плакал бы над его могилой.
– Знаешь, Гай, когда так убивают, то убийца и жертва скрепляются больше, чем мы можем себе представить. Они не могут жить друг без друга. Убийца постоянно вспоминает жертву и даже тоскует о ней. А жертва в своем подземельном царстве тоже тоскует, зовет и ждет убийцу. Так что память убийцы – это зов мертвого, который не только зовет, но и тянет его к себе, убыстряет приход смерти, их обоюдное воссоединение.
Он дотрагивался рукой до моего плеча и разражался долгим хохотом. Тело его тряслось, он начинал задыхаться, болезненный клекот вырывался из его горла. Казалось, что в каждую следующую минуту его хватит удар. Я не мог заставить себя улыбаться и оцепенело смотрел на него. Мне вдруг подумалось, что это не я, а он каждодневно подсыпает мне яд, и что еще день или два – и все мое тело пойдет красными пятнами, а горло перехватит удушье, и из меня исторгнется такой же клекот, как из Тиберия теперь. Только мой будет по-настоящему предсмертным.
Я сказал Сулле, что мне нужна большая порция яда, самого сильного, который только можно достать. Он принес мне кувшинчик, больший, чем те, что использовал я, но ненамного.
– Сколько времени, полдня? – спросил я его.
– Четверть послеобеденного сна, – ответил он и низко мне поклонился. Особенно низко и особенно подобострастно.
– Ты смеешься надо мной? – спросил я.
– Не смеюсь, – сказал он тихо. – Я кланяюсь императору.
– Убийце, – сказал я.
– Императору, – твердо повторил он.
Я не мог без Друзиллы, но я не хотел ее видеть, пока не исполню задуманное. Следующую ночь я спал с Эннией. Говорил ей ласковые слова и нежно обнимал. Я был спокоен. Не равнодушен, но как-то особенно торжественно спокоен. Мой план уже начал воплощаться. Для его воплощения спокойствие было необходимо прежде всего. Я не беспокоился, но ждал. Обнимал Эннию, говорил ей ласковые слова и ждал.
Наконец из-за двери раздался голос слуги:
– Макрон уже в доме, господин.
– Что он сказал? – тревожно спросила Энния.
– Он сказал, что Макрон с нами, – ответил я.
Она почти оттолкнула меня и села на постели. Я
знал, что она не успеет ничего сделать, и лежал спокойно. Дверь отворилась, и в сопровождении двух слуг, несших светильники, вошел Макрон. Ритмичный звук его шагов особенно четко звучал в комнате. Так, как если бы он не в спальню входил, а участвовал в триумфе [11]11
…участвовал в триумфе (от лат. triumphus). – Торжественное вступление в столицу Рима полководца-победителя с войском. Процессия двигалась торжественным маршем от Марсова поля на Капитолий. Триумф устраивался лишь по решению сената и являлся высшей наградой полководцу.
[Закрыть]. Моем или Тиберия, не имело значения. Свет за его спиной растекался в пространстве, казалось, что он исходит от него самого. Лицо его было гневным. Слуги поставили светильники и вышли. Мы остались втроем. Я продолжал лежать, Макрон стоял в центре комнаты, недалеко от постели. Энния отбежала к противоположной стене, наименее освещенной. Одеться она не успела и только прикрывала наготу скомканной столой [12]12
…прикрывала наготу скомканной столой. – Столой называли нижнюю женскую одежду знатных римских дам из тонкого полотна, которая напоминала греческий хитон.
[Закрыть]. Макрон дотронулся пальцами до рукояти клинка, висевшего на поясе, но рукояти не сжал, а отвел руку. Повернул голову и посмотрел на меня. Вряд ли он представлял меня теперь своим боевым соратником. Я медленно поднялся и сел на постели. Торс мой был обнажен. Пауза была долгой, кажется, слишком долгой. Но я заговорил только тогда, когда он понял или хоть как-нибудь ощутил, что я буду говорить о другом.
– Необходимо, Макрон, – заговорил я, – завтра поставить в охране Тиберия самых надежных людей Самых надежных. Которые умрут не за государство, не за императора, но единственно за своего командира. У такого командира, как Макрон, должны быть преданные солдаты.
Я смотрел на Макрона и не видел Эннии. Но я ощущал дрожь ее тела. А лицо самого Макрона сделалось бледным. Даже в неярком пламени светильников это было хорошо заметно. Потом оно пошло красными пятнами. Так, как будто Макрон принял сильную дозу яда. Я смотрел на него и ждал, когда он схватится руками за горло и упадет навзничь. Мне совсем не нужно было, чтобы он упал, но я смотрел на него и хотел этого. Выдержав паузу, он должен был понять, что ответить ему нечем и нечего.
Я тихо проговорил:
– А теперь иди, Макрон. Завтра мы вместе обедаем: у императора. Никто не должен потревожить нас. Во всяком случае, до поздней ночи.
Он медленно повернулся и вышел, звука его шагов не было слышно. Только один раз, у самой двери, подошва шаркнула по полу, как если бы он оступился.
Я встал, подошел к Эннии, взял за плечи и отвел на постель. Плечи ее были холодны, а скомканную одежду она прижимала к груди. Ночью она не ушла от меня и утром осталась в моем доме. Смотрела на меня испуганно и настороженно.
В этот раз обед у Тиберия проходил не как обычно. Кроме нас с Макроном присутствовал еще мальчик-вольноотпущенник. Больше девичье, чем детское лицо. Когда он смотрел на императора, взгляд его был одновременно и как будто преданный, и загнанный. Я представил себе, как Тиберий ласкает его своими жирными руками, как целует своим провалившимся морщинистым ртом, а губы его холодны, дряблы и скользки. Когда я представил себе это, мне сделалось противно и совсем не жаль стало мальчика: красота его – а он действительно был красив – была осквернена прикосновениями Тиберия.
Я оставался спокоен, но ждать было нечего. Я вытащил кувшинчик с ядом и потянулся к чаше Тиберия. Мальчик хотел подвинуть ее к себе, но я оттолкнул его руку. Тиберий смотрел на меня молча, и глаза его были широко раскрыты. Я всыпал яд в чашу и налил вина. Я был спокоен, знал, что Макрон будет сидеть окаменев. Но все-таки… но все-таки же существует меч и рука, и она сама по себе может выхватить меч и ударить меня в спину. Тут и крепкой мужской руки не нужно – любой мальчик или женщина справятся с этим. Так что на спине, между лопатками, было место, которое оставалось неспокойным. Хотелось выгнуть руку и дотронуться до этого места, но невозможно казалось отвлечься и невозможно было показать даже самую малую неуверенность.
– Пей, – сказал я Тиберию и добавил: – Отец мой.
Тиберий не отвечал, молча смотрел на меня, глаза его, казалось, готовы были выкатиться из орбит. Все они трое – император, Макрон и мальчик – сидели окаменев. И я постепенно каменел. В самом физическом смысле, потому что спину я уже почти не чувствовал. Я еще ближе придвинул чашу к Тиберию и тихо сказал:
– Пей.
Мне все труднее было произносить слова и все труднее двигаться. Еще я ощущал собственную свою смерть совсем рядом. Никогда еще она так близко не подходила ко мне. Еще несколько мгновений промедления, и я уже не смогу ничего предпринять.
Тяжелым усилием я заставил себя податься назад, отвести руку за спину и дотянуться до Макрона. Я коснулся его колена, потом бедра и только с третьей попытки нащупал то, что искал: рукоять меча. Я крепко обхватил ее пальцами и потянул на себя. С первого раза меч не поддался. Я потянул еще раз и тут же почувствовал, что Макрон помог мне, подержал ножны. Меч выскользнул из ножен, и я, обведя его полукругом, направил острие в грудь императора. Я не мог выговорить ни слова и только указал глазами на чашу. Не могу сказать, сумел бы я ударить его или нет. Возможно, что на это у меня уже просто не хватило бы сил.
Но император помог мне – или скорее себе, не знаю. Когда он потянулся к чаше, рука его не дрожала. Это было странно, тем более что он тяжело и шумно дышал. Я не в силах был отвести острие меча от его груди, и он провел чашу под лезвием, стараясь не задеть его, поднял к лицу и припал губами к краю. Спазмы душили его, и он пил через силу. Больше всего я страшился того, что он уронит чашу. Не бросит, но именно уронит во время одной из спазм.
Он выпил до дна, но все не отпускал чаши и все продолжал делать глотательные движения, кадык его ходил вверх и вниз неровно и напряженно. Наконец чаша выпала из его рук и он повалился навзничь. Удобно упал, головой на подушку. Багровые пятна выступили на его лице и тут же заполнили его целиком: оно сделалось одним багровым пятном. Он уже не задыхался, он просто хрипел. Мальчик держал его вздрагивающую руку и неподвижно смотрел на его лицо. Ждали все, не один только я, но он все хрипел и хрипел, и казалось, этому не будет конца. Меч был в моих руках, и рука вдруг дрогнула и пошла вперед, чтобы поразить его грудь; пошла сама, без моего ведома, помогая мне. Я подумал: пусть сбудется его собственное предсказание о мече и яде. Но я, еще не вполне окаменев, сумел отвести руку. Пальцы разжались, и меч упал на ковер возле его ложа. Я почувствовал облегчение, мне нельзя было проливать кровь императора. Священную кровь. И невозможно было становиться настоящим убийцей.
Силы уходили из меня, и я сумел встать только на колени. И так же, на коленях, сделал несколько коротких шагов к его изголовью. Правильнее – подполз. Его лицо было совсем близко от моего лица, а его хрипение сделалось таким громким, что я почти оглох. Правда, я уже не слышал ничего вокруг. Ничего, хотя вокруг стояла полная тишина и царило всеобщее окаменение.
Все остальное я делал, уже плохо понимая, что делаю. Просто мне необходимо было защититься от его хрипа. Я выдернул подушку из-под его головы и накрыл ею лицо. И навалился всем телом. Я плохо ощущал себя, сознание мое было затуманено, и, наверное, я так мог пролежать на нем сколько угодно времени. Хрипов больше не слышалось, и Тиберия больше не было передо мной. Но не было и меня.
И тут закричал мальчик. Громко, хрипло, как если бы кричал не мальчик, а старик. В единое мгновение я избавился от оцепенения, разум мой сделался свеж, а силы вернулись в тело. Обернувшись не к мальчику, а только на его крик, я протянул руку и зажал ему рот. Его голова была столь маленькой, что я свободно удерживал ее рукой. И сдавливал, смыкал пальцы, пока не услышал слабый стон. Тогда я разжал пальцы и оттолкнул его лицо от себя.
– Макрон, – сказал я.
И Макрон ответил:
– Да.
– Распни его.
И он опять сказал:
– Да.
Он схватил его – я не видел, а слышал только звуки – и за моей спиной потащил к выходу.
Мы остались одни: я и лежавший передо мной император. Я не в силах был сдернуть подушку с его лица, но я и так хорошо видел его. Скорбное, усталое, но и величественное. На нем не было следов ни болезни, ни смерти. Он лежал – император, отец нации, повелитель и защитник римского народа. Я сидел перед ним, слезы текли по моим щекам, и я не останавливал слез. Так я просидел до самого утра, и никто не потревожил меня.
Потом я встал и вышел, солдаты у дверей вытянулись и отсалютовали мне. Подошел Макрон. Я сказал:
– Император умер, прикажи сделать все необходимое.
Он поклонился. Я постоял у колонн входа.
Совсем недалеко, справа, на возвышении, я увидел перекладину. И пошел туда. Двое солдат встали при моем приближении. Я подошел совсем близко. Ноги мальчика были на уровне моего лица. Я поднял голову, он был еще жив. И смотрел на меня. Судя по всему, он плохо видел и вряд ли мог узнать меня. Но я не выдержал его взгляда и отвел глаза. Я тронул копье рядом стоявшего солдата и сказал:
– Помоги ему умереть.
Он чего-то ждал. Я думал, что он не понял, и хотел повторить, но он ждал, чтобы я посторонился. Я отошел. Он поднял копье, приставил острие к левой стороне груди мальчика и нажал. Тут же дернул его назад, приставил к ноге и вытянулся снова. Голова мальчика упала на грудь, и глаз его теперь не было видно, А красное пятно расплывалось и показалось мне особенно ярким, слепило так, что невозможно стало на негр смотреть. Все дело было в солнце, выступившем из-за горизонта, и жар его лучей я почувствовал спиной и затылком. Он был нестерпим. И только тень колонн под сводами входа, когда я достиг ее, избавила меня…








