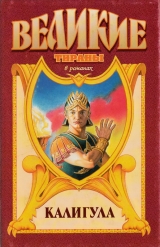
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Мне не нужно это утешение, я не хочу никому ничего
оставлять, и память в том числе. Никакой памяти обо мне не достанется никому, потому что она есть моя неотъемлемая собственность: я буду помнить, как умирают другие, не только люди, но и народы, но и города. Все будет проходить перед моими глазами, только я буду на самой вершине и останусь недвижим.
А эта толпа смертных должна увидеть, что я бог, узнать, что я бог, и – знать. Она сама этим своим незыблемым, естественным, самым природным знанием должна отделить меня от себя. Не так, как отделяют раба от свободного, чужестранца от римского гражданина, плебея от патриция, а патриция от императора. И не так, как отделяют умного от глупого, красивого от безобразного, и не так, как мужчину от женщины. Она отделит меня так, как видимое и понимаемое от того, что неподвластно ни уму, ни зрению. Страх и преклонение – вот следствие такого отделения.
Они узнают, я должен поразить их. Поразив их, я поражу и себя. Я сделаю невозможное, потому что только боги могут сделать это.
Они не знают бога, потому что не видели земного его воплощения, не боятся богов, потому что они далеко – так далеко, что будто бы их и нет совсем. Гроза, ливни, землетрясения, оползни – разве это боги, это только далекое отражение их!
Если обваливается мост и люди говорят, что Юпитер ударил в него молнией в наказание людям, то это не страшит. Не так страшит, как если бы Юпитер сначала предупредил, что ударит, потом некоторое время держал в страхе наказания и только потом, если преступления людей переполнили чашу терпения, совершил обещанный удар. Непредупрежденное наказание теряет половину своей силы. А еще больше теряется сила страха людей. Те, что упали вместе с мостом и приняли смерть, – им все безразлично. У тех, что остались жить и даже видели смерть других, большую часть места, где должен обитать страх, занимает радость: «Не я – другие». И в следующий раз, когда боги сотрясут землю и стены домов повалятся на людей, будет то же самое: мертвым – смерть и ничто, живым – радость избавления.
Тот, кто умирает внезапно, непредупрежденным, только выигрывает, потому что не смерть страшна, а страх смерти. И чем длиннее время страха, тем он невыносимее. Не сама смерть страшна, а приговорение к ней.
Я буду приговаривать к смерти и держать народы приговоренными. И убивать время от времени, чтобы напоминать людям о неизбежности смерти.
Я убивал как император, но принимал решение убивать как бог. То есть тогда, когда мне этого желалось, а не тогда, когда человеческим разумением объяснена вина и вынесено наказание. Бог не объясняет своих поступков даже самому себе. Все, чего он хочет, есть божественное предназначение, и человеку остается повиноваться и пребывать в страхе.
Для моих божественных начинаний нужны были деньги. Я брал их в любом количестве, не спрашивая и не задумываясь о праве. У императора высокие пределы права, но у бога их нет совсем.
В течение короткого периода времени я вздыбил Рим, как норовистого коня, и не давал ему опуститься на все четыре ноги. В Байском заливе я построил мост в три тысячи шестьсот шагов. Никто до меня не осмеливался даже подумать о такой длине. Не скрою, я сам радовался постройке. Может быть, больше, чем это необходимо богу, но не мог сдержать радости. Два дня подряд я разъезжал по мосту туда и обратно, нарядившись в лучшие одежды, с лавровым венком на голове.
Впрочем, забава эта скоро мне надоела. Я не знал удержу и был горд собой. В бурном море воздвигались плотины, в кремневых утесах прорубались туннели, долины насыпями возвышались до гор, и горы сравнивались с долинами. Все это быстро, очень быстро, быстрее, чем желание успевало угаснуть во мне. Рабы гибли тысячами, но горы росли на глазах, и туннели прорубались, казалось, лишь усилием моей воли. Невиданные галеры в десять рядов весел были построены в самый короткий срок: жемчужная корма, разноцветные паруса, огромные купальни, портики, пиршественные залы. Даже виноградники. И все это на галерах. Я плавал на них, пируя под музыку и пение. Порой мне казалось, что я уплываю в небо, а римский народ остается внизу и следит за моим вознесением со страхом и поклонением, до боли вывернув шеи.
Все было так хорошо, так прекрасно и весело, что казалось – это никогда не пройдет. И еще казалось, что больше ничего не надо. Не быть богом, не быть бессмертным, а эти постройки и свершения – вот оно, счастье, и больше никакого не надо. И больше никакого не может быть… Даже связь с женщинами – надоевшее и обессмыслившееся удовольствие – вдруг стала приносить мне иные наслаждения. Не то чтобы какие-то забытые, но иные, которых я не знал никогда. Мне вдруг так неотступно захотелось, чтобы женщина любила меня. Чтобы любила совсем по-другому, чем они умеют любить. Не как императора, не как того, кто дает им жить в роскоши, и не как того, кто прилагает к ней и тратит на нее свою мужскую силу, но чтобы они любили меня больше, чем ребенка. Чтобы она знала, чувствовала, ощущала ежеминутно, что я смертен и что, если умру, она не переживет потери. О, если бы я точно знал, как должна любить женщина, я бы показал им, обучил бы их. Но я не знал, а только хотел.
Женщин вокруг было много, и все они или почти все, кроме самых некрасивых, уже спали со мной. Но того, чего я хотел от них, они мне дать не могли.
Тогда я жил на корабле – в своем огромном плавучем дворце. Кажется, я и сам не знал всех его переходов и закоулков – так их было много и так они были запутаны и переплетены. Там шла своя жизнь. И она была развратна. По ночам – а ведь меня мучила бессонница – я бродил с фонарем по этим закоулкам и переходам, и свет фонаря вырывал из тьмы совокупляющихся мужчин и женщин, мужчин и мужчин, женщин и женщин. Кажется, вся скверна мира сосредоточилась на моем корабле. На моем прекрасном, замечательном, блистающем красотой и великолепием корабле. Порой мне хотелось отдать тайный приказ капитану и тихо, медленно, бесшумно выйти в море. Потом так же тихо и бесшумно спуститься в лодку и приказать гребцам отплыть. И приказать поджечь корабль сразу со всех сторон, чтобы он вспыхнул ярко и чтобы в свете поднимающегося к небу пламени я видел бы, как эти мужчины и женщины, мужчины и мужчины, женщины и женщины бегают по переходам и лабиринтам, вопя и вздымая руки к небу, забыв друг о друге, не видя друг друга, а видя перед собой одну только собственную неотвратимую гибель. Их предсмертные крики принесут мне удовлетворение, не радость, нет, а такое удовлетворение, которое сильнее и глубже радости. Я буду знать и буду видеть, как вся скверна этого мира гибнет в огне передо мной. Впрочем, я отдаю себе отчет, что всю скверну мира невозможно собрать на одном корабле. Даже и на моем. Но если представить, что можно, что пламя сожрет ее, а море поглотит остатки, то все равно скверна не уничтожится, потому что останусь я. А уничтожиться вместе со всеми мне невозможно. Потому что скверна на то и скверна, что не только не может прийти к решению самоуничтожиться, но просто не в силах осознать себя скверной. А если придет и осознает, то это уже не скверна, чего, конечно, быть не может.
Корабль догорел передо мной, остатки потонули в море, а я смотрел на все это молча, не отрывая взгляда, и, когда снова наступила полная темнота, чувство удовлетворения ушло и сменилось если не жалостью, то досадой. Нет, не людей мне было жаль – что люди! – мне жаль было моего корабля: из-за какой-то глупой идеи уничтожения скверны уничтожить такое великолепие. Мое, родное для меня. К тому же неповторимое.
Но и не это было самым главным – уничтожение корабля, великолепия. А самым главным оказалось то, что во время бессонницы мне некуда будет пойти. Так что все эти химеры по поводу сожженного корабля остались одними химерами. И корабль мой, и все находившиеся на нем остались благополучно здравствовать и, как мне показалось, после того, что я с ними произвел в своем воображении, с еще большей энергией и свободой отдались спасительному и благотворному разврату: спасительному от тоски и благотворному от скуки.
А я, напротив, не находил себе места и так хотел любви, что даже простой, ненаправленный взгляд на женщин вокруг вызывал во мне болезненные ощущения. Такие, что мне даже трудно было притронуться руками к самому себе.
Сулла! Конечно, Сулла! Куда я без него? Теперь он был под заботливой охраной, и я велел привести его. Мы давно не виделись, и когда он вошел, его лицо показалось мне бледным.
– Мой дорогой Сулла, – сказал я. – Придется казнить тех, кого я поставил смотреть за тобой и оберегать тебя. Они плохо исполнили приказ императора, потому что лицо твое бледно, а тебе нужно быть здоровым и жизнерадостным.
– Они не виноваты, император! – отвечал Сулла. – Они очень хорошо смотрят за мной. Дело не в них, а во мне самом.
– Чего же тебе недостает, мой Сулла, и что тебя гложет?
– Император, я беспокоюсь о тебе, и нет для меня в этом мире другого беспокойства и другой нужды.
– Беспокоиться об императоре – это очень хорошо, мой Сулла, – проговорил я, совсем не желая этого говорить, а желая только одного: чтобы Сулла посмотрел на меня свободно и чтобы назвал меня «Гай».
Я чувствовал, что, если он сделает ко мне хоть шаг или если в глазах хоть как-нибудь отразится это движение, я сам, первый, брошусь ему на шею. Мне даже показалось тогда, что не нужно мне никакой любви женщины, а нужно только это – уткнуться в его плечо лицом и не отнимать лица.
Но Сулла не сделал шага, и глаза его были холодны и почтительны. «Да, император! Нет, император!» Я готов был убить его, но сдержался. И продолжал:
– Ты правильно мыслишь, и, может быть, ты лучший из подданных. Когда-нибудь римский народ осознает это и воздаст тебе. А я…
Но тут я прервался, сам не знаю почему. Тогда Сулла, словно бы не видя моего волнения и словно бы не замечая ничего, сказал:
– Думаю о том, что императору следует разочароваться в человеческом счастье, а не желать его. Император – бог, а бог равнодушен. Это не только главная привилегия бога, но и отличие его от человека.
Проклятый Сулла! Лучше бы он этого не говорил. Я уже видел, как лезвие входит в его живот и проворачивается в нем. И еще раз – снова и снова – входит и проворачивается. А лицо – то самое, о розовости которого я так пекся, – бледнеет. Не как теперь, когда он спокойно стоит передо мной, а бледнеет по-настоящему, делается белым как полотно и белее полотна. Много, много белее. Это уже не лицо, а маска. Мраморное изваяние. Да, мне самому понравилось это – мраморное изваяние моего Суллы. Оно будет стоять в моей комнате, напротив окна, и днем, при свете солнца, я буду наслаждаться его неимоверной белизной. Когда мне захочется поговорить с ним, я подойду к изваянию и намажу его щеки и лоб красной краской или даже лучше кровью (ее всегда легче добыть, и она всегда под рукой, ведь столько носителей ее вьется вокруг). Правда, наверное, ее труднее будет стереть, когда мне захочется снова убить Суллу и увидеть его лицо белее полотна.
Эта моя неожиданная фантазия продолжалась долго: я уже не видел перед собой настоящего Суллу, а видел изваяние, щеки которого я покрываю кровью. Как неожиданно и удачно явилась ко мне эта фантазия! Она успокоила меня. Более того, почти развеселила. И когда я увидел перед собой не мраморное изваяние, а настоящего Суллу – бледного, хотя и не белого как полотно, – я уже не испытывал к нему ни злобы, ни неприязни, а с некоторой даже жалостью смотрел на него. Впрочем, уткнуться лицом в его плечо мне тоже уже не хотелось.
– Что ж, Сулла, – сказал я, – я так сильно желаю человеческого счастья именно потому, что побыстрее хочу разочароваться в нем. Как можно быстрее, как можно бесповоротнее разочароваться.
Он ничего не ответил, но я и не ждал ответа. Я сказал ему, какой любви мне хочется. Очень подробно и с повторами объяснил. Сказал, что все эти женщины (и сделал руками полукруг), конечно, для такой любви не подходят. Поэтому я приказываю ему, Сулле, найти мне невинную девушку из хорошей семьи – самую невинную во всем нашем государстве. И сроку ему для поисков и доставки невинной девушки сюда я отпускаю три дня. Хорошо ли он понял, что я хочу, спросил я его.
– Да, император, – отвечал он так, словно ни срок, ни сама задача не удивили его и будто он уже знает эту девушку и давным-давно нашел ее для меня.
Он отправился, а я ждал. И снова меня охватила тоска, но теперь с еще большей силой, так что первый день с утра и до вечера мне показался длиною в целую жизнь.
Не буду рассказывать, как я не находил себе места, как возненавидел всех окружавших меня и как мне хотелось убить всякого, попадавшегося мне на глаза. Все равно – мужчину, женщину или ребенка. Но я не убил никого, то есть никого из тех, кто окружал меня. Только велел казнить ожидающих суда, да и то не всех, а только некоторых, с наиболее тяжкими обвинениями. Так что невыносимое мое состояние, несмотря на всю его невыносимость, почти не причинило никому никакого вреда. Другое дело, что видеть никого я не хотел и не мог.
Несколько раз у меня являлось желание в самом деле сжечь мой корабль. Уже не затем, чтобы уничтожить скверну этого мира, а только для того, чтобы сделать себе больнее. Для того, чтобы боль перебила тоску. Но почему-то я все никак не мог решиться и бродил, бродил ночами по палубам, втайне желая одного – как-нибудь случайно вывалиться за борт. Был Гай-император и – не стало его! И никто не знает, в подземном ли царстве Аида принимает ежесекундно он тяжкие муки или с кубком божественного нектара пирует с богами. Не то страшно, что никто не узнает, а то, что и сам я ничего знать не буду. И окажется, что нет ни царства богов, ни царства мертвых, и я не буду знать даже того, что их нет.
Бессонница совершенно измучила меня, хождение по палубам корабля стало мне противным, присутствие людей вокруг – невыносимо. Не за долгое время дня, равного жизни, пришло мне это желание, а в единое мгновение, как вспышка. Я бросился бежать и наткнулся на поручни. Внизу была вода, и луна отражалась в ней серебром. Я налег на поручни всем телом, и, если бы дерево не выдержало, я не отступился бы и полетел вниз. Но дерево оказалось крепким – мой корабль строили на совесть.
В те мгновения, когда я пытался сокрушить поручни тяжестью своего тела, во мне не было страха. То есть я совершенно не помню никаких ощущений. Скорее всего, что и не было никаких ощущений. И не я сам – Гай-император, сын Германика, брат Друзиллы – пытался лишить себя жизни, а кто-то другой, овладевший моим телом и вытеснивший меня из него. Но какой бы силой ни обладал тот, который вытеснил меня из тела и толкал его в воду, каким бы могуществом он ни обладал, тело мое имело определенный запас сил; к тому же оно было изнурено бессонницей. Но сил этих хватило ненадолго – тело мое ткнулось в перила еще раз или два, уже больше от невозможности остановиться, чем от желания все-таки сломить преграду, ткнулось еще раз или два и обмякло. Сползло на палубу и осталось лежать неподвижно. Сколько оно так пролежало, пока я смог вернуться в него, я не знаю. Но я вернулся в него раньше, чем к нему подоспели слуги, Явился врач, сделал мне кровопускание и дал какое-то питье. Я был так слаб, что не смог отказаться от его лечения, а после кровопускания и питья скорее впал в забытье, чем уснул.
Мне потом сказали, что я находился в забытьи целые сутки. Или целую жизнь, добавлю я, что одно и то же. Не знаю, что со мной такое произошло, но я смотрел на окружавших меня людей с изумлением: зачем они здесь, почему я вижу их и, главное, почему должен видеть? Вот это – почему должен видеть? – преследовало меня целую… Да, скажу прямо – целую жизнь. Люди умирали на моих глазах и рождались на моих глазах, и ничего не менялось: я их видел, видел одних и тех же. Тех же самых. Всегда.
Я больше не мог их видеть и не хотел. Жаль, что рядом со мной не было Суллы: я бы сказал ему, а он мне… Да, ведь я послал его… Жаль, но некогда было думать о Сулле, необходимо было думать о себе.
Но и думать по-настоящему я тоже не мог – так мне стало тяжело, так невыносимо. И – невыносимо хотелось бежать. Если бы кто-нибудь мог запретить мне сделать то, что я хотел. Но – никого не было. И никто не мог.
Я приказал двум легионам (все, что было у меня сейчас под рукой) готовиться немедленно. Еще я велел подать крытые носилки, задрапированные плотной, не пропускающей света материей. Я торопил, велел передать, что каждый поплатится жизнью за минутное промедление.
Как трудно заставить себя сделать решительный шаг, если первый порыв пройдет. И я торопил, торопил всех и был страшен в гневе. Но все было приготовлено быстро, так что даже мой гнев не успел дойти до высшей черты. Только четверо или пятеро были наказаны плетьми, и только один из них был забит до смерти. Я бы всех их забил до смерти, если бы можно было, и тогда не было бы необходимости бежать от них, но никто – ни человек, ни армия людей – не может истребить человечество. И боги не могут, потому что они разные и между ними нет согласия. Когда я стану богом, то прежде всего истреблю всех остальных богов. И тогда род людской только по одному моему желанию истребит сам себя. По одному моему желанию высохнут моря и реки, вымрут животные и птицы, высохнут деревья и травы, и одна только пустыня будет простираться подо мной. Но и пустыню я, наверное, захочу уничтожить. Но – там будет видно, ведь желания мои, отбросив человеческую суетность, станут божественными.
До ближайшей пустыни было всего полдня пути. Легионы двинулись туда тяжелым шагом, и я с ними – в наглухо закрытых носилках, в самом центре моих легионов. Я слышал поступь солдат, крики командиров и ржание коней, я был оглушен этим военным шумом. Я слышал его, сидя в полной темноте, и он Казался мне скорбным, словно мое прощание с миром1 людей.
Не помню, говорил ли мне Сулла, что для того, чтобы стать богом, необходимо умереть. Не помню, но, кажется, говорил. И в самом деле, человеческое бессмертие невозможно. Да и бессмысленно. Даже если стать богочеловеком и быть принятым в компанию других богов, то все равно это хотя и возможно, но бессмысленно. И дело не в ранге, который будет определен мне (пусть даже это будет самый высший ранг), а в том, что придется жить среди других богов и видеть их постоянно. Одиночество – вот настоящая суть бога и единственный смысл его божественности. Исключительность и одиночество – по сути одно и то же.
Мной были даны самые точные указания, и исполнены они были предельно точно. В самом центре пустыни разбили шатер, большой и удобный. Его задрапировали так, чтобы ни единый луч света не мог проникнуть внутрь и, одновременно, чтобы в нем легко было дышать. Все необходимое для жизни там приготовили. Когда мы достигли места, носилки внесли прямо в шатер, и меня оставили одного. Я не покидал носилок, не шевелился, замер и только чутко прислушивался. Сначала был слышен особенный шум стоящих лагерем воинов, потом до меня донеслись команды, и шум сдвинувшихся с места легионов перекрыл прежний. Он становился все глуше и глуше, пока не затих совсем. Тишина стала равной темноте. Тогда я покинул носилки, на ощупь добрался до ложа и лег.
Наконец я был один, совершенно, и только боги с небес смотрели на меня. Я приказал расставить посты по всей окружности пустыни и не пропускать внутрь никого: ни человека, ни зверя, ни птицы (хотя последнее вряд ли выполнимо).
Я лежал, то глядя в темноту шатра, то, закрыв глаза, в пространство темноты под веками. Мне хотелось быть одному, но один я не был. Дело не в том, что остальные люди оставались жить, не уничтожились, не стерлись как-нибудь с лица земли, а в том, что они знали – я есть. Это их знание обо мне нарушало мое одиночество. Более того, оно разрушало меня. И кромешная темнота внутри и вокруг не давала мне покоя. Тоска не утешилась.
Нужно было терпение – день, два, может быть, месяц, – терпение необходимо. Но откуда оно могло взяться, если у меня не хватало сил даже призывать его. Призывать (а еще не иметь) дни и ночи напролет.
Я лежал в темноте, остатками сознания призывая себя к терпению. А на самом деле всем своим существом чувствовал приближение страха. Сначала это был высокий страх: я видел, как боги смотрели на меня с небес. Смотрели, но не видели – так я был мал и столь ничтожен. Они смотрели на меня так же, как и на всех остальных людей, а остальных они замечали лишь тогда, когда скопление их в одном месте делалось наиболее значительным: бессмысленное копошение черных точек. А такую мельчайшую одинокую точку, какой был я, они видеть не могли и, главное, не хотели. Лучше не быть вообще, чем быть этой невидимой с небес точкой.
Мне хотелось вскочить и, разбежавшись, удариться головой о стену, разбить ее вдребезги, на самые мельчайшие, не замечаемые даже с высоты человеческого роста частицы. Но и этого я сделать не мог. Достаточно было вспомнить о мягких стенах шатра, которые, когда я стану биться о них, будут упруго и безболезненно отталкивать меня, играя со мной, издеваясь надо мной, презирая меня. Это присутствие мягких стен вокруг делало пространство враждебным.
Страх мучил меня, но все-таки это был страх высокого рода. Если не благородный, то все-таки по крайней мере не подлый. Но постепенно я стал бояться и темноты, хотя не мог найти в себе сил встать и выйти наружу: вдруг и там темнота и мягкие стены?
Впрочем, тот страх продолжался недолго – все, что заканчивается без последствий, кажется пролетевшим в единый миг. Другой страх незаметно вполз в меня, и я не сразу понял, что это. Я испугался того, что потерял власть. Окончательно и невозвратно. Слышал тяжелую поступь солдат и лязг доспехов, видел двери своей спальни, к которым приближались шаги и лязг. И дрожь моего тела в точности повторяла дрожание тяжелой двери. Страх, самый сильный и немыслимый страх охватил меня, и я даже не мог представить себе, что будет, когда дверь не выдержит приближающейся поступи, сорвется с петель еще до того, как рука идущего впереди солдата коснется ее. Не мог себе представить, потому что после этого уже не будет ничего. Смерть – она следствие потери власти, а не наоборот, и уже не имеет никакого значения. И мое желание бежать происходило не от страха смерти, а от ужаса перед приближающейся поступью солдат.
Я приподнялся на локтях и застыл, прислушиваясь. Это мое движение не требовало от меня усилий: ужас имеет собственные, автономные силы и распоряжается ими сам, бесконтрольно.
Если бы услышал хоть какой-нибудь звук! Хотя бы свое дыхание, которое я затаил, или стук собственного сердца, которого сейчас просто не было в груди. Если бы услышал, меня бы ничто не остановило. Возможно, я бы и не побежал, а пополз; возможно, просто совершал бы руками, ногами, всем телом бессмысленные, ненаправленные движения и оставался бы на месте. Если б хоть какой-нибудь звук! Но тишина была полной и такой своей полнотой не отпускала меня. И вынуждала меня подумать. То, что я не слышал ни единого звука, только подтверждало то, что солдаты по всей окружности стоят плотным кольцом, не пропуская внутрь ни человека, ни зверя, ни птицы. Может быть, подняв на шестах широкие полотна, они не пропускают и ветер.
Когда я отдавал такой приказ, они, исполняя его, охраняли меня и мой покой. Теперь же, делая то же самое, они держали меня в заключении.
Так просто я потерял власть. И с нею потерял все. И саму жизнь я потерял тоже. Я хотел быть богом, стать богом. До чего же смешно, до чего же унизительно и смешно: стать богом, потеряв все. И прежде всего – власть. То есть то, что мне, в конечном счете, и нужно было. Власть над всем миром, над всеми людьми, над птицами и зверями, над помыслами и желаниями, над жизнью и смертью. Эта новая власть выше прежней, но и качество и смысл одни и те же. Власть – это власть, и может розниться лишь силой – большей или меньшей. Власть как дом: более высокий или менее, лучше украшенный или хуже, но это всегда и непременно дом. Моя власть – это большой дом, а власть бога – еще больший. И разве не разумнее надстроить над моим домом еще сколько нужно этажей, хоть до самого неба, чем ломать мой дом и строить заново?
В самом деле, все выходило просто и понятно, и даже самому себе невозможно было возразить. В эту минуту я забыл о страхе. Я уже видел, как на дом моей власти надстраивается этаж за этажом, и верхние этажи, покрытые облаками, уже не видны. И я, с несказанным ощущением счастья и какой-то особенной полнотой внутри себя – жизни? воли? – я, уже готовый подняться по этажам, все не делал первого шага, продлевая и продлевая предвкушение. Оно, предвкушение, было самым сладким.
И вдруг раздался треск. Он шел сверху вниз, к основанию дома, и, дойдя до основания, не исчез, но, напротив, продолжился, становясь все громче. Я не увидел трещины в основании, но, наверное, она была под землей, в самом фундаменте. И все расширялась, расширялась, разрывая камень, как тело. Я отшатнулся, боясь посмотреть вверх, упал спиной на пол, втягивая голову в плечи, каждое следующее мгновение ожидая обрушивающихся на мою голову камней.
Скрежет продолжался, но камни все не обрушивались. Я пополз в темноте, натыкаясь на что-то, то твердое, то мягкое, но не чувствовал ни толчков, ни боли. Что-то упало за моей спиной, на мгновение заглушив треск, но тут же потонув в нем.
Так я наткнулся на стоявшие у стены носилки. Ловко, в мгновение ока я забрался внутрь и, проведя ладонью по материи, укрывавшей носилки, чуть успокоился. Не то чтобы материя, хоть и плотная, могла выдержать удары камней – не в этом дело. Но, тронув ладонью материю, я почувствовал (или подумал и почувствовал одновременно), что, может быть, никакого рушащегося здания и нет совсем, а все дело в моем страхе и моем воображении? Впрочем, я не был уверен, тем более что скрежет продолжался и источник его был где-то совсем близко от меня. Мне показалось, что звук похож на скрежет плохо смазанного колеса. Вдруг я ясно услышал, что это и было колесо. И тут же – звук шагов и лязг доспехов.
Они! Смерть приближалась ко мне. Я сжался внутри носилок и закрыл глаза.
– Император! – услышал я и, передернувшись всем телом, сжался еще сильнее. В точку. Необходимо было превратиться в точку. В ту самую, которую не могли заметить боги, смотревшие на меня с небес.
– Император! – снова услышал я и… узнал голос Суллы.
Не отозвался, ждал. Поступь солдат – шаги смерти – могла возобновиться в любое следующее мгновение. Но Сулла… Неужели и он с ними, с ней, со смертью?..
– Император! Сулла приветствует тебя/Я исполнил твое желание.
– Войди, – собрав остатки мужества, но все равно слабо, почти жалобно ответил я и добавил: – Один.
Я ждал поступи солдат, но, кроме ощущения их присутствия за стенами шатра, ничего не услышал. Ожидание было тяжелым, и не хватало сил прислушиваться к тишине. Хотелось снова крикнуть: «Сулла!» или «Войди!» или хоть что-нибудь крикнуть.
Вдруг я услышал дыхание. Совсем рядом, у самого моего уха. Услышал, непроизвольно дернул рукой – и уже не смог остановиться. Это первое случайное движение заставило двигаться каждую частицу моего тела, и, уже не помня себя, я упал с носилок, и, как теперь мне кажется, летел и летел в темноте, и потерял ощущение жизни раньше, чем достиг дна.
Самыми приятными, какими-то очень свободными были мгновения, когда я пришел в себя, но еще не открыл глаза. Было тепло, уютно и покойно, и я подумал, как хороша, оказывается, смерть и не бояться ее нужно, а призывать и стремиться к ней.
Но счастье мое оказалось обманным, потому что тут же я открыл глаза и увидел Суллу. Луч света, падавший откуда-то сбоку, делал половину его лица смертельно бледным, а половину черным. Он приблизил лицо так, что я ощутил запах его дыхания, и сказал шепотом:
– Император, я привез тебе Акту.
Я плохо понял, о чем он говорит, только то, что он привез что-то. Что? Плохие вести из Рима и мне уже пора бросаться на меч? Так будь милосерден, убей меня сейчас, сразу, пока я еще не отошел от смерти и снова не стал бояться ее.
Лицо Суллы отдалилось и слилось с темнотой, а луч света, идущий наискось, освещал пустоту. Я ждал удара меча, но равнодушно, без страха – ощущение уютности смерти еще не покинуло меня.
И тут – не знаю, как все это произошло и почему этот кусок времени выпал из моего сознания, – оказалось, что внутри шатра горит множество светильников, дневной свет исчез, поглощенный светом искусственным, а я сижу на краю ложа, а в самом центре шатра, куда будто специально сходится вся яркость света, стоит девушка. Стоит неподвижно, как статуя, и смотрит на меня не мигая, тем же неподвижным взглядом. Мы смотрели друг на друга, и я чувствовал, что и мой взгляд делается таким же неподвижным, как и ее, и сам я весь каменею. Голос Суллы откуда-то (словно отовсюду разом) произносит:
– Это Акта, император, дочь Сервилия Кантона, она будет любить тебя.
И только тут я все вспомнил. Время снова восстановило свое прерванное течение, и жизнь моей власти и моя жизнь опять стали одним целым. Конечно, ведь мне необходима самая чистая, и самая преданная, и самая бескорыстная любовь. Сервилий Кантон. Как же – благодетельный муж, живущий уединенно в своем поместье, кажется, не очень богатом. Когда-то занимал высокие должности в Риме. Какие? Не помню. Мог бы и не занимать. Мог бы и вообще не жить. Главное, что благодетельный муж. И не то главное, что благодетельный, а то, что я так думаю, я – Гай Цезарь.
Окаменение мое прошло, и я увидел, что стоявшая передо мной девушка живая. Я отставил ногу – больше пробуя, насколько владею собственным телом, чем намеренно, но получилось величественно, потому что вторая нога была чуть подогнута под себя. (Да, власть, она должна иметь формы, только ей, власти, присущие и только ей разрешенные.) Я окончательно сделался императором Гаем, и вслед за нужно поставленной ногой рука сама легла на бедро, при прямой спине почти дотянувшись до колена. Я сказал:
– Подойди, Акта.
Если бы я мог не узнавать своего голоса, я бы его не узнал. Ей бы не сразу подходить, а сначала вздрогнуть вежливо или, может быть, от толчка выраженной в голосе власти сделать короткий непроизвольный шаг назад, а то и два шага. Но она не сделала это, а послушно и как-то очень просто подошла. Недовольство шевельнулось во мне, но только едва-едва, и тут же потонуло в любопытстве. Она была тонка, совсем еще девочка, и ее шею я мог бы обхватить пальцами одной руки. И мне так захотелось обхватить и сжать пальцы, что моя рука, лежавшая на бедре, сама собой поднялась и потянулась к ней. Но дотянулась только до плеча и тронула плечо. Она вздрогнула, и я увидел, что ее кожа покрылась мурашками. Я убрал руку.








