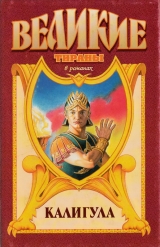
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Кажется, опять нагородил неизвестно что. Но что за беда? И разве не больше правды в том, что время нашей страсти – вечность, чем в том, что за это время солнце прошло всего две верхушки деревьев над нашими головами? Или, лучше, не вечность, а смерть, что совершенно одно и то же.
Впрочем, мы поднялись. Тем более что она сказала:
– Встань, мне больно.
Не так уж и измята была ее туника, только два пятна от земли около левого плеча. Пятна эти не были страшны – хоть бы она вся извалялась в грязи. Имело значение маленькое красное пятнышко чуть пониже бедер, между ними, по самому центру. Когда она встала, отряхиваясь, я увидел его. Оно было как пятно огня, знак еще не вырвавшегося пламени. Невырвавшегося, но вот-вот готового вырваться. И спалить всю одежду дотла, и оставить мою сестру Друзиллу, мою возлюбленную Друзиллу, оставить мою Друзиллу голой. Сначала передо мной, а потом перед всеми. Не знаю, хотел я, чтобы перед всеми или нет, но ей я ничего не сказал. И когда она шла на два шага впереди меня и солнце светило ей в лицо, то одежды на ней не было, и мне хотелось дотронуться рукой до ее гладкого бедра, но не было сил ускорить шаг и догнать.
Потом я потерял ее среди бьющего в глаза солнечного света; она потерялась в нем, как в тумане. Я не искал ее. Тогда еще я не любил. То есть нет, любовь тут ни при чем, но она еще не была для меня… не была еще для меня мной. Я ушел в самый дальний угол нашего сада, сел, уткнув лицо в колени, и просидел так до самого вечера, а возможно, что и до вечера следующего дня, потому что я слышал встревоженные голоса искавших меня домочадцев. Но я не отзывался и на их вопросы, когда я все же вышел к ним, только пожал плечами. Друзиллы среди них не было.
Нет, все было не так, как я только что описал, а просто я давно хотел Друзиллу. Две другие мои сестры, которые позже умерли, Акта и Клодия, были еще совсем детьми. Конечно, не их возраст останавливал меня, но просто ни женского, ни даже девичьего в них не было ничего. Окажись они мальчиками, тогда другое дело. Мальчик – это вид человека, а девочка – еще не человек. Не может именоваться человеком тот, кто не вызывает вожделения. Любовь, смысл любви – все это чушь, все это из породы установлений, чтобы только как-нибудь прикрыть и облагородить вожделение. Но как его ни прикрывай, оно всегда остается голым. Его можно прикрыть словами, как ширмой, но нельзя одеть.
Так вот, в один прекрасный день Друзилла из девочки превратилась в человека, и мое вожделение обратилось на нее. Я не долго раздумывал, может, только дня три или четыре, пока по-настоящему понял, чего хочу от нее.
Она не стояла у колонны, как я говорил, спиной ко мне, она была в роще. Я искал ее и нашел на дне неглубокого оврага, там, где лежал толстый ствол поваленной березы. Она и сидела на этом стволе. Сидела, перебирая пальцами зеленые листки: то надрывала их, то разглаживала. Некоторое время я смотрел на нее. Намеренно и, конечно, не от робости или смущения. Просто я ощущал, как вожделение разливается по всему моему телу, заполняет и переполняет его. И лишь только наступил миг, когда я уже не мог противиться ему, я бросился к ней сверху вниз. Расстояние между нами было всего в три прыжка, три мгновения, почти неподвижное время, но она успела вскочить и быстро-быстро стала карабкаться вверх по склону оврага. Она в какой-то момент напомнила мне ящерицу. Не как ящерица бежала она, но именно была ящерицей. И когда я все-таки ухватил ее за ноги, уже у самой вершины, мне показалось, что это не ноги, а хвост, и она сбросит его, и он останется у меня в руках. Вместо нее.
Может, я тогда так чувствовал, а может, это все уже после представилось мне – какая разница? Но то, что она ящерица, в этом я убедился, лишь только ухватил ее покрепче и стянул вниз, на дно: она извивалась в моих руках с какою-то нечеловеческой быстротой и гибкостью. И все молча, без единого горлового звука. Меньше всего мне хотелось рвать на ней одежду. Я и не рвал бы, веди она себя спокойно. Мне непонятно, почему женщины, когда их берут силой, так упорно сопротивляются. Бесплодная трата энергии, и никакого смысла. Что, собственно, такое они хранят? Они защищаются так, словно защищают нечто, на охрану чего их поставили. Так часовой, охраняющий спальню императора, бросается на заговорщиков, которые, обнажив мечи, пытаются туда ворваться. Не знаю, хорош ли пример, но думаю, что, во всяком случае, верен. Но солдат падает, пораженный клинками заговорщиков, и те врываются внутрь, скользя на ступенях, окрашенных его кровью.
Ее сопротивление было яростным, хотя и беззвучным. Но наконец часовой пал, обливаясь кровью, и император, только успевший приподняться на постели, был поражен множеством яростных ударов. Его крик был единственным и последним. И ее, Друзиллы, крик тоже был единственным и последним. И хотя я еще некоторое время толкал ее тело резкими и чувствительными толчками, она лежала как мертвая. Я перестал толкать, скатился с нее и лег рядом. Вожделение прошло, но явились усталость и легкость одновременно и еще что-то такое, чего нельзя передать словами, но что-то похожее на радость обладания. Внезапно завоеванное богатство. Может быть, такое огромное, что позволит властвовать над всем миром: над всей землей, над всеми растениями, над всеми животными, над всеми людьми. Что из того, спросите вы. А ничего, потому что смысл обладания в обладании, и больше ни в чем. Может быть, еще в радости обладания. Хотя она кратковременна, и если не уходит совсем, то превращается в тоску. В тоску по этой же радости.
Друзилла тоже не поднималась, лежала неподвижно и беззвучно, как мертвая. Я тронул ее руку, она была как лед. Но не как у мертвой, а как у живой. Потом она медленно поднялась. Туника была измята и испачкана и разорвана у правого плеча; она поддерживала ее рукой. Там, где бедра, впереди, было красное пятно, большое и неровное, как раздавленный красный цветок. Я сказал ей:
– Смотри.
Она нагнула голову, но лицо ее осталось равнодушным. Отвернулась и пошла наверх. Не карабкалась, как тогда, когда я настигал ее, но шла прямая, сильная, не спотыкаясь, как по ровному. Если бы у меня оставались силы, я бы догнал ее снова, но сил не было, и радость обладания уже переродилась в тоску: к чему обладать всем миром? Да и нет никакого мира, а есть только кусочек тверди, на котором лежит твое тело, и кусочек неба, который может охватить твой неподвижный, застывший и в общем-то затуманенный взгляд. И даже этот кусочек неба перестает существовать, потому что глаза закрываются сами собой, а в темноте под веками нет ни вещественности, ни смысла – это не земля, не небо, не мир, а лишь я сам. Без земли, без неба, без мира, которым так хотелось обладать и которого теперь нет вовсе. И не было никогда. Ничего не было. И сам я… Но не было и меня.
Тоска. Моя неизлечимая болезнь. И вожделение, и удовлетворение – только временные лекарства. И чем чаще принимаешь их и чем в больших дозах, тем слабее действие.
Когда я встал, было уже темно – открыв глаза, я остался в темноте самого себя. С трудом поднялся по склону, цепляясь за траву. Медленно, спотыкаясь почти на каждом шагу, пошел к дому. Только однажды мелькнул страх, что наша бабка Антония [7]7
Наша бабка, Антония… – Антония Младшая, мать Германика и бабка Калигулы; была знаменита своим целомудрием и красотой. Император Тиберий после смерти матери сделал Антонию ее преемницей на посту жрицы Августа, который еще при жизни был признан «Божественным». Калигула всевозможными унижениями и обидами (а быть может, и ядом) свел ее в могилу.
[Закрыть]могла увидеть Друзиллу, когда та возвращалась. А бабку обмануть невозможно. Но страх только мелькнул. Я вяло сказал себе: «Гай, ты уже император». Но можно было и не говорить.
Потом, уже засыпая, я подумал, что ведь, в сущности, не видел ее тела.
Порой я сомневаюсь, нужна ли мне власть и зачем я столько сил положил на то, чтобы иметь ее. «Зачем нужна» не в том смысле, что не нужна, а в том – зачем? Только ли затем, чтобы освободить страсти, чтобы они могли реализоваться как угодно и где угодно. Или еще зачем-то? Нет, не благо народа – пусть это и трижды благородная цель. Честолюбие? Все поклоняются мне, славословят меня, а я – самый благородный, самый умный, выше и лучше всех. Поэты слагают стихи, где это написано черным по белому. И отчего бы мне не поверить им. И я верил, особенно тогда, когда был пьян. Но в часы трезвости – в последние годы это случалось не так уж часто, если иметь в виду полную и абсолютную трезвость, – я все понимал прекрасно. Не мне, то есть не лично мне пели они славу, но страху перед моей властью. И если вообще опустить страх, а представить, что они не притворяются, но думают именно так, как поют, то все равно, самого меня это мало касалось, но слава относилась к моим одеждам – материальным и нематериальным. Не к тому, каков есть император, а к тому, каким он должен быть – великим, мудрым, красивым… И так без конца. Люди воспринимают императора либо как тирана, либо как отца народа, справедливого и доброго правителя. Наибольшие славословия получает, конечно же, тиран, так что быть им или представляться им, если любишь славословия, предпочтительнее. А славословия любят все, вне зависимости от того, что они об этом говорят публично. И все – и те, кто как будто выше этого, – принимают славу как должное, оправдывая себя желанием народа, необходимостью поддержать авторитет правителя. Это установление – «благо народа» – может быть, наиболее твердокаменное и, наверное, сильнее всех других установлений. Оно оправдывает все, и нарушение других установлений в том числе.
Но довольно об этом. Теперь поговорим об астрологии. Звезды всегда манят человека. Пугают или радуют, но обязательно манят. И астрологи всегда будут в чести. И это независимо от того, пользуются ли они благорасположением власти или нет. Ведь там, где звезды, живут боги, там складываются наши судьбы, хотя я и не верю ни в то, ни в другое. Боги не позволяют многое, а я позволяю себе все. А значит, если они и есть, то не для меня. Доказательство, возможно, слабое, но ведь я и не ищу доказательств.
Так вот, несмотря на то что для меня нет богов и я презираю их ко мне отношение, а их возможный гнев еще больше, несмотря на это, звезды тоже манят меня, и всякие предсказания астрологов я выслушиваю почти завороженно.
Откуда появился Сулла [8]8
Откуда появился Сулла… – По данным римского историка Светония (ок.70 – ок.140 гг.), описавшего жизнь и привычки двенадцати римских цезарей – от Юлия Цезаря до Домициана, при дворе Гая Германика Калигулы был некий астролог Сулла, который предсказал императору преждевременную смерть. Возможно, он стал прототипом этого героя романа.
Стр. 58. Будут говорить «Божественный», как об Августе. – Бесчисленные победоносные войны и особая интерпретация развитой греческой мифологии привели к тому, что ведущие государственные деятели Рима стали претендовать на божественное происхождение, на особое покровительство божества, на уготованное их душам бессмертие и особое место в звездных сферах или полях блаженных. Постепенно сформировался императорский культ, начавшийся с обожествления Цезаря и Августа, а затем их преемников. Императоры отождествляли себя с богами, их жены – с богинями. У них были жрецы и жрицы, им воздавали божественные почести. Лишь развитие христианства постепенно ослабило этот культ.
[Закрыть], я вспомнить не могу. Может, он спустился ко мне из области звезд? Вряд ли, потому что такой же шарлатан, как и все остальные. То есть все остальные его собратья по шарлатанству, и… и все остальные вообще. Мне бы давно его казнить, и я с удивлением время от времени смотрю на него: «Как, ты еще жив?» Я ему часто говорил, что больше всего на свете хотел бы увидеть его мертвым, и не убиваю его только потому, что всегда хочу видеть его мертвым, и пусть он возблагодарит свои звезды за это мое «всегда». «Я благодарю их каждую минуту, Гай», – неизменно одно и то же отвечает он мне. Когда мы один на один, он всегда мне говорит просто «Гай», но никогда – «император». Когда мы не одни, то он не обращается ко мне и потому не называет никак. И я тоже в присутствии других не обращаюсь к нему с вопросами, чтобы при ответах ему не произносить «император». Получается, что я жалею его. Но это только так кажется, а на самом деле я боюсь, что и при других он скажет мне: «Гай». Не я дал ему право называть меня по имени, он сам взял себе его. Хотя я показываю всем своим видом, что чуть ли не ради шутки позволяю ему это.
Так вот, я не помню, откуда он взялся и когда. Мы были одного возраста, и когда Друзилла… Во всяком случае, его глаза всегда подсматривали за мной, а его голос, даже когда его не было рядом, произносил: «Гай». Что «Гай», я не знал, но он произносил его (или оно само произносилось во мне его голосом) как заклинание. Но это неправда, что я боялся его. Я его никогда не боялся. А его взгляд и его «Гай» – правда. Это как звезды, которые есть всегда и которые манят.
Я сам хотел, чтобы Сулла всегда был при мне. Но если бы я этого и не хотел… Я вспоминал о его присутствии и тогда, когда его не могло быть рядом. К примеру, тогда, когда я еще жил в доме Антонии, моей бабки. Он знал все и говорил мне, что знает все: всю мою жизнь и мою смерть.
– И о смерти знаешь? – говорил я ему, и все внутри меня холодно напрягалось от гнева.
– Да, Гай, и о смерти тоже.
– Но разве я когда-нибудь умру?
– Конечно, нет, Гай, ты бессмертен и умереть не можешь.
Так он отвечал мне, и в его глазах не было ни насмешки, ни лжи, ни великодушия. Он не лгал, во всяком случае, намеренно. И я знал это. И был благодарен ему. Конечно, бессмертие мое не было бесспорным бессмертием: императоры умирали и до меня. Но разве в том дело, что я император? Нет, дело тут в чем-то совсем другом. Я не знал в чем и думать не хотел, но чувствовал – бессмертен. Я, несущий в себе самую полную, самую чистую свободу, божественную… Я, издающий законы, не подчинен им, и никаким не подчинен установлениям, и себе самому тоже. Есть страсти, одни только страсти. Открой им себя до конца, перестань быть, превратись в страсти – и будешь вечен, как вечны и бессмертны они. И никакие установления не смогут умертвить их.
Любить самого себя. Нет, для бессмертия этого мало. Любить свои страсти. Нет, и этого недостаточно. Забыть о себе и жить одними только страстями. Нет. Забыть о себе и стать страстями. Не любить, но быть. Не быть даже, но единственно только проявляться. Нет привязанности, нет долга, а есть только… Впрочем, что-то такое все равно невозможно высказать, и любой смысл, выраженный в словах, все равно есть игра со смыслом. А я не об игре.
Не помню первый раз с Суллой и, может быть, не помню и второй. Помню, как он сказал мне:
– Пойдем, Гай.
И я послушно пошел за ним. Я так послушно пошел за ним, за своим ровесником, за мальчиком, в сущности, будто это был старый мудрец, возраст которого я почитал, а в мудрость верил неоспоримо. Я, который никогда ни во что не верил и никогда никого не почитал.
Мы вышли. Было темно. Звезд на небе было много, и они ярко горели. Не знаю, с чем сравнивать их свет, да и не хочется сравнивать, но… будто они светили только для меня одного и зажжены были только для меня одного. Он взял мою руку в свою. Ночь была тепла, а его рука горяча. Так горяча, что моей руке было трудно пребывать в его, она как бы задыхалась от жара и как будто бы вконец обессилела от жара. Наверное, поэтому я не мог ни пошевелить ею, ни отнять ее. Другую руку он поднял к небу и, переводя со звезды на звезду, называл их. Просто называл, ничего не объясняя. Но моя рука в его руке… и я так хорошо понимал, будто он подолгу объяснял место и назначение каждой. Я как-то очень сильно и быстро устал, так что скоро перестал слышать. Только рука…
Не помню, как мы ушли, как я лег и заснул. Среди ночи проснулся от тянущей боли в руке. Я осмотрел ее, поднеся к свету. Она была багрово-красной, с множеством белых точек. Белизна их была скорее светом, чем цветом. Сулла сказал:
– Они как звезды.
Я вздрогнул от его голоса. Он стоял в дверях так, будто не вошел вот только что, но все время находился тут. Я вздрогнул от неожиданности, а не от испуга, и его не замеченное мной присутствие не удивило меня.
– А почему боль? – прошептал я, протягивая ему руку.
– Потому что они движутся, – ответил он.
Я больше ничего не спросил, хотя ничего не понял
Все это пустяки, и если бы у меня были друзья, то очень стоило бы посмеяться над этим с друзьями. Но друзей у меня не было, а Сулла был, и я испугался. Я лег так, будто был один, и страх наваливался на меня так, будто я был один. Вообще, может быть, во всем свете. Дрожь била меня, я задыхался и уже не чувствовал ног. Тогда Сулла взял меня за руку. Он стоял надо мной и держал мою руку в своей. Не помню, согрелась ли она и согрелся ли я сам, но я уснул. Подумал глупое, глядя на некрасивое лицо Суллы: «Потому, что движутся…» – и уснул. Не забылся, но уснул. И сладко спал до самого утра. До позднего утра, хотя всегда вставал рано.
Уничтожить Суллу было очень просто: для этого существовало много методов и средств. Я часто и подолгу думал об этих средствах, и даже с наслаждением. Но – не мог. Проснуться без него, уснуть без него… Нет, не мог. К тому же боялся. К тому же спрашивал: «Зачем?» И не находил ответа.
Я теперь уверен, что по наущению Суллы я взял Друзиллу, хотя, конечно, это не так. Но ведь и по-другому быть не могло. Порой мне кажется, что никаких собственно моих страстей во мне нет, но именно он – Сулла – и есть мои страсти. И еще мне кажется, что страсти не нечто абсолютно свободное, а они только представляются таковыми. На самом же деле нет ничего более расчетливого, чем страсти: у них свои законы, свой порядок, своя цель. Не тот, придуманный человеком порядок, не те установления, которые люди приняли для себя, но иной порядок, высший. Он там, куда указывал мне свободной рукой Сулла, там, где звезды. И их движение определяет четкий, незыблемый порядок проявления страстей. Тот порядок, который ведет к цели. Неизвестной нам, но известной им, звездам. Или, быть может, какой-нибудь одной, главной звезде.
Я говорю: «мне кажется», «я думал», но вероятнее всего, что это не я, а он, Сулла, – служитель звезд и их посланник. Странно, с одной стороны, я всегда хотел быть абсолютно свободным, вне всякого закона и вне всяких влияний. Но с другой… С другой – мне хотелось быть ведомым, призванным для великой цели, мудрым, благородным и чтобы тот, кто вел меня, оценивал бы степень и глубину того и другого. Не люди, славословящие или ругающие, а по сути равнодушные к тому – кто ты, что ты, а только: хорош, если нам хорошо, и плох, если нам плохо. А Сулла… Как мне хотелось почувствовать, что он представляет иной, высший порядок и иную, высшую цель. Но как я мог это почувствовать и как мог поверить, когда он был такой же человек, как и я. Если я нарочно сдавливал ему руку, то он морщился от боли. Если присутствовал при моих играх с женщинами, то не только лицо его выдавало известное волнение, но и орган, все мужское определяющий, надувался сверх меры. Я не раз проверял это, оторвавшись от женщины, подозвав его и внезапно ухватив за тунику пониже живота. Нет, если исходить из моего опыта, то высшие силы тут ни при чем.
Что я говорю! Разве это я, Гай Калигула? Не Сулла ли живет вместо меня, а меня давным-давно нет, да и не было никогда! Но нет, я ведь был. Может, это теперь меня нет, но ведь был. Не Калигула-философ – я смеюсь над этим, – но Калигула – свободные страсти, Калигула-император, Калигула-злодей. Что могло меня сбить с пути злодейства? Кто такой Сулла? Шарлатан и комедиант. Одного моего взгляда достаточно, чтобы стереть его с лица земли в царство мертвых, подальше от звезд. Настолько далеко, что это все равно как если бы звезд не было вовсе. Нет, я жил, и Друзилла пришла ко мне на следующее утро.
Когда я открыл глаза, она стояла у постели. Красивая. Никакой не подросток, а настоящая женщина: маленькая грудь, тонкая талия и бедра как амфора, наполненная, переполненная тем, что называется страстью – смесь благовоний, разложения, оранжереи роз и отхожего места. Я говорю грубо, но ведь я говорю о страсти, а не о любви. Я ощутил, что знаю ее давным-давно и был с нею с невспоминаемо давних времен и что она мне не только не надоела, но страсть переполняет меня и тревожит с прежней силой. И даже с большей силой. Да, конечно же с большей. Она взяла меня за руку, сказала:
– Как долго ты спишь.
И – тут же я обхватил ее и потянул на себя. Падая, она вскрикнула протяжно, совсем не так, как кричат от неожиданности или от боли. Вы уже догадались, какого рода это был стон. Кто же мог подумать, что за одну ночь она прошла то, что женщина проходит за годы. Женщина для наслаждений. Она стала такой женщиной. Не той, которая делает из этого профессию, овладевает мастерством страсти, тем количеством приемов, которое и определяет высшее мастерство. При этом сама она остается холодна. Как всякий мастер – профессиональна и расчетлива. Не испытывает же врач боль вместе с пациентом, он должен оставаться холоден, чтоб облегчить недуг. Друзилла была другой. Или стала другой. Она болела вместе со мной. Возможно, что даже сильнее, чем я. Мне казалось, что если моя болезнь, возможно, излечима (о боги, позвольте мне болеть всегда!), то ее болезнь смертельна. В самом прямом природном смысле, и всякий ее стон и крик в любое следующее мгновение мог оказаться последним. Не скрою, мне всякий раз хотелось, чтобы так оно и случилось и ее жаркое тело в моих руках – жаркое, упругое, подвижное, гибкое, и еще, еще… – сделалось бы неподвижным, холодным, ледяным. Мертвым. Да нет, разве я хотел ее смерти! Хотел, чтобы смерть ее повторялась всякий раз, бесконечно.
Она болела страстью, а я был болен ею. Вернее, ими: и страстью и Друзиллой. Мы утоляли ее… не знаю, как сказать, скорее всего – бешено. В самом деле, как один больной организм, подверженный сильным припадкам. Конвульсии, судороги, пена у рта и красный туман в глазах. Мы уже не видели друг друга. Более того, мы уже не чувствовали друг друга. Наша страсть как будто бы покидала тела, и мы уже не чувствовали их и, как это ни покажется странным, не ощущали интереса друг к другу.
Только когда припадок проходил и мы медленно разъединялись, и рассеивался туман, и красное, остывая, делалось белесым, я начинал различать черты ее лица, изгибы плеч и бедер. Мне так хотелось рассмотреть все это вблизи, глазами, губами, подушками пальцев. Но припадок всякий раз был столь сильным и так изматывал и расслаблял плоть, что, казалось, не было сил пошевелиться. Нет, не пошевелиться, но пядь за пядью рассмотреть и ощупать любимую плоть. Нельзя было это сделать холодно, как врач, но и невозможно было сделать ни вначале, ни в конце припадка. Да и пустое, без страсти тело – только оболочка. Нет, не мертвая, но как будто одежда, скомканная и небрежно отброшенная в сторону. Знаю, и она чувствовала то же, что и я. И мы даже не расходились, но расползались в молчании. Не глядя друг на друга и не желая глядеть. Уверенные, что больше никогда не сольемся и даже, может быть, никогда не увидимся. Розарий разорен, а розы брошены в отхожее место.
Наша бабка, Антония, была настоящим хранителем приличий и установлений, она, кажется, сама упивалась собственной строгостью, и, думаю, будь ее власть, она бы вообще запретила страсти и их проявления. Когда ей говорили – только по незнанию могли сказать, а кто знал ее, не говорил, – что у такого-то сенатора появился новый мальчик, глаза ее наливались кровью, а дыхание делалось частым и прерывистым. Могло показаться, что ее вот-вот хватит удар. Бывало, что даже стон прорывался сквозь дыхание. Все так же, как в страсти и соитии. Не похоже, но именно так же. Да и кто не знал о ее прошлой «праведной» жизни, всему Риму это было доподлинно известно. Так что строгость у нее проявлялась точно так же, как страсть. Если бы у нее хватило соображения понять это, но – никакого соображения у нее не было давно, все съело неумеренное проявление страстей. С моим отцом и ее сыном, Германиком, она тоже была строга, но и ему и ей это очень нравилось, ведь более нравственного человека, чем мой отец, трудно было отыскать в Риме. Наверное, ни в Риме, ни в провинциях такого больше не существовало. Он был не человеком, но воплощенной доблестью, а она, конечно, ходячей добродетелью. Думаю, что и он, Германик, и она, Антония, были совершенно уверены, что на всем свете не было и нет человека, благороднее и доблестнее его и добродетельнее ее. Ну, облик отца всем известен, тут одно только геройство, но бабка… Я никогда не мог поверить, что она когда-то была хороша, как об этом любили вспоминать люди ее возраста. Уверен, что никогда не была. Сухая, с вытянутым лицом, выдававшейся вперед челюстью и запавшими бесцветными глазами – конечно, хороша. И голос был как скрип старого дерева под ветром: того и гляди, переломится.
Считалось, что все ее боятся. Но это только так считалось, потому что никто всерьез не обращал внимания на ее добродетельный гнев, хотя все старались, чтобы он на них не обратился. Конечно, женщиной я ее считать не мог, она для меня была после женщиной, хотя еще и сосуд, но уже непригодный ни для вина, ни для масла. А для чего – пусть об этом скажет скупой хозяин, которому жаль выкинуть сосуд, он не знает, как его использовать, сосуд только занимает место, но – вдруг пригодится.
Так вот, наша бабка Антония застала меня и Друзиллу как раз за исполнением любви. Не скажу, что мы потеряли всякую осторожность, ее никогда и не было у нас. Более того, мне кажется, что мы нарочно… Не знаю, как сказать, но… не то чтобы хотели, а как бы были не против. С одной стороны, любви не нужны свидетели, но с другой – необходимы. Тайна хороша только вначале, потом она должна сделаться известной тайной, хотя и оставаясь ею. Звучит не просто коряво, но и просто слабо, но верю, что каждый внутри себя испытывает подобное, пусть и не говорит об этом словами, пусть и не признается себе в этом.
Так вот, бабка стояла в дверях и смотрела, чем мы занимались на моей постели. Не могу сказать, что я ее сразу заметил, но, во всяком случае, раньше, чем мы закончили. Друзилла мне потом признавалась, что чуть ли не в самом начале ощутила: кто-то стоит в дверях. Правда, она не думала, что бабка, а думала, что Сулла. Нет, не думала, что Сулла, а думала, что кто-то. Так что и с той и с другой стороны было как бы обоюдное согласие на осведомленность. Что же мешало нашей добродетельной бабке остановить нас в самом начале, а не дожидаться конца? Тем более что ее добродетель не могла выносить, что это было смертельно для ее добродетели… и так далее. Но она стояла и смотрела, не издав ни единого звука, не сделав ни единого движения: подобно статуе Венеры, что стояла в нише справа от нее, но только Венеры старой, сморщенной, совсем и не Венеры уже. Но – все-таки Венеры. Наши звуки – и горловые и прочие – наконец стихли, руки разжались, и тела, колеблемые теперь только все утихающим дыханием, медленно отлепились друг от друга. Мы еще касались друг друга – моя рука ее волос, ее ступня моего бедра, – но уже жили сами по себе. И снова: никогда не встретимся, никогда не сойдемся, никогда не увидим друг друга.
Я знал, что Антония здесь, но просто не мог пошевелиться. И как я уже объяснял выше, не хотел. Лицо мое было повернуто в ее сторону. Не к ней, но в ее сторону, так легло мое тело, отлепившись от тела Друзиллы. Я видел, как она подходила, подошла, встала над нами. От наших тел, я думаю, еще шел сильный жар, и она стояла над нами, и кожа ее лица покраснела от жара. Так она долго стояла, я смотрел на нее, а она на нас; Друзилла же лежала закрыв глаза. Антония стояла до тех пор, пока тела наши не остыли, а кожа на лице из красной не сделалась бледной. Более бледной, чем она была у нее, много более. Потом она повернулась и пошла к двери. А от двери крикнула, что мы развратники и что она не позволит, чтобы дом сделался гнездом разврата… И еще, и еще в том же роде. Хотя она кричала, но выходило не очень громко, потому что все-таки опасалась слуг. Тут я улыбаюсь, потому что уж слуги-то узнают обо всем в первую очередь.
Ну, все остальное имеет меньшее значение и не так интересно: Антония продолжала тихо кричать, при этом стояла вполоборота к нам, чуть ли не спиной, будто ей стыдно было смотреть на нас – стыдно и невозможно, будто только что так пристально разглядывала нас совсем не она. Друзилла вскочила и убежала через другую дверь, голой, даже не прихватив туники. Я же остался лежать, как лежал, и ни вставать, ни прикрывать наготу совсем не собирался. Конечно, не скрою, мне было неловко, и это вполне естественно, но, с другой стороны… С другой стороны, что-то во всем происходящем было такое… Было нечто похожее на страсть, на удовлетворение ее. Я не хочу сказать, что мы с Антонией… или я с Антонией… Но все-таки что-то в этом роде. И не я это придумал, не я стремился, мне это, разумеется, никогда в голову бы не пришло – но ведь она стояла над нами и смотрела, ведь она рассматривала нас, ведь это ее лицо сначала покраснело, а потом побледнело. И это ее голос, когда она кричала, что мы развратники, меньше всего был исполнен настоящего негодования, но это была какая-то особенная женская злость, и не с одной только обличительной страстью.
Потом, уже к вечеру, она позвала меня к себе и долго отчитывала, еле слышно, почти шепотом. Опять говорила, что я развратен, что я чудовище, приводила мне в пример доблести и благородство отца, любовь к нему народа и все такое прочее. И снова «чудовище», «развратник», и снова «доблести и благородство». Она говорила, говорила и ни разу не взглянула мне в глаза, а я стоял перед ней, и странное чувство было во мне, теперь уже точно безошибочное, что: и ругает, и обвиняет, и, может быть, ненавидит, но – признается. Она говорила, я слушал и молчал, но вместе мы разговаривали как любовники. Как любовники в тишине ночи.
Вообще после этого я не мог смотреть на бабку Антонию по-прежнему, но смотрел на нее новыми глазами. И бабкой не мог ее называть даже и про себя. Что-то такое, что-то такое у нее было внутри, чего не было ни у кого из тех женщин, которых я знал. И у Друзиллы тоже не было. У нее было многое другое, но этого не было тоже. И я понял, как со временем мельчает страсть. Не с возрастом, возраст тут ни при чем, но как бы с историческим временем. Они, люди того времени, были иными, и страсть была такого рода и качества, что как бы и не нуждалась в теле. Красивое, некрасивое, молодое, старое – нет, не нуждалась. Такая страсть жила отдельно от тела и, может, только пользовалась телом, когда это было ей необходимо. Но, думаю, могла и не пользоваться. Вот только умирала вместе с телом. Или не умирала. Во всяком случае, после смерти Антонии я еще долго помнил… Нет, чувствовал. Нет, ощущал по-настоящему. Ее страсть еще долго жила со мной и тревожила меня. Я прав, у такой страсти нет необходимости в теле.
Странное дело, вызывая и укоряя меня, Антония ни разу не говорила с Друзиллой. Будто та была вообще ни в чем не виновата, а просто жила девочкой в доме, среди двух других девочек, своих сестер. Меня же она вызывала время от времени, чтобы называть чудовищем и развратником, чтобы говорить шепотом в темноте и не поднимать на меня глаз. Но она никому не сказала о том, что видела, и о том, что время от времени говорит со мной в темноте: это была ее тайна. Вернее, наша с ней тайна. Больше всего я жалел о том, что не жил в то время, когда она была молодой. И еще о том, что она моя бабка. Лучше, если бы она ею не была. Если бы не была, то и не нужно мне было бы жить тогда, когда она была молодой. Молодая, старая – тут возраст не имел никакого значения. А вот родство имело. Не для меня, для нее. Но это было достаточным препятствием, непреодолимым.








