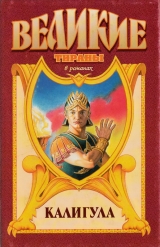
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Мои отношения с Антонией, впрочем, никак не умаляли полноты моих отношений с Друзиллой. Мы ничуть не таились, хоть и не выставляли свою любовь так уж напоказ. Или нет, скорее всего, что выставляли, потому что и она и я знали, что взгляд Антонии всякий раз достигает нас и Антония, что называется, ест нас глазами. Не жестоко ли было лишать ее необходимой пищи? А если не пищи, то отравы, но все равно необходимой?
Но довольно об Антонии. Я лучше скажу о том, что я не мог как следует рассмотреть Друзиллу. Нет, не так, не рассмотреть, но увидеть что-то такое внутри ее… Не знаю, как объяснить. Раньше я думал, что всякая женщина несет в себе тайну, собственную свою, ни на чью другую не похожую. Я и открывал эти тайны, и был доволен, что открываю. Потом оказалось, что все тайны похожи одна на другую и что одно только собственное удовольствие имеет значение в общении с женщиной, а их тайны уже не имеют значения. Я уходил от женщины, оставляя пустую оболочку. Но при этом я не брал ничего с собой, в себя. Не брал, потому что нечего было брать и женщина не оставалась пустой оболочкой, но была ею с самого начала. Только Друзилла не была пустой оболочкой: и тогда, когда мы были вместе, и тогда, когда расставались. Во-первых, не я уходил, а она оставляла меня. Только до следующего раза, который мог быть уже через несколько часов, но непременно казалось, что навсегда. Так мне казалось определенно: не я уходил, но она оставляла меня. Во-вторых, я оставался опустошенным. Намеревался брать, но отчего-то лишь отдавал. Ни у какой женщины я не мог ничего взять, но ведь и не отдавал ничего. А она уносила значительную часть меня, и я это ясно и всегда болезненно чувствовал. Мне хотелось бежать от нее и хотелось убить ее. Порой мне хотелось этого очень остро, но ни того, ни другого я не в силах был сделать. Не только потому, что я не был еще императором, когда убить кого-либо не составляет никакого труда. Не только поэтому. Но как только я делал первое движение к побегу – пусть и мысленно, но это казалось, пожалуй, реальнее настоящего движения, – лишь только я делал это движение, как боль пронизывала все мое тело, словно мы были сращены от рождения, может быть, еще в утробе матери, и оторвать свое тело от ее было настоящим самоубийством. Желание же убить пропадало бесследно, лишь только я видел ее. Все исчезало бесследно, и я сам тоже, а оставалась только опустошающая страсть, которая жила сама по себе, и, кроме нее самой, всего остального просто не было на свете.
И опять туман и жар, и опять я не вижу Друзиллы. И только тень ее вижу, когда она уходит от меня. Может, она мраморная статуя, внутри которой кровь, и сердце, и печень, и все, что есть у живого. Или она живая, с теплой нежной кожей, горячими влажными губами, а внутри – холод мрамора. Взять молот и разбить мрамор, раскрошить его на самые мелкие кусочки, превратить в пыль и развеять ее в пространстве. Сделать это и забыть. И промыть память, где осели частицы этой пыли. Все так, только как проникнуть внутрь, добраться до мрамора?
Сулла сказал мне:
– Гай, какого ты хочешь бессмертия?
– А какое бывает? – спросил я.
Он сказал:
– Разное.
Я подождал, с каждой минутой раздражаясь, что он скажет. Но он, по своему обыкновению, ничего не сказал. А я, по своей обычной трусости в его присутствии, не попросил пояснений. Тогда он сказал:
– Ты ведь знаешь, что Друзилла твоя сестра и что связь с сестрой преступление против природы.
– И установлений, – добавил я, но он повторил только:
– Против природы.
Потом он смотрел на меня, пока я не отвел взгляда. На этом все закончилось, весь разговор, и он ушел так незаметно, как будто бы исчез, не сходя с места. А мне снова захотелось убить его, и я позвал слугу. Но, глядя на глупое и почтительное выражение лица слуги, я не смог сказать то, что желал, а велел привести мою лошадь. Вскочив в седло, я нещадно погонял ее, пока она не стала хрипеть и не остановилась. Я успел соскочить в то последнее мгновение перед тем, как она рухнула на землю. Это была моя любимая лошадь – так я считал, – но я повернулся и пошел прочь, а она осталась умирать. Я думал: так я мог убить себя, так я мог убить любого другого – загнав. Была бы власть. Убив, я убеждаюсь в смерти и что она, хотя умирают по-разному, одна. Но как мне убедиться в бессмертии? «Разное», – сказал о нем Сулла, но не объяснил. А если бессмертия нет вовсе и я думаю о. нем только потому, что боюсь смерти?
«Разве я боюсь?» – спросил я Суллу. Его не было рядом, но я все равно спросил. Но, по своему обыкновению, он промолчал.
Если кто-то думает, что я хотел сестер только потому, что они всегда были рядом, – если кто-то так думает, то это ошибка. Совсем не потому, но из любви к самому себе, к собственной плоти, которую я почитал бессмертной. Или должной быть таковой. Я не знал заранее, что буду императором, хотя и очень этого желал. Но я желал еще большего, бессмертия – и здесь «император» ни в какое сравнение идти не может. Пусть кто хочет думает, что желание сестер было просто развратным желанием или, после моего объяснения, что я прикрываю разврат объяснением. Пусть думает, мне все равно. Хуже тому, кто так думает, потому что тогда он просто скользит по поверхности жизни и не пытается заглянуть в глубину. И не может в нее заглянуть. И кричит: нет никакой глубины, а есть одна только поверхность. Поверхность же, как масляная пленка на воде, – иллюзия тверди. Общие понятия и установления, вот из чего состоит поверхность. Это не сама жизнь, а в самом деле только пленка на жизни. Они все, живущие на поверхности, говорят: как опасно уйти на глубину, провалиться вниз. Там неизвестно что, а здесь законы и установления. Люди больше всего боятся этого «неизвестно чего».
Я не боялся и не хотел жить на масляной пленке. Бессмертие было там, в глубине. А если и там его нет, то… Не знаю что, но не может быть, чтобы не было.
Я никогда не мог понять, почему плоть, которая вышла, как и я, из одной материнской утробы, не может совокупляться с моей. Когда мы вышли из утробы матери, мы разъединились. Или нас разъединили. Почему же мы не можем соединиться снова? Что такое «против природы», о чем говорил Сулла? То, что разорвано, – несоединимо. То, что умерло, не может воскреснуть. Но отчего – несоединимо? И отчего – не может воскреснуть? И что такое природа? Даже императорская власть – не полная власть над человеком, и люди бунтуют против священной императорской власти. Но так ли она священна? Не хочу никакой природы и не признаю никакой природы. Или, вернее всего, хочу понять, что она такое, есть ли она и есть ли у нее власть или это только признание несуществующей власти?! Или это только уловка, чтобы пугать человека нарушением законов и установлений? Но – не хочу больше думать об этом. Или я император, которому подвластно все и нет ничего в мире, что не может быть мне неподвластно, или я император этой толпы людей, которые больше правят мной, чем я ими.
Моя старшая сестра Агриппина была полной дурой. Она, подобно нашей бабке Антонии, любила изрекать всякие добродетели: к месту и не к месту. Вернее, всегда не к месту. И еще – смотрела строго. Скажу так: все, на что падал ее взгляд, на все это она смотрела строго. Она знала и, может быть, видела, чем мы занимаемся с Друзиллой, и, когда смотрела на меня, когда говорила мне самые простые вещи, взгляд ее и слова должны были испепелять меня. И думаю, она очень удивлялась, что до сих пор не испепелили: Одевалась она строго, говорила строго, и улыбка не имела места в безупречной строгости ее лица. Ее формы… Они тоже казались мне строгими: деревянные бедра, деревянная грудь, к тому же резчик по дереву вряд ли помнил, что ему заказана женщина. Скорее всего, ему просто заказали Добродетель. А это хотя и возвышенная, но такая скучная тема.
Не буду говорить, что захотел я ее, чтобы воплотить свои новые философские соображения. Это не так. Хотя, может быть, подспудно… Но сознательно это не так. Наверное, во-первых, мне надоела ее строгость. Жить рядом с этой постной строгостью и постной добродетелью было, во всяком случае, неуютно. Во-вторых, я тогда еще верил в женскую тайну, и деревянная женщина должна же была чем-то отличаться от женщины телесной. Кроме того – в-третьих, четвертых и пятых, – мне просто хотелось уничтожить добродетель, и не просто уничтожить, но как-нибудь побольнее и поунизительнее. Зачем я это говорю – объясняю, оправдываюсь? Да потому, что посягнуть на добродетель даже такому человеку, как я, не так-то просто. Не могу объяснить почему, но непросто. Это если знаешь, что добродетель, а не переубеждаешь себя, что никакой добродетели нет. А я знал.
Впервые тогда я прибегнул к помощи Суллы. Я ему сказал, чтобы он неожиданно схватил ее сзади, и зажал ей рот ладонью, и держал так, пока я не сделаю то, что нужно. Он сказал:
– Да.
Я его спросил, не боится ли он, что его могут, к примеру, распять за насилие. Не могут, сказал он, потому что тут нет никакого насилия.
– Как это? – удивился я.
– Сам увидишь, Гай, – отвечал он, и по его едва заметной улыбке я понял, что он больше ничего объяснять не будет.
Ладно, и не надо. А что касается распятия, то хотя быть распятым мне совсем ни к чему, но близость его и хоть какая-то его возможность добавляет интереса в жизнь: я, будущий император, распят на кресте за насилие над сестрой, в тяжелейших муках умираю… А потом воскресаю, чтобы стать императором. Потому что быть распятым я могу, умирать страшно и жестоко – тоже, но не стать императором – нет, не могу. Тут и муки и смерть не имеют никакого значения.
Итак, Сулла, выскочив из своего убежища, зажал ей рот и держал ее крепко. Тут странно – он был мал ростом, почти горбун, а руки сильные и большие, и когда он зажал ей рот, то ладонь прикрыла больше половины лица, и только глаза были свободны, а ни носа, ни губ, ни подбородка не стало видно. Правда, он предусмотрительно раздвинул средний и безымянный пальцы, чтобы она совсем не задохнулась. Она не билась, она застыла как деревянная. Кажется, Сулла мог уже и не держать ее. Я подошел, я заставил себя посмотреть ей в глаза. Мне это было не очень легко, но я себя заставил. В глазах ее не было ни страха, ни ужаса, ни строгости, ни презрения, ну ничего такого, что можно было бы ожидать и чего, конечно, ожидал я. Только ожидание. Она обманула меня, и, будь я почувствительнее, я сказал бы, что жестоко обманула. Она хотела того, чем я собирался унизить ее, уничтожить ее добродетель. Мне бы сказать Сулле: отпусти, и пойдем, тем более мне было неприятно ощущать его руку так близко от своего лица. Но отчего-то у меня не хватило смелости отступиться. Может быть, присутствие Суллы смутило меня. Я медленно поднял руки, крепко ухватился за верхний край туники и что было сил дернул вниз. Материя разорвалась с треском, больше похожим на треск ломаемых сучьев. Она в самом деле стояла передо мной как дерево. Как дерево, с которого сорвали кору. Ее тело сочилось, и это был древесный сок. И запах тоже как будто древесный. То есть скорее напоминавший древесный, но крепкий, жгучий, так что, наверное, попади он на язык, и кожа сползет с языка. И я пригнулся к ней и провел языком по ее коже, дернувшейся от моего прикосновения. Нет, кожа не слезла с языка, но сок оказался в самом деле жгучим и то ли горьким, то ли сладким, но скорее и тем и другим одновременно. Хотелось оторваться и выдохнуть, но столь же сильно – или нет, конечно, сильнее – хотелось не отрываться. Да и тогда, как я теперь понимаю, оторваться было невозможно. Язык мой наткнулся на твердое, и я ощутил боль, как от пореза, как если в темноте провести рукой по гладкому дереву – и вдруг наткнуться на острый, с зазубренными краями сучок. Глаза мои были закрыты, и в слепоте язык наткнулся на ее твердый сосок. Дерево, настоящее дерево, ну, может быть, нежное. Но все равно, в здравом уме не станешь облизывать дерево. Хотя, впрочем, «здравый ум» – это тоже из области установлений.
Я услышал звук, придушенный стон, близко, у самого своего уха, и тут же язык мой наткнулся на что-то чуждое. Глаза мои раскрылись, щетка рыжих волос была перед ними: рука Суллы. Оттуда, из-под руки, и раздавался стон. «Уйди», – выдавил я. Или только подумал? Но рука стронулась, поползла в сторону и скрылась где-то за подбородком Агриппины. Стон прекратился. Я поднял глаза, лицо ее исказилось ужасом. Больше не было дерева, с которого сорвали кору, но была женщина, застывшая от ужаса, может быть, уже мертвая оттого, что не смогла этот свой ужас проявить, – не женщина, но холодный слепок ужаса. Маска, которая вряд ли способна кого-либо напугать.
Суллы не стало рядом, вместе с рукой исчез и он сам. Вместе с ним ушла добродетель. Не его собственная – не было там никакой добродетели, – но добродетель Агриппины. Мне словно бы нечего стало уничтожать, потому что предмет уничтожения исчез. И стояла передо мной просто женщина, и ужас на ее лице был просто маской, которую она забыла снять или поменять. Она хотела, чтоб я взял ее, и маска тут была ни при чем.
Мне бы повернуться и уйти. Нагнуться, поднять с пола ее разорванную одежду, подать ей, повернуться и уйти. Но я этого не сделал. Вместо этого я взял губами ее сосок, втянул его глубже, потом еще глубже, насколько было возможно, и вдруг – прикусил. Все-таки не всею силой челюстей, но достаточно сильно. Она вскрикнула, дернулась назад и упала на ложе. Я едва успел разжать зубы. Она могла бы упасть и на пол или вообще убежать – и пол и дверь были прямо за ее спиной. Упасть на ложе было труднее всего, но она, как-то очень умело изогнувшись, упала. Нет, не добродетель, а женщина, с тою же самой нетайной тайной, как и у всех.
Когда она упала, то дверь, теперь ничем не заслоненная, как бы открылась для меня и позвала. Но кто может сказать, что Гай убежал от женщины, пусть и от собственной сестры, – этого никто не сможет и не посмеет сказать! Не посмеет, хотя. мне и безразлично любое мнение обо мне.
Все остальное я делал механически, но даже как будто с остервенением. Ведь совершился обман, никакой добродетели не было, а была женщина, которая хотела, чтобы ее насильно повалили на ложе, а когда этого не произошло, она повалилась сама. Да, она стала кричать, но теперь это уже было не то, и насилие над ней теперь уже ни при чем.
То, что крик ее могли услышать, мне было безразлично. Даже лучше, если бы услышали и бабка Антония прибежала бы на крик. Но я потянулся, чтобы накрыть ей рот ладонью: я не мог слышать воплощенный в крике обман. Ладонь опустилась туда, где был ее рот, но прижала не рот, а руку. В одно мгновение я понял, что это Сулла. Крик прекратился и снова превратился в придушенный стон. Тогда закричал я, потому что желание вспыхнуло во мне с по-настоящему непреодолимой силой. Я ошибся, была добродетель, и я должен был уничтожить ее.
Когда я поднялся, сказал:
– Видишь, Сулла, как мы просто расправились с добродетелью.
– Не вижу, – ответил он и повел глазами вниз и в сторону, и я повел взгляд за ним.
Там, где на ложе должна была остаться красная отметина, не было ничего. Я не поверил; упершись двумя руками, я откатил Агриппину в сторону, словно она и в самом деле была деревом. Провел рукой там, где должно было быть красное, еще и еще, словно то, чего не видели глаза, могли ощутить пальцы. Но и они ничего не ощутили. Тогда я сказал:
– Теперь твоя очередь, Сулла, уничтожить добродетель.
Только несколько мгновений в его глазах стояло недоумение. Не страх, не стыд, но одно только недоумение. Он подошел сзади и молча обхватил руками ее бедра, крепко, чуть ли не впившись пальцами в кожу. А я подошел к изголовью и, подсунув руку, зажал ей ладонью рот. Она не кричала, а только дышала прерывисто через нос.
– Сулла, ты не стараешься, – говорил я.
Он не отвечал, но я видел, что он вполне понимает, чего я хочу, и старается. Но усилия его были тщетны. Тогда я помог ему и что есть силы сжал ее рот рукой. Она застонала, я сжал сильней, и она громче застонала. Теперь это был стон страха и боли – наконец-то. Я был удовлетворен.
После я сказал Сулле:
– Ты такой же, как я, только ниже, и все твои звезды… Одна только бессмыслица все твои звезды, и ты такой же, как я.
Он промолчал, но глаз не опустил, а смотрел на меня прямо, кажется, не мигая. Мне опять захотелось убить его, но я только отвернулся.
Агриппина, разумеется, никому ничего не сказала, а на меня стала смотреть совсем по-другому. Так же, как и прежде, как на чудовище. Но как на чудовище, с которым она имеет общую тайну. А я смотрел на нее и думал: и это тоже я, моя плоть, отчего же я не люблю эту плоть и не хочу ее? Что-то здесь не так – как будто бы и нет добродетели, но как будто бы и есть. Как будто ложная, но будто и настоящая. Да, что-то тут не так.
Со следующей моей сестрой, Ливиллой, все произошло как-то так просто, что я и не заметил. Только помню, что ей это очень понравилось. Это «очень» я говорю не просто так. Она все твердила, чтобы еще и еще, а мне «еще» не хотелось. Потом она сама ловила меня везде, где могла, и просила:
– Ну хоть немножко еще.
Порой я отталкивал ее, порой нет, ведь это тоже была моя плоть, хотя и самая ее обычная и неинтересная часть. То же, что и у всех.
Друзилла сказала мне:
– Как тебе сестры?
Я сказал:
– Сестры.
И больше ничего не добавил. Как Сулла. Я уже тогда многому от него научился.
Братья, Друз и Нерон, не интересовали меня. Мужское начало не имело значения. Они были чужими. Вообще-то я ненавидел братьев. «Вот уж кого следует по-настоящему уничтожить», – думал я. По-настоящему и один раз. Были – и перестали быть. Нет, их просто не было никогда. У меня и не могло быть братьев, потому что я был единственный. Оплодотворяющий сам себя. Вообще, как говорил Сулла, я был единственным на всем свете мужчиной. И не «такого другого» быть не могло, но не было никакого. И три женщины-сестры – весь мой мир, и никакого другого нет и быть не может. Впрочем, «быть не может» – это лишнее и, главное, не верно. А правильное и единственное: нет.
Все остальное, все остальные – мир чужой, враждебный, бессмысленный и жестокий. Бессмысленность его прежде всего в том, что он велик: столько женщин, столько мужчин, столько зверей и птиц. При этом не разнообразие, а однообразие. Все женщины – всего только женщины, а все мужчины – всего только мужчины. Бесконечное повторение одного и того же. Смерти и рождения. Все зыбко, в постоянном движении, которое никуда не ведет, ни к чему не приводит. Ничего и никто не имеет смысла, потому что все проходит, а остается то, что только что прошло. Все вечно, но нет бессмертия.
Вот звезды, они всегда и неизменны: эти на своем месте, а эти на своем. Всегда. Однажды в ненастную ночь я посмотрел на небо. Вдруг среди несущихся облаков открылось четыре звезды. Одна в центре, яркая, другие, полуокружьем, бледнее и мельче. Только не недвижимые и бессмертные; и все вокруг, может быть, и вечное, но не бессмертное, потому что находится в движении: приходит и уходит, приходит и уходит. Ложь. Даже только иллюзия вечности, а не вечность. И люди рожают детей именно потому, что не верят в бессмертие. И умирают тоже поэтому. Точно так, как животные, которые об этом не знают ничего.
Я рассказал Сулле. Он ответил:
– Да.
Нет, не так. Это Сулла повел меня смотреть на звезды в ненастье, а потом говорил о них, о бессмертии и вечности. Потом, некоторое время спустя, я сам думал об этом и сказал Сулле. И он согласился со мной:
– Да.
Весь остальной, смертный мир заслуживал одного: делать в нем и с ним все, что угодно. Но если этот мир так плох и так чужд, то зачем он мне нужен вообще и не лучше ли как-нибудь не жить в этом мире?
– Не жить в этом мире, – говорил Сулла, – означает умереть. А мы говорим о бессмертии. Прежде всего надо от него оторваться. Чтобы быть бессмертным, надо верить в бессмертие, но чтобы поверить, надо оторваться. Идти все вверх и вверх, любыми путями, через любые поступки, но только чтобы вверх. Не во владычестве над миром дело, а в том, чтобы оторваться. Стоять выше всех – значит быть ближе всего к звездам. Повелевать миром не значит оторваться. Но чтобы оторваться, надо повелевать. И еще: уничтожить в себе все законы и установления этого мира. Уничтожить его так называемую «добродетель».
– Это только власть, – сказал я, – а как же бессмертие? Выше всех в мире не означает оторваться.
– Да, не означает. Но теперь я не могу сказать тебе, а скажу, когда придет срок. Тебе же нужно одно: самый верх и свобода страстей.
Я отпустил его, он вышел, но я окликнул его.
– А там, где звезды, – сказал я тихо и не глядя на него; странная робость сковала мое тело и разум, – там, наверху, наверное, холодно и одиноко?
Он сказал:
– Бессмертие не удовольствие, а бессмертие.
Он любил говорить непонятно, а я не мог приказать ему объяснить и не мог признаться, что не понимаю. От его взгляда, когда я сам не смотрел на него, у меня немело над бровями. Я подумал: «До бессмертия еще далеко», – и успокоился.
Сулла сказал мне о бесстыдстве, что это самое сильное оружие в борьбе за власть. И добавил, что я им уже владею вполне. Я закричал на него, как он смел такое сказать. Закричал, подскочил к нему, замахнувшись тяжелым светильником. Он не двинулся с места, и на лице его не выразилось страха. Я еще держал светильник над его головой, когда он повторил:
– Обладаешь вполне.
Я не ударил его. Но, конечно же, ударил. В самое темя, и его больше не было на земле. Кровь стекала по щекам и лбу, а я все бил и бил, пока рука не устала…
– Гай, – проговорил Сулла, когда я отошел, – ты всегда можешь убить меня, это в твоей власти, но послушай. Никто не может гордиться бесстыдством потому только, что установление гласит: гордиться можно доблестью, добродетелью, умом и всем таким прочим. А стыдиться: разврата, бесстыдства и вообще всякого известного зла. Когда я говорю о твоем бесстыдстве, то исключаю и гордость и стыд, потому что у тебя совсем иные цели. Разве тебе нужно, чтобы тебя почитали люди?! Или боялись, или ненавидели, все равно. Ни то, ни другое, ни третье тебе не нужно самому, а нужно только для того, чтобы идти наверх. Не благо же Риму ты хочешь принести! Бесстыдство же – это не следование идее и не отрицание ее, но способ стать выше всех. Зачем тебе гордость и стыд, зло и добро, тебе не нужно почитание людей или их ненависть, а нужно бессмертие.
Я сказал:
– Всегда успею убить тебя.
Он ответил:
– Когда станешь бессмертным, в этом не будет необходимости, а пока я свидетель.
Мне не нужен был свидетель так я чувствовал, но, может быть – и это я чувствовал тоже, – Сулла был прав.
Когда Сулла ушел, я позвал слугу и велел принести петуха. Слуга замешкался, и я ударил его. Он принес петуха. Я взял светильник, крепко сжал петуха рукой. Он дергался и дважды царапнул меня крылом по лицу. Я положил его на пол, на то самое место, где до того стоял Сулла, и ударил светильником по голове. Только с третьего удара я попал острым концом светильника и срезал голову. Она отскочила в сторону, далеко. Я поднял петуха над головой и обрызгал себя его теплой кровью. Злость прошла, теплая кровь утишила ее. Одного было жаль, что я не заставил петуха кричать. Вскинет голову, вытянется, прокричит три раза на заре… Для него – обычная утренняя песня, для меня – предсмертный крик.
Я ненавидел Тиберия. Не больше, чем других, кого ненавидел. Нет, больше. Я ненавидел его физически. Я и человека не ставил высоко, но Тиберий для меня не был даже человеком. Покрытая струпьями жаба, мерзкое гноящееся существо, которому я должен был изъявлять свои сыновние чувства. Я, у которого не могло быть отца. Впрочем, как и матери тоже. Он любил меня, но любовь его была, конечно, особого рода. Не меня, а мое бесстыдство любил он. А я сам был только оболочкой бесстыдства, только человеческим телом его.
Мне должны были быть безразличны и он сам, и мерзкая плоть его, и то, что он император, а я еще нет, и что в его силах сделать так, чтобы я им никогда не стал. Так мне говорил Сулла. И он был прав. Прав, потому что чистое абсолютное бесстыдство выше зависти, неприязни, даже злобы. Я пытался, но не мог побороть их в себе. Впрочем, для любви Тиберия степени моего бесстыдства вполне хватало.
Больше в угоду этой любви, чем в наслаждение себе, я ходил смотреть на казни и пытки. Крик человеческой боли и жуткая человеческая смерть не страшили меня. Хотя, не скрою, порой меня тошнило от крови. Особенно когда ее запах мешался с запахом пота. Чистый ее запах был мне даже приятен. Как и беспримесный запах пота, когда я, надев накладные волосы, отправлялся в самые грязные кабаки, где потные проститутки танцевали голыми на грязном полу, а пьяные потные солдаты хватали их липкими жирными руками. Не грязь я видел здесь. Я не видел грязи, но голые страсти: самые дикие, самые голые. И потому естественные. Я тоже хватал проституток за вислые бедра, и пальцы мои были липкими, а запах пота острым. Когда я ухватывал кожу пальцами, мне хотелось вырвать кусок плоти и, может быть, окропиться кровью. Но я не мог, не смел и довольствовался только синяками. Женщины визжали, и хотя им было больно, то был крик страсти, а не боли. Тем более что боль всегда присутствует в страсти.
Тиберий чувствовал приближение смерти, его плоть уже разложилась, а дух… разложился и смердел, наверное, с самого рождения. Он поощрял меня в моих удовольствиях, и мне передавали, как он говорил, что сам вскармливает ехидну для римского народа. Как будто этот народ достоин чего-то лучшего! И как будто не все равно, лучшее или худшее, когда впереди у каждого все равно смерть. Только бессмертие дает смысл (хотя Сулла и говорил, что бессмертие выше смысла). Но разве знал об этом смердящий дух Тиберия, и разве мог знать это так называемый римский народ? Страдания смертного, как и счастье смертного, не имеют никакого значения и смысла. Тиберий же думал, что имеют.
Он думал, я буду страдать, когда отправил мать и братьев в ссылку. Когда меня привезли к нему на Капри, он обласкал меня, а его враги понуждали меня высказать хоть какое-нибудь неудовольствие, пусть и самое слабое, участью моих родных. Глупцы, они думали, что я способен страдать о ком-то, думали, что я способен ненавидеть Тиберия. Ненавидеть, как принесшего мне зло. А я ненавидел только его смердящую плоть.
Что касается родных, то какие родные могли быть у меня? Мать? Но матери у меня не было в первую очередь. Конечно, я все-таки, наверное, вышел из женского лона. Но не так, как все, а, допустим, путем кровосмешения. Вопреки установлениям, противно всяческим установлениям. Бедный Германик, полагавший, что я его сын!
Но что говорить об умерших? Когда прах их развеет ветер, сможет ли кто-либо с абсолютной точностью сказать, что они жили когда-то? Их нет и, значит, не было никогда. А все, что люди называют памятью, есть одни только выдумки. Все равно как те, что выдумывают поэты. Выдумки из страха смерти, перед прахом, развеянным дуновением ветра: если живут в памяти, то как будто и бессмертны. Здесь я имею в виду самый настоящий физический смысл, а не какой-нибудь переносный. Вот поэт убивает героя, а назавтра – на следующем представлении – он живет опять. Опять умирает и снова живет, так что вроде бы никогда не умирает, а живет всегда. Здесь смерть становится выдумкой, а не жизнь. Знаю, что один только я осознаю это, никто больше не осознает. Однако театральные представления любят именно за это. Хотя и не знают – за что. Все ложь и выдумки.
Как и сама жизнь тоже. Люди живут так, будто закончившееся их смертью представление в день следующего представления начнется снова. Непонятно, чего вы так визжите, когда вас убивают, если уже в день следующего представления… В том-то и дело, что не будет вас в день следующего представления. А выдумки о вас – это не ваша жизнь, а лишь выдумки еще живущих.
О том, что я жил с сестрами, знали все. Но то, что Друзилла была для меня тайной, и тем более то, что я не мог ее рассмотреть как следует, – об этом никто знать не мог. Одни видели во мне ехидну и чудовище, другие – в большей степени благодаря «доброй» (намеренно беру в кавычки) славе Германика, моего отца, – задатки будущей доблести и славы. Но я потешаюсь и над первыми, и над вторыми. Одинаково.
У бессмертия нет ни зла, ни добра, ни низости, ни славы, а я, бессмертный, только временно жил среди смертных и больше всего хотел скорее уйти от них. Вернее, должен был этого абсолютно хотеть, но еще не достиг такого абсолюта в желаниях. Я спросил Суллу. Он ответил, что абсолютность придет сама, надо только добраться до верха. Тщета всех человеческих представлений, от самых низких до самых высоких, есть прах. Который, добавил он, так легко сдувает ветер. И власть тоже относится к этой тщете. Может быть, еще и в большей мере. Ты должен быстрее насытиться тщетой. Сначала придет презрение и тоска, потом полное равнодушие. Тут ты подойдешь к самому абсолюту, и нужно будет сделать один только шаг. Ты сделаешь его.
Друзилла. Мне так не хотелось с ней расставаться, но, когда ее выдали за Луция Лонгина, я почувствовал облегчение. Ну, может быть, я больше заставил себя почувствовать, чем просто почувствовал. Несколько дней или несколько недель, не помню… Я вдруг просто сказал себе, что женщин на свете бесчисленное множество и у всех одна и та же тайна. Всем известная, впрочем, – то есть только иллюзия тайны. И тайна Друзиллы не более сокровенная, чем у других. Если же тебе нужны сестры, то есть еще и Агриппина, и Ливилла.
…Агриппину сразу после того, как она откричала, я спросил:
– Скажи, сестра, что же такое добродетель?
Хотя она и не поверила и смотрела на меня широко раскрытыми немигающими глазами – я спросил серьезно. Она заплакала, скривив рот точно так же, как только что, когда кричала. Я больше не спрашивал. Только заставил ее снова покричать в страсти, чтобы проверить сравнение. А так, какое мне дело до добродетели, хотя бы она и была? Она, как и все человеческое, ложь и выдумки.
Я женился на Юнии Клавдилле только потому, что мне положено было вступить в брак. Ведь я должен был выглядеть как все. Но главное то, что ее отец, Марк Силан, был слишком знатным, одним из самых… Я едва вынес эти бесчисленные обряды. До чего много шума по такому ничтожному поводу! Но ведь для смертных это одно из самых главных установлений. Правда, нетерпение мое происходило еще и из-за того, что мне поскорее хотелось добраться до Юнии. Не могу сказать, что она была очень уж хороша, хотя не могу сказать и обратное. Но дело совсем не в этом. А в том, что бессмертие мое было еще так несвободно от смертности, что мне казалось: в послесвадебном соитии есть нечто такое, чего нет в соитии обычном. Неужто все эти утомительные обряды есть только утверждение установлений, а чувственно…








