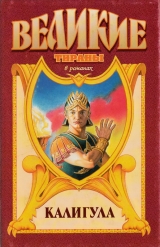
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Не помню, что было дальше. Упал, ударился, и меня понесли, или я добежал сам, и заперся у себя, и велел никого не допускать к себе. Или, может быть, как раньше, сидел на пиру с теми, которых называл своими друзьями, и велел приглянувшейся мне женщине, жене одного из сидевших рядом, выйти со мной, и там под крики пирующих делал с ней то, что делал всю мою жизнь с женщинами, заставляя их кричать то ли от боли и страха, то ли от страха и страсти. А потом возвращался со сладкой улыбкой на лице, подводил ее к мужу, усаживал рядом с мужем и долго во всех подробностях обсуждал, хороша она была или плоха, в чем хороша, а в чем не очень, но что последний ее крик был явно не притворным. Друзья поднимали чаши, и пили за мою мужскую силу, и кричали: «Да здравствует Гай! Да здравствует император!» – пьяными и отвратительными голосами.
Не знаю и не могу сказать, было ли это. Но могло быть – ведь было же прежде.
Я сидел в кресле у стола, но, когда дверь открылась и вошел Марк Силан, теперешний муж моей Друзиллы, я встал при его приближении, чего никогда не делал при приближении любого из подданных и что мне, императору, не только не положено, но как бы негласно запрещено делать. Марк почтительно склонился передо мной и произнес обычное приветствие. Я отвечал, что рад видеть его и что рад больше, чем он может себе представить. Я смотрел на него, он на меня, и вдруг я почувствовал, что не знаю, что должен говорить, и что совсем не готов к разговору.
Все я делаю не так, а нужно было посоветоваться с Суллой. Или нет – все делаю так, и нечего мне с ним советоваться, потому что я же не тот прежний Гай, а о нынешнем никто еще не знает и вряд ли кто-то сможет его свободно и спокойно принять. Да и сам я принимаю себя такого больше с удивлением и радостью, чем спокойно, как очевидную и неизменную данность.
Мы молчали долго. Наконец я сказал:
– Ты знаешь, Марк, что Друзилла мне больше, чем сестра. И вообще – больше. Ты понимаешь меня?
Он сказал:
– Да, император. – И опустил глаза.
– Не то, не то ты понимаешь, не так! – Раздражение поднялось во мне, захотелось взять его за плечи и тряхнуть с силой раз и другой, но я сдержался.
Я сдержался, помолчал опять и как можно спокойнее продолжил:
– Не о Друзилле я хотел говорить с тобой. То есть сейчас не о ней. О ней после. Сейчас обо мне, потому что того, кого ты сейчас видишь перед собой, теперь нет. И я, Гай, не тот Гай, которого знают все. Я уже не император… и не насильник, и не буйно помешанный, не тот, который отбирает жен у мужей и возвращает их, насладившись. Нет, не в этом дело, но ты понимаешь, что того прежнего Гая уже нет. Нет вообще и никогда не будет. Он не умер, его просто нет. И все, что ты знаешь о нем, – это сон. Дурной, болезненный сон. Или бред, как во время долгой бессонницы. Ну скажи мне, ты понял?
– Да, император, – отвечал он.
– Садись. Вот сюда. Так, стоя, я вижу, ты плохо понимаешь. Пойми, я не император, и не нужно говорить со мной, как с императором. Это все равно, как если бы ты говорил, находясь в комнате один. Ну, садись, садись. Ты понимаешь меня?
Я усадил его почти насильно, а сам опустился перед ним на колени и, крепко ухватив за одежду у пояса и подергивая ее взад и вперед и в стороны, спросил:
– Ты понимаешь меня, понимаешь? Понимаешь?
Он смотрел на меня испуганно, он ничего не понимал. Он видел прежнего Гая и не мог видеть иного. Он не слышал того, что я говорил, но зато хорошо видел, что я делал. И все мои движения, и звук голоса, и жесты, и нетерпение, и раздражительность, и резкие дерганья одежды, и то, что я стоял перед ним, сидящим, на коленях, – все это были проявления прежнего Гая. Я вдруг увидел себя его глазами, и мне сделалось страшно. Не оттого мне сделалось страшно, что я увидел себя его глазами, а оттого, что я увидел прежнего Гая. Не этого нового, который вынужден притворяться прежним, а того настоящего, прежнего, который почему-то не умер и который, как и всегда, проявляет нетерпение, власть и жестокость. Я с трудом поднялся, с трудом сделал два шага и опустился в кресло.
– Ты знаешь, Марк, – сказал я тихо, не глядя на него, а глядя на плитки пола перед собой; так тихо, что он, может быть, просто плохо слышал меня. – Ты знаешь, Марк, что такое одиночество каждого человека перед небом? И еще, ты знаешь, нет никакого Олимпа и никаких богов там нет, а небо не имеет конца и не имеет тверди. И не имеет лица, похожего на человеческое. Это совсем другое, это то, перед чем мы одиноки. И ты, и я, и Друзилла, и все, все люди. Пусть только я один знаю об этом, но одиноки все. Отдай мне Друзиллу, Марк! Верни мне ее! Не для наслаждений нужна мне она. Верни мне Друзиллу и сам будь со мной рядом. Ты, я, она и еще мой Сулла – вы поймете, вы должны будете понять, что такое одиночество каждого перед небом. Будем только мы четверо, пока только мы. Мы составим «братство одиноких». Мы уйдем из Рима, уйдем от власти и богатства. Уйдем, чтобы до конца понять, что такое одиночество каждого, и чтобы понять, что такое братство одиноких – не союз, не родственность, а братство. И тогда, когда мы познаем это, по-настоящему почувствуем себя братьями, мы вернемся, чтобы объяснить это другим. Нет, не объяснить – показать. Показать, что власть, богатство, сытость, вожделение не только дурные, но и бессмысленные вещи и что жить можно только законом неба, а закон земли – это отсвет небесного закона. И любой другой закон – это ложный закон темницы. В земном законе обязательно должен быть свет – звездный ли, солнечный ли, но обязательно небесный. Лучше я не могу тебе объяснить. Не умею. Это надо прожить.
Я медленно поднял голову и посмотрел на него. Он не смотрел мне в глаза, но ниже.
– Ну скажи! – из последних сил, едва сумел выговорить я.
И он, тоже, кажется, из последних сил тихо выговорил:
– Да… – А через несколько мгновений еще тише, и я только по губам понял слово: – Император.
Я хотел сказать ему, что, конечно, он не верит и не понимает, а я не могу объяснить ему всего и не могу заставить верить. Он сам, не понимая, должен хотеть поверить и пойти со мной по моему пути.
Хотел сказать это и еще что-то главное, что было во мне и не складывалось в слова, но больше ничего не смог произнести голосом. Ни единого слова.
Марк ушел незаметно. Исчез так, как если бы постепенно растворился в выступившей на моих глазах влаге. А я плакал и плакал без голоса и не мог остановиться. Было дуновение от двери, и легкие шаги, и прикосновение теплой ладони к моему затылку.
– Гай! Не плачь, Гай! Это я, Друзилла.
Не поднимая головы, я нашел ее руку, стянул ее с затылка, прижал к губам и уже не мог оторваться. Наконец я перестал плакать, слезы высохли, и я поднял глаза. Кажется, лицо Друзиллы изменилось – еще не морщины, но преддверие их уже отпечаталось на ее лице. Она села мне на колени, обняла крепко-крепко, прижалась щекой к моей щеке, так что я не мог ни шевелиться, ни говорить. Она гладила мои плечи и грудь, целовала лицо и шею, а я сидел недвижимый и безмолвный и не чувствовал ничего, что я должен был чувствовать, когда любимая ласкает тебя.
Я любил ее, но это было совсем не то, что прежде, потому что вожделения или просто мужского чувства я не ощущал в себе. Я – да простит небо мое несовершенство – стыдился того, что не ощущаю, и готов был притворно вызвать в себе вожделение и страсть. Но ничего не получалось, кроме какой-то особенной нежности: не холодной, не горячей, не теплой, а просто нежности, как к ребенку, – ничего больше, кроме этого, я ни вызвать, ни возбудить в себе не мог. Но Друзилла словно бы не замечала ничего, продолжала ласкать меня и вжималась в меня все глубже и глубже.
– Пойдем, – шепнула она, встала и потянула меня к ложу.
Я послушно пошел за ней и лег. Она сбросила с себя одежду, раздела меня и легла рядом, прижавшись ко мне всем телом.
Я согласен был так лежать с ней. Я даже легонько проводил рукой по ее спине. Только одно было плохо – что оба мы были обнажены и мне, может быть, впервые за всю мою жизнь сделалось стыдно. Протянул руку, чтобы достать покрывало и прикрыться, но, как ни силился и ни вытягивал руку, не мог дотянуться. Ложе мое оказалось слишком широким, а Друзилла обнимала меня и прижималась ко мне слишком крепко. Впрочем, скоро я оставил попытки и сказал себе, что и это нужно вытерпеть, тем более что Друзилла перестала лежать недвижно, а стала проделывать со мной то, что проделывала прежде. Скорее даже то, что я с ней делал раньше, чему я сам ее научил. Мы словно бы поменялись местами, и это она была мужчиной, а я женщиной, она была в силе и во власти наслаждения, а моим уделом была покорность. И я покорялся. Это оказалось совсем нетрудным, тем более что ни для сопротивления, ни для просьб не делать со мной то, что она делала, у меня не хватало сил.
Будь это прежним временем и будь я прежним Гаем, я с удовольствием описал бы все те вещи, которые она проделывала со мной. Две или три были новые, незнакомые мне. Но это если бы я был прежним. Но я уже не был им и покорился, как женщина, подчиняющаяся силе. У меня, как у женщины, кроме покорности, не было другого выхода. О небо! Я никогда не мог себе представить, какая это мука, когда человек подвергается насилию. Когда женщина – а я теперь был на месте женщины – подвергается насилию и терпит его бессловесно. Как это страшно и как это унизительно даже тогда, когда насилие над тобой совершает любимая. Насилие все равно насилие, кем бы оно ни совершалось. А разве этого мне хотелось от нее? И разве для такого воплощения предназначена была моя нежность, которую я и сейчас, несмотря на унижение, все равно чувствовал к ней? Не знаю как, не знаю почему, но нежность была сильнее. Я закрыл глаза и стал опускаться куда-то, удаляться от нее. И от себя самого тоже. Я почти перестал слышать ее учащенное дыхание, стон и вопли, мне даже порой казалось, что это кричит не страсть, а страх и что ее, мою Друзиллу, мою сестру, жену, больше, чем сестру и жену, подвергают насилию другие, другой. Другие, со злыми и беспощадными лицами. И если я сейчас не приду на помощь, они растерзают ее и ее больше не будет никогда.
Мне нужно было скинуть с себя оцепенение, вернуться в себя, открыть глаза, отобрать ее у них, может быть, бежать с ней. Но я не мог. И ее крики, стоны делались все отдаленнее, словно бы не те, другие, терзали ее, а сама смерть обхватила ее плотно, и мне уже никогда не вырвать ее из смерти.
Я знал, что еще не поздно, знал, что нужно было сделать и что можно было сделать, чтобы не допустить необратимости. Я должен был просить у нее прощения, и она должна была простить меня. Прощение за все, что я делал с ней, за то, каким я был, за то, как жил и властвовал. И еще за то, что родился ее братом и смешал ее кровь со своей, бездумно и жестоко. Любое наказание, которое она бы потребовала для меня, я принял бы с благодарностью. Пусть она потребует все, что угодно, даже моей смерти, лишь бы простила. Ее прощение было необходимо теперь больше, чем способность дышать и жить.
Я произносил это раз за разом в себе, и, хотя губы не издали ни единого звука, произносимое мной переполнило меня настолько, что я ощутил боль в каждой частичке своего тела, боль стала невыносимой, и мне показалось, что меня вот-вот разорвет на части. Сознание мое помутилось – и тут я открыл глаза.
Я увидел перед собой искаженное болью лицо (не болью страха, а болью страсти), настолько страшное, что в первую минуту мне почудилось, что это вовсе не Друзилла. Не она, не другая женщина или мужчина и не человек. Не человек, а злой дух в человеческом образе, и что, может быть, дух этот не земного, а какого-то другого происхождения. Не говорю – небесного, но другого. Страсть ее была дикой, никогда не видел ее такой и никогда не думал, что увижу. Наверное, прежде таким же был я. Прежде, когда сам совершал над ней насилие – и кричал, и вопил от страсти. Вот он, злой дух, в самом чистом виде. Страсть и вожделение – самое точное воплощение злого, самое действенное и простое.
Когда я увидел такое ее лицо, я не посмел не только сказать ей что-либо, но даже и подумать о словах прощения. Пусть я ее сделал такой и это моя вина, и мне ничем не искупить ее. И нечем. Но разве я могу просить прощения у этого злого духа и разве он сможет, если даже я решусь, принять мои слова?
Нежность, которую я ощущал к ней, исчезла тоже. Она перестала быть, как будто ее и не существовало никогда. Друзилла – а это все-таки была она – забилась в судорогах, и застонала, и замерла, тяжело дыша. И лицо ее, каждая черточка ее лица словно бы оплавилась и медленно стекла вниз, стерев сначала выражение лица, а потом и само лицо.
Она не легла рядом со мной, а упала рядом. Рука ее, рухнувшая на мою грудь, была холодна. Так она лежала некоторое время, то вздрагивая всем телом, то замирая.
Прошло много времени, прежде чем я почувствовал, что рука ее потеплела, а когда повернулся к ней, увидел, что лицо ее сделалось прежним: красивым, нежным лицом моей Друзиллы. Трудно было представить, невозможно было представить, что вот только недавно это было лицо злого духа, кричащего надо мной, терзающего меня, уничтожающего и меня, и себя.
Я привстал, дотянулся до покрывала, накрылся сам и накрыл Друзиллу. Она открыла глаза, резким и сильным движением руки сбросила с себя покрывало, тихо и устало проговорила:
– Жарко. – И лежала обнаженная передо мной, а мне отчего-то неловко было смотреть на ее наготу.
Я отвернулся. Я думал, что сейчас не время говорить с ней, но мне очень хотелось. И как ни странно, казалось, что такого другого случая может не представиться. Но мешало наше ложе и еще то, что она была обнажена.
Я долго не решался начать. И тут рука Друзиллы стала гладить мне грудь, живот, и я почувствовал, что если я сейчас не начну свое, она начнет свое, то есть будет снова делать со мной то, что делала только что. Я перехватил ее руку, стиснул, стянул со своей груди на простыню, прижал. И тут же сказал – торопливее, чем собирался:
– Знаешь, мне обязательно нужно сказать тебе. Обязательно нужно сказать тебе что-то… Ты слышишь меня?
– Слы-ы-шу, – отозвалась она, растягивая звуки, и в том, как она это произнесла, в самих звуках было то же самое, непереносимое мной вожделение.
И потому я заговорил торопливо, уже не только для того, чтобы сказать, а больше для того, чтобы прикрыть вожделение звуками собственного голоса и не слышать, не ощущать, не замечать его.
Я говорил ей о небе, об одиночестве каждого перед небом, о том, что тот прежний Гай умер и никогда не воскреснет. Я не допущу, если это даже будет возможно, чтобы он воскрес. И еще я сказал ей о том, что Олимп и боги на Олимпе – одни только людские выдумки и что все наше рождение и вся наша жизнь есть рождение и жизнь в темнице. И что тот закон, по которому мы живем, есть закон неволи. И это плохой, ложный закон, а есть закон неба, которого я не знаю, но знаю, что он есть, и что для познания его нужно жить по-другому и стать другим.
Еще я ей сказал, что, кроме нее и Суллы, нет у меня на земле ни одного близкого человека. И еще, что я ощущаю к ней такую нежность, которую невозможно выразить словами. И еще то я сказал ей, что вожделение, которое она испытывает, есть самое низкое, самое подлое из того, что может испытывать человек. Это надо понять, надо как бы родиться заново, отбросив прежнего себя и никогда не возвращаться к прежнему.
Еще я ей сказал, что хочу создать «братство одиноких», в котором сначала будут только трое – я, она и Сулла. И мы уйдем из Рима – от власти, славы, богатства, удобства и роскоши жизни. И главное, от самих себя прежних. Забудем себя, чтобы стать другими, чтобы познать закон неба, и потом, когда мы познаем его, вернемся и принесем его людям.
Говорил, повторял, говорил снова и уже не сознавал, что говорю, но сознавал, что не могу остановиться. Наконец, словно бы слова закончились во мне, я замолчал. Молчал, лежал неподвижно, боясь повернуться к ней, и ждал, ждал, ждал ее ответа.
Услышал, как она вздохнула и потянулась и опять вздохнула лениво и с удовольствием.
– Как ты все это красиво говоришь, Гай, – сказала она лениво и отрешенно, повернувшись ко мне и обняв меня. – Я никогда не думала, что ты так можешь.
– Ты не слушала меня.
– Нет, Гай, слушала. Мне было так интересно. Ты ведь никогда со мной не говорил.
– Но ты поняла? Ты поняла, что…
– Не знаю, но мне было приятно.
Я почувствовал унижение, почти такое же, как и тогда, когда она совершала надо мной насилие. И еще досаду. Досада, может быть, была даже сильнее унижения.
– Ты знаешь, – проговорил я и не узнал собственного голоса – таким он был притворным и уж слишком очевидно стремившимся быть естественным, – я хотел спросить тебя: ты любишь мужа?
– А? – сказала она.
– Да, мужа. Ты любишь Марка?
– Зачем ты спрашиваешь, Гай, – проговорила она холодно. – Ты ведь знаешь, что я люблю только тебя.
– Значит, то, что я сказал… Ты принимаешь то, что я сказал?
– Не знаю, Гай… Конечно, принимаю. Как ты хочешь.
– Ты понимаешь, что всем нам нужно бросить и уйти…
– Конечно, – кивнула она, – я пойду с тобой. Как ты захочешь. Только не оставляй меня и не отдавай… ну, никому. Я не хочу возвращаться…
– Нет, нет, – я обнял ее, – я тебя никому не отдам.
Нежность. Я снова почувствовал ту же самую нежность. Мне хотелось взять Друзиллу на руки и уложить в себя, внутрь себя. Я провел рукой по ее лицу и шее, прижал ее голову к груди:
– Мы пойдем вместе, и я никому тебя не отдам.
Мы долго лежали обнявшись. Так можно было лежать
всегда, вечно, и ничего больше не нужно было: она со мной, во мне, и весь мир во мне, и нет для меня другого мира.
– Гай! – Она подняла голову и потянулась к моему уху. – Ты меня слышишь?
– Да, – тоже едва слышно ответил я.
– Гай, я опять хочу тебя.
– Но… – начал было я, но она накрыла ладонью мои губы: – Я опять хочу тебя.
– Но, Друзилла, ты же сама сказала… – Мне трудно было говорить, потому что она не отнимала ладони.
– Нет, нет, молчи, ведь ты же любишь меня. И я люблю. Разве ты не любишь меня, Гай?
– Да… – только и успел ответить я.
А губы ее уже целовали мою грудь и нетерпеливо скользили все ниже и ниже.
В этот раз я не был холоден. Страсть пробудилась во мне, настоящая прежняя страсть. Не думал, что она когда-нибудь может вернуться. Но, кажется, за то время, пока она дремала во мне, она стала какой-то отчаянной и откровенной. Мы кричали, мы делали друг с другом то, что не делали никогда, наслаждались и не могли насладиться. Я забыл обо всем и не хотел ни о чем вспоминать. Страсть правила мной. Друзилла правила мной, и мне было хорошо. Не было никакого злого духа, и лицо Друзиллы казалось особенно красивым. Я обо всем забыл, я совершенно обо всем забыл. Мне было все равно, было безразлично, тот ли это Гай, которого я называл умершим, или этот – возродившийся и живущий. Я ни разу не подумал об этом.
Потом мы снова лежали рядом – тела, только тела. Усталые, утомленные до бесчувственности. И теперь я не тянулся за покрывалом, чтобы прикрыть наготу. Она не была стыдной, она просто никакой не была. Нагота или нет – какая разница, с наготой даже удобнее.
Мне кажется, что мы не покидали комнату несколько дней. Это так кажется, я не знаю точно – пусть и несколько часов не выходили, но, значит, эти несколько часов растянулись надолго.
Она сказала мне:
– Ты не отпустишь меня?
Я сказал:
– Да.
– Никогда? – сказала она.
– Никогда, – отвечал я. – Только сейчас иди побудь с Марком. А потом – никогда.
Она молча оделась и молча вышла. Я не ощущал себя предателем и не ощущал себя нарушившим слово. Дело в том, что не ощущал себя никак: ни прежним Гаем, ни нынешним, ни императором, ни не императором. Я был только одно опустошенное страстью тело, и уже не тело правило мной, не страсть, а одни только усталость и утомленность. И еще – опустошенность и равнодушие. Нежность, любовь или сама страсть, все это было не важным и не занимало меня. Дух, небо, новый Гай – этого просто не было. Не перестало быть, но словно и не было никогда.
Я, впрочем, помнил о том, что надо же что-то делать. Что если я так буду продолжать сидеть в комнате, то не только власть моя кончится, но и жизнь. И тогда в самом деле не будет ничего – ни того пути, который был, ни этого, который только начинался.
Но как было выйти! Я не мог себя заставить. Не только их – слуг, сенаторов, друзей – я не мог видеть, но даже и просто домов, улиц, помещений моего дворца, зелени, небесного света – ничего. Знал, что должен действовать, и в то же время знал, что должен ждать. Не потому ждать, что не в силах был действовать, а почему-то по-другому. Это чувство – не убеждение, а чувство, – что необходимо ждать, было сильнее знания, что необходимо действовать. Я словно бы потерял сам себя, и воля не имела уже никакого значения. Но потеря самого себя (при всей опустошенности внутри) хотя и не давала радости, но и не повергала в уныние. Потеря самого себя была закономерной. И самое большее, чего я мог страшиться, это вернуться в самого себя и продолжать жить волей, а значит, страстями, прихотями, случайно пришедшими решениями. Да и просто правотой сознания, которое на самом деле не может быть правотой.
И я понял, что жить волей – значит жить в неволе.
Сколько же мне лет? Порой я забывал сколько. Порой казалось, что я только-только родился и не знаю ничего и понять ничего не могу. А порой казалось, что я дряхлый старец и порог смерти в каком-нибудь шаге от меня. И даже в полушаге. А я тоже ничего не знаю, не ведаю и ничему не научился.
Передо мной стоял человек. Первое было: кто посмел войти сюда без моего разрешения?! Это было императорское. И тут же, зачеркнув императорское, было: кто же пожалел меня и, несмотря ни на что, пришел разделить со мной мое одиночество?
Сулла. Это был он. Плохо осознавая, что я делаю, и не успев ни о чем подумать, я бросился к нему, обнял его и закрыл глаза. Шептал – не помню, про себя или вслух: «Где же ты был так долго! Почему и за что ты оставил меня!» И долго не мог от него оторваться. Не мог оторваться как от единственного моего друга или скорее как от собственного страдания, от которого я бежал и одновременно без которого не мог жить.
Наконец мы сели: я в свое кресло, он напротив меня. Мне трудно было поднять на него глаза. Не стыд за то, что я так обращался с ним, не мое прежнее императорство, а что-то другое было причиной. Мне казалось, что в его глазах я увижу отражение собственного своего лица, а я так боялся его увидеть. Казалось, если увижу и пойму, какое это лицо, то все – я сделаю те полшага, что отделяют меня от смерти. И тогда уже не будет ничего – ни жизни, ни знания, ни страдания. Последнее мне было страшнее всего потерять.
Я не мог поднять на него глаза и не поднимал их, но все, что было у меня в последнее время, и все, что происходило со мной – небо, одиночество, «братство одиноких», – все это собралось внутри в какой-то плотный сгусток, так, как не собиралось никогда. В этом сгустке были и цельность, и четкая разделенность на части – сам я прежде так ясно никогда не понимал, что такое небо, одиночество под небом и «братство одиноких». Что такое мир в темнице и что такое страдание. И что страдание есть освобождение из темницы и путь к небу.
И тут Сулла сказал:
– Да, Гай, я внимательно слушаю тебя.
Я не произнес еще ничего, ни единого слова, а он уже назвал меня Гаем и сказал, что слушает. Если бы не страх, что сгусток того, что я несу в себе, исчезнет и я вдруг снова сделаюсь пустым, я бросился бы ему на шею. Благодарность, отчаянную благодарность я ощутил к нему. Настолько сильную, что она на некоторое время прикрыла собой сгусток, потопила его в себе – я даже пошевелился, чтобы проверить, здесь ли он и не было ли его присутствие иллюзией и обманом. Нет, сгусток был. И тогда я стал говорить.
Странно, что я не помню того, что говорил, то есть ни одного слова. То, что было во мне, говорило само, и я только знал, что оно говорило ясно и правильно, так, как мне самому не дано было высказать. И даже, наверное, не дано ощутить.
Когда я закончил или, вернее, когда это закончилось во мне, я произнес уже сам:
– Ты понял меня, Сулла?
– Да, Гай, я понял, – отвечал он, и больше не было необходимости спрашивать, потому что я знал, что он понял и что теперь есть на свете человек, который вместе со мной знает о небе, одиночестве и «братстве одиноких». И еще, что страдание есть освобождение.
И он сказал:
– Ты в самом деле Божественный Гай, и если бы не небо и одиночество, которое ты открыл мне, которое выше любого из нас и выше всего, – если бы не это, то я самым высшим счастьем и самой высшей радостью почитал бы поклоняться тебе.
Я слушал его, а сам думал с сожалением: «Что же еще добавить к тому, что я сказал, чтобы получить такой же ответ!» Мне так хотелось слышать его такие слова в ответ на мои объяснения. Никогда не думал, что похвала может быть такой сладкой.
Я велел, чтобы ему приготовили комнату рядом с моими покоями и чтобы он свободно мог приходить ко мне в любое время дня и ночи. Сенатор Сулла, приближенный Сулла – чем я мог его наградить! Я уже не император, но брат. Братством? Но разве это награда! Это совместное страдание. Это он наградил меня братством в такой же мере, как и я наградил его. Не знаю, не могу больше говорить. И чем больше говорю, тем лучше понимаю, что выказываю радость, а не суть, и тем сильнее страшусь, что радость поглотит суть, потому что и у радости есть и должна быть мера. И только у сути нет ее.
Я рассказал ему о желании бежать. И он сказал «да» – так просто и бездумно, будто мы собирались на прогулку или будто мы уже совершили побег. Я хотел, чтобы он удивился, чтобы озаботился, чтобы сомнения родились в нем и чтобы я имел возможность доказать ему, что это единственный путь, единственный выход и единственная возможность освобождения. Так хотелось быть учителем, вестником неба, так хотелось быть носителем Истины, то есть обладать значительно большей властью, чем императорская. Властью убеждения внутри братства одиноких и равных.
Я вполне сознавал, что власть снова тянет меня к себе. Что привычка властвовать переходит и на братство, разрушая его. Понимал, что братство скрепляется только личным примером, а не властью поучения. Но я не мог себя преодолеть и так хотелось власти, так хотелось быть первым среди равных. И это простое «да» Суллы было неприятно мне. Я не мог простить ему того, что он так быстро понял и принял. Мне жаль было времени своих страданий и силы их, и я не мог смириться, что он так просто понял и принял меня, не пройдя моего пути.
– И ты пойдешь за мной, как бы ни было трудно? – упрямо спрашивал я его.
– Да, я пойду с тобой, Гай, – отвечал он неизменно.
Он говорил «с тобой», а я ждал и желал, чтобы он сказал «за тобой».
Оставаясь один и размышляя о братстве, я сознавал, что желанием быть первым я разрушаю его. И мне хотелось бежать, пасть на колени перед Суллой, просить у него прощения и говорить ему, говорить, что сам я не знаю ничего и что гордость и желание власти заставляют меня учить. И что не истина учит, а только это непреодолимое желание, и что мы пойдем вместе, равные, и что он должен знать это.
Но я не мог пересилить себя и не шел к нему. Говорил себе, что да, братство может быть только братством равных и одиноких, но все равно кто-то же должен вести, кто-то же должен разъяснить и утешить. Ведь все не могут знать пути, а кому-то суждено знать и вести. И это высшая ответственность, высшее проявление страдания – знать и вести. Но тут же я возражал себе, что и сам толком ничего не знаю, и когда говорю «вести», то подразумеваю собственную волю, а не волю неба, и, значит, возможно, иду не туда. Мне представлялось, что Сулла не один, а их великое множество, и их всех я веду не туда. Но разве я могу показать им свои сомнения и разве они, если я открыто о них скажу, не разрушат веру в меня и в тот путь, на который я их зову?
Я мучился, не шел к Сулле и не говорил ему о своих сомнениях. А когда он приходил, я снова говорил ему то, что говорил раньше, повторял, и повторял, и чувствовал настоящее, до этого не изведанное наслаждение от того, что я знаю и говорю, а он воспринимает и учится.
В продолжение нескольких дней я не вспоминал о Друзилле. Потом, когда разговоры с Суллой сделались почти абсолютным повторением один другого и наслаждение от того, что я учу, а он учится, если не исчезло совсем, то, по крайней мере, заметно побледнело и оставалось наслаждением только по определению, – тогда я несколько заскучал. Мне хотелось, чтобы и Сулла говорил, как он прежде говорил со мной, но он молчал, слушал меня, отвечал односложно и только повторял время от времени, что я божествен, и при этом называл меня не императором, но Гаем. Я так притомился, что если бы не небо, не братство, то я и вовсе, может быть, не смог бы выносить его присутствия. Он казался мне теперь скучным, обычным, и все то, что он открывал мне раньше, и та необходимость в нем, которую я ощущал всегда, – словно бы ничего этого никогда и не было.
Но ведь это он с самого начала говорил о бессмертии и божественности, и мне всегда казалось, что это он привел меня к тому, к чему я пришел. Даже могу сказать, что когда-то он был моим учителем. Так отчего же теперь молчит он и бессловесно внимает своему ученику! И о каком настоящем братстве можно говорить, если я веду, а он послушно идет за мной.
Я смотрел на него, и, когда раздражение поднималось во мне до самой словесной черты, я с трудом останавливал себя и произносил про себя: «Брат мой». И еще говорил себе, что люблю Суллу как друга, как брата и больше, чем друга и брата. Но когда говорил это «люблю», то вспоминал о Друзилле. Говорил о Сулле, а вспоминал ее и чувствовал к ней…
Нет, не нежность, как к ребенку, – этого не было больше, а чувствовал как женщину, как любовницу. Чувствовал как тот образ злого духа, который я когда-то видел в ее лице. И похоть – не страсть, а самая откровенная похоть – именно в лице этого злого духа проявлялась и набухала во мне. Я кричал про себя: «Брат, брат!», – я заклинал себя этим, но уже не видел Суллы, не слышал того, что кричал, а видел Друзиллу со страшным лицом злого духа, и мои крики: «Брат!» – переходили в ее истошные вопли, которые рвали, корежили и одновременно услаждали мой слух.
И тогда Сулла исчезал, а Друзилла входила – не по моему разрешению, а по моему зову, – и я нетерпеливо бросался к ней, на ходу срывая с себя одежду, и мы падали на ложе и забывали, что мы люди, и не хотели знать, что мы люди… И вообще ничего не хотели знать.








