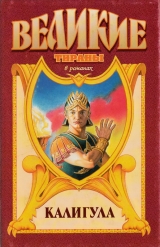
Текст книги "Гай Иудейский"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Да ты просто дрянь, – неожиданно для себя отчетливо и твердо произнес я. – Самая настоящая низкая шлюха!
Она не только не ожидала от меня такого, но, кажется, и плохо расслышала.
– Что ты сказал, Гай? Я не понимаю.
– Я сказал, что ты шлюха и дрянь, и ты готова спать с первым встречным. Ты дрянь, дрянь, и ты на все готова, чтобы только насытить свою плоть.
– Нет, Гай, нет, – простонала она, но я был неудержим:
– Дрянь, дрянь, мерзкая гадкая тварь! Энния была лучше тебя, а ты готова… Ты на все готова, только бы удовлетворить свою похоть! Дрянь, дрянь, гадина!..
Я не мог остановиться и выкрикивал слова, не понимая их смысла. Уже не слышал себя и ничего вокруг не видел и не слышал. И вдруг услышал повторяемое раз за разом:
– Ненавижу! Ненавижу!
Я словно бы открыл глаза: Друзилла стояла в двух шагах от меня, подняв руки на уровень плеч и прикрыв ладонями уши. Глаза ее тоже были закрыты. И она повторяла как заклинание:
– Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Я понял, что она, наверное, уже давно не слушает меня и повторяет свое. Гнев мой не был бы столь яростным, если бы не прикрытые ладонью уши. Почему-то это особенно прогневало меня. Глаза мои налились кровью так, что я увидел Друзиллу в красном свете. И все вокруг сделалось красным. Я подскочил к ней, схватил ее за руку и потащил к двери. Она не упиралась, но продолжала повторять свое, хотя я уже оторвал ее ладони от головы.
– Вон! Вон! – кричал я. – Тогда убирайся вон!
Мы были уже у самой двери, когда я почувствовал,
как она раскрылась за моей спиной.
– Кто?! – взревел я, резко развернувшись. – Убью!
И тут же увидел в каком-нибудь шаге от себя лицо
Туллия Сабона. Оно было растерянным. За его спиной стояли еще двое, но лиц их я не сумел рассмотреть, потому что в эту самую минуту пронзительно закричала Друзилла. Я еще держал ее руку в своей и выпустил, испугавшись крика.
На лице Туллия Сабона уже не осталось растерянности. Он не смотрел на меня, а смотрел мне за спину, туда, где должна была быть Друзилла. И стоявшие за ним смотрели туда же. Я оглянулся, и Друзилла прокричала снова – оглушающе, страшно. Ее крик оттолкнул меня в сторону, и я ткнулся спиной в стену и сполз на пол. Никто не бросился помочь мне подняться, и все последующее происходило так, будто меня не было в комнате.
Они бросились к Друзилле, поймали ее и повалили на пол. Она уже не кричала, а только стонала хрипло. Один из вошедших держал в руках кусок толстой материи красного цвета (но, возможно, это мои глаза видели его красным). Они набросили материю на Друзиллу, обернули ее, подняли и понесли к двери. На меня они не смотрели – прошли мимо, громко топая и шумно дыша. Я почувствовал запах казармы. Голова и тело Друзиллы были укрыты красным, и только ноги от колен оставались открыты. На одной ноге не было сандалии, и розовая нежная ступня моей Друзиллы особенно поразила меня. Чем? Я не знаю чем, но мне стало невыносимо больно, и я закрыл глаза.
Когда я открыл их, вокруг было тихо, и я самым настоящим образом ощутил, что меня нет здесь.
Прошло несколько дней. Я не хотел думать о Друзилле, и, если бы не розовая ступня, которую я увидел в последний миг, я бы сумел не думать. А так было трудно забыть: нежность кожи, особенный любимый мною запах – терпкий и возбуждающий, родной, – ее пальчики, каждый изгиб которых я знал наизусть. Все это виделось мне во сне и наяву, мучило и мешало существовать. Именно существовать, потому что о жизни, тем более полноценной, и говорить нечего.
Я звал к себе Суллу. Он приходил, был почтительным и грустным, не говорил мне «Гай», а неизменно и подчеркнуто говорил «император». И мне отчего-то трудно было попросить его называть меня по имени – трудно, потому что стыдно. И вообще, стыд в эти дни, кажется, заполнил и меня самого, и все вокруг. Я не мог смотреть в глаза даже слугам, говорил отрывисто и старался поменьше видеть людей.
Я сказал Сулле, чтобы он ехал со мной на морскую прогулку ночью. Я хотел, чтобы он, как когда-то прежде, рассказывал мне о звездах – в это время года они были особенно ярки. Мы отплыли от берега, я велел гребцам поднять весла, лег на спину и стал смотреть на звезды, а Сулла, сидевший рядом, поднял руку и показывал мне созвездия. Он говорил довольно интересно, правда – в отличие от прежних лет, – монотонно и без энергии и, главное, без убежденности. А я слушал, но мне было скучно. И хотя было интересно, я мало что понимал. Порой я переставал понимать совсем, и голос Суллы рядом оставался только фоном – как шум ветра или плеск волн. Я смотрел на звезды, но что мне было за дело до их красоты и яркости, до гармонии созвездий. Ведь я смотрел на них только для того, чтобы не видеть ничего другого, чтобы не ощущать это мерзкое чувство стыда, похожее на нечистоту тела, которое зудит, и чем больше расчесываешь его, тем невыносимее зуд.
Мы не говорили с Суллой о Друзилле, но я понимал, что он знает все. И знал, что осуждает, – никак по-другому быть не могло. Но я ждал, что он заговорит. Нет, не осуждающе, я не вынес бы этого, а заговорит, жалея меня, а не Друзиллу. Ведь это я был подавлен, и меня наполнял стыд, похожий на нечистоту тела, и – ведь это я был одинок. Одинок, как никто в целом мире.
Но Сулла не понимал этого, он монотонно, хотя и интересно, говорил мне о звездах. О своих звездах, потому что они теперь были только его.
Неожиданно я почувствовал такую злобу, что, резко поднявшись на локтях и толкнув его в плечо (отчего он упал на бок и остался так лежать, подобрав под себя ноги и втянув голову в плечи), проговорил с нехорошим смешком:
– Если я велю выбросить тебя за борт, а берега не будет видно, ты поплывешь, ориентируясь по звездам, или сразу пойдешь ко дну?
Он не ответил и не пошевелился. Тогда я что было сил, не вставая, пнул его ногой. Я не понял, куда ударил его (было совсем темно), но нога словно провалилась во что-то мягкое, неживое, противное, как полуразложившаяся плоть. Именно поэтому я не ударил его второй раз, встал, отошел к носу лодки и велел гребцам грести к берегу.
Я уже не раз говорил, как противны мне были эти так называемые государственные дела. Порой меня от них просто тошнило. Очень редко они забавляли меня – редко и ненадолго. Я всячески их избегал. Но бывало, что уйти от них оказывалось невозможно.
Мне принесли послание от Петрония, которого я отправил усмирять Иудею – евреи так и не приняли в свои храмы моих статуй, и в регионе было неспокойно. Петроний со своими легионами дошел до Птолемиды, города на границе Галилеи [21]21
Галилея – одна из областей Палестины (северная ее часть), самая населенная и плодородная; столица Тивериада. Галилея была родиной Иисуса Христа, там он читал свои первые проповеди.
[Закрыть]. С собой он вез несколько моих статуй. Но евреи не допустили его в свои храмы, а вторгнуться туда силой Петроний почему-то не решился.
Он писал мне, что обстановка очень сложная и жесткие меры принесут один только вред. Делегация местных жрецов объяснила ему, что дело не в статуях императора – они с удовольствием приняли бы их, – а в том, что в их храмах нет никаких изображений вообще: ни человеческих, ни божеских. В конце послания Петроний заверил меня, что готов принять по отношению к бунтовщикам самые решительные меры.
Я разгневался. Тем более что настроение мое в последние дни и без того было не самым лучшим. Счастье Петрония, что его не было рядом. Видите ли, он готов принять решительные меры! Почему же он до сих пор их не принял? Ведь не для переговоров же я послал его с тремя легионами в эту проклятую Иудею.
Я позвал секретаря и продиктовал ответ. Я написал ему, что если он немедленно не примет против бунтовщиков решительных мер, то эти меры я приму против него самого.
Велел доставить это письмо Петронию как можно скорее, хотя понимал, что раньше тридцати – сорока дней его все равно не смогут доставить.
Проклятые иудеи не давали мне покоя. Я видел в них своих самых главных врагов. Вслед за посланием Петрония из Иудеи пришли вести из Александрии [22]22
Александрия – город, основанный в Египте в 332–331 гг. до н. э. Александром Македонским. При Птолемеях (305 – 30 гг. до н. э.) – столица Египта и центр эллинистической культуры. Завоевана Римом. Один из главных центров раннего христианства.
[Закрыть], еще более тревожные. Там разразился самый настоящий бунт, восстало чуть ли не все еврейское население. До этого считалось, что именно еврейская община Александрии особенно предана Риму. Я был уверен, что дело с моими статуями в их храмах пройдет в Александрии гладко. Но я ошибался – они тоже не приняли моих статуй.
Впрочем, тамошняя римская администрация, в отличие от Петрония, без всяких ко мне посланий действовала решительно. Юлий Флакк, наместник в Александрии, был большим ненавистником евреев.
Кстати, сам Флакк был самым настоящим вором, если называть вещи своими именами. Он достался мне еще от Тиберия, и я его не сменил только потому, что в том регионе нужен был жестокий наместник, а жестокость его, казалось, не знала пределов. Но он был вор. Все наместники в той или иной степени были ворами – так уж повелось, и ничего страшного в этом не было. Никто их ворами не называл, потому что желание взять больше положенного тебе присуще человеческой природе. Но Флакк брал слишком много, и алчность его не имела пределов. Мне было известно, что он обложил личной данью едва ли не все население, не говоря уже о богатых людях. Но мало этого – он мог войти в любой дом и взять открыто то, что пожелает, взять бесстыдно и нагло. А это уже было преступлением, это уже накладывало пятно не на него только, но на Рим, потому что римский наместник, хотя бы внешне, должен оставаться чист. У меня было давнее желание призвать его к себе и расправиться с ним жестоко в назидание другим и еще для того, чтобы показать, что император блюдет честь Рима и защищает от лихоимцев своих подданных. Я бы так и сделал, но рвение Флакка в борьбе против евреев оказалось мне на руку. Особенно теперь, когда они вошли в открытое и дискредитирующее власть неповиновение.
Здесь Флакк и развернулся в полную силу. Он не уговаривал, не убеждал, как Петроний, – такого рода дипломатия была чужда его нраву. Он просто объявил, что, если статуи императора не примут в храмах, он поголовно уничтожит все местное еврейское население. Чтобы оценить степень его угроз, нужно было знать Флакка. Я его хорошо знал, а вот местное население оценивало его явно недостаточно. И поплатилось за это.
Должен признаться, что упрямство евреев очень раздражало меня, а иногда и пугало. Я уже говорил раньше, что не мог постичь, почему люди – и не какие-нибудь жрецы или фанатики, а все население поголовно – ценят жизнь значительно меньше, чем веру в своего бога. Нет, этого я никогда не смогу понять, потому что ведь человек может почитать бога и поклоняться ему, только когда он жив. Если у него отнимают жизнь, то одновременно с этим отнимают и бога: мертвый не может не только верить, но и вообще не может ничего – ни чувствовать, ни говорить, ни видеть. Нет жизни, нет и бога. И если вы уж так хотите, чтобы у вас был бог, то хотя бы во имя этого цепляйтесь за жизнь во что бы то ни стало. Если бы этого не понимали единицы – фанатики есть везде, и самое глупое убеждение для них сильнее самой очевидной логики, – но чтобы весь народ!.. Нет, понять я не мог, и это пугало меня.
Юлию Флакку такие размышления, разумеется, были чужды. Оно и лучше, потому что мысль мешает действию, уже не говоря о сомнениях. Если он приказал, то требовал беспрекословного подчинения.
Когда закончился срок его ультиматума, а статуи императора, то есть мои, не допустили в храмы, он велел их поставить туда насильно. Когда толпа пыталась этому помешать, он велел солдатам смертно бить людей направо и налево, не разбирая, кто перед ними – женщины, дети или старики. Тогда же побито было много народу.
Но если кто-нибудь подумает, что это испугало людей, то ошибется. Это испугало бы кого угодно, только не евреев. Все еврейское население Александрии вышло на улицы. Флакк было распорядился разогнать толпу, но разогнать несколько десятков тысяч человек не так просто (а по некоторым данным, их и вообще было больше ста пятидесяти тысяч). Для этого нужно организовать специальную войсковую операцию. Флакк вполне был готов к этому, но не хотел терять времени и решил еще раз испробовать метод устрашения вместе с очередным унижением евреев. Были схвачены тридцать восемь человек, самые уважаемые народом люди – влиятельные члены верховного совета, философы. Их заковали в цепи, на глазах у всех проволокли по улицам в цирк и здесь, под гиканье ликовавшей александрийской толпы, подвергли бичеванию. Да, им было больно, и они вопили от боли. Им было страшно, и они визжали от страха. Но разве хотя бы один из них покаялся! Ни один. Они молили о пощаде, но никто не желал подчиняться.
Флакк пригрозил уничтожить все еврейское население, и я не поставил бы и пару мелких монет за того, кто усомнился бы в этом. Если бы не мерзкая, позорящая Рим алчность Флакка; ему бы цены не было. Он бил евреев на улицах, сажал их в тюрьмы, обирал до нитки (правда, в этом случае казна государства не выигрывала ничего, зато его собственный карман оказывался в очень даже значительном выигрыше). Он решительно запрещал их богослужения и сходки, приказывал есть свинину и кормил их насильно и, главное, заставлял поклоняться и приносить жертвы нашим богам.
Должен признаться, что, несмотря на все его, в данном случае, похвальное рвение, результат оставался минимальным, а вернее, результата не было вовсе. Если человеку запихивают в рот кусок свинины, а потом принуждают проглотить, и он все-таки проглатывает – это не означает еще, что он подчинился, чтит императора и забыл своего проклятого бога.
По сути, Флакк не был виноват, никто бы не сделал своего дела лучше, чем делал его он. Но я был разгневан, и гнев мой обрушился на Флакка. Понятно, что поводом для вызова его в Рим оказались его алчность и мздоимство. Мое решение пришлось сенаторам по вкусу – многих из них привлекала его «хлебная» должность, и всякий мечтал пристроить на нее какого-ни-будь своего родственника. Флакк еще хорошо отделался – тут наворованные им деньги бесспорно сыграли свою роль, – он был приговорен всего лишь к изгнанию, хотя первоначально ему угрожала смертная казнь.
Воспользовавшись этим обстоятельством, евреи Александрии прислали в Рим свою делегацию. Ее возглавлял некто Филон [23]23
…некто Филон, по прозвищу Филон Александрийский. – Философ и религиозный мыслитель Филон Александрийский (ок. 25 г. до н. э. – ок. 50 г. н. э.) соединил иудаизм с греческой философией, прежде всего со стоическим платонизмом. Дал христианству идею богочеловека, посредника между небом и землей. Разработал аллегорический метод истолкования Библии, оказал влияние на последующее богословие своим учением о логосе.
[Закрыть], по прозвищу Филон Александрийский. Говорили, что он философ и очень уважаемый народом человек. Но я не любил философов – кому нужны их абстрактные умствования! Мне вообще всегда казалось, что все они мошенники и всю свою философию придумывают только для того, чтобы казаться выше других и получать от этого какие-то блага. А главное – ничего не делать: сиди себе, изрекай нечто непонятное для других и требуй за это непонятное уважения и денег. А некоторые (я знаю парочку таких – один сенатор, другой просто богатей) поддерживают этих бездельников, носятся с ними, держат их возле себя. Пусть обманывают кого угодно, но я-то понимаю, что все это небескорыстно – кто поддерживает этих мнимых умников, тот и сам хочет прослыть умным: «Никто не понимает мудреца, а я один понимаю». Следовательно, тебе больше почета. А где много почета, туда и деньги стекаются. Так что эти богатые хитрецы есть такие же мошенники, как и мнимые мудрецы. И этот Филон Александрийский, я уверен, из их числа.
Меня просили принять его, но я отказался. Во-первых, пусть никто не думает, что достаточно называть себя философом, чтобы сильный мира сего жаждал общения с тобой. Во-вторых, у меня были и другие резоны. Я знал, о чем он будет просить меня. Он будет просить, чтобы я отменил свое решение о постановке своих статуй в их храмах. Будет убеждать меня, что евреи, как никто, преданы Риму и императору и что для таких ценных подданных я мог бы сделать исключение. Может быть, я и мог бы сделать исключение, но вопрос не в этом. Все дело в том, что, уговаривая или убеждая меня не ставить собственные статуи в их храмах, этот мошенник как бы открыто будет смеяться мне в лицо – ведь, согласившись отменить свое решение, я, получается, признаю, что я не бог. А он, выходит, заранее не признает меня богом и никогда не признает.
Нет, этого я не мог допустить. У меня было возникло желание приказать, чтобы арестовали всю их делегацию, заковали в цепи и отправили в тюрьму (тем более что для настоящего мудреца это не должно быть так обидно). Я очень хотел сделать это с ними, но воздержался. Лишняя напряженность в Александрии меня не устраивала, потому что и мое положение было не столь прочным. Опять война, новые налоги, недовольство толпы, интриги и заговоры сенаторов – нет, сейчас я не мог себе этого позволить. Я только приказал, чтобы эту еврейскую делегацию вместе с их любимым философом немедленно отправили домой, в Александрию.
Нужно было назначить нового наместника, мне предлагали разных (каждый из предлагавших тащил своего), но я все никак не мог сделать выбор. Такого жестокого, как Флакк, назначать было нельзя, а решительного и умного не находилось. У меня даже была мысль отправить наместником Суллу, но, во-первых, я все-таки не хотел, чтобы он уезжал так далеко и надолго, во-вторых, его назначения мне бы не простили, слишком уж мой Сулла был низкого происхождения. Кроме того, Сулла, кажется, не умел убивать, а научить этому, к сожалению, можно не всякого. Так что назначение пока откладывалось.
В эти же дни в Рим прибыл Агриппа [24]24
Агриппа, царь Иудеи… был племянником Ирода Великого… – Ирод I Великий (ок. 73—4 гг. до н. э.), царь Иудеи с 40 г., идумеянин по происхождению (Идумея – южная часть Палестины, жители которой в III в. до н. э. были обращены в иудаизм), жестокий и ловкий политик, оказал важные услуги римлянам, которые и возвели его на престол. Много занимался градостроительством, подражая греческим и римским образцам. Статуи языческих богов, украшавшие построенный Иродом ипподром, унижали его народ и оскорбляли религиозные чувства верующих. В христианстве ему приписывается избиение младенцев при известии о рождении Иисуса Христа. Племянник Ирода Великого Агриппа Ирод I (10 г. до н. э. – 44 г. н. э.) в течение четырехлетнего царствования (40–44 гг.) старался приобрести любовь иудеев и исполнял фарисейские предписания. Согласно христианским источникам, в угоду иудеям казнил святого апостола Иакова и заключил в темницу святого апостола Петра. В наказание за это был изъеден червями.
[Закрыть], царь Иудеи, и я не верил, что его приезд не связан с развернувшимися там событиями, хотя внешне была выдвинута совсем другая причина. Между прочим, слишком незначительная, чтобы в нее можно было поверить.
Этого Агриппу я знал не очень хорошо. Он был племянником Ирода Великого, которого я не знал совсем. Между нами говоря, я никогда не мог понять, чем же этот Ирод был так велик, хотя мне довольно много о нем рассказывали. Ну да, построил парочку храмов, совершил несколько мелких походов против соседних племен (к тому же малочисленных и плохо вооруженных). Наверное, величие в провинции совсем иного рода и значения и с высоты Рима его невозможно как следует разглядеть.
Впрочем, сам Агриппа нравился мне, особенно своей щедростью и изобретательностью. И хотя щедрость его в отношении меня была все же вынужденной, порой казалось, что это его сущность, а не политика. Изобретательность же его заключалась в том, что он делал мне те подарки, которые мне нравились и получить которые я желал. Если в этом заключается хитрость его нации, то мне по нраву такая хитрость.
В этот его приезд было то же самое – щедрые и изысканные его дары привели меня, несмотря ни на что, в хорошее расположение духа. Агриппа был обходителен и вежлив, и я разговаривал с ним дружески.
Я ждал, что он заговорит о событиях в Иудее, но об этом он не заговаривал, а когда я стал говорить сам, выказав некоторое недовольство упрямством тамошних жителей, он отвечал мне, что воля императора есть закон для подданных и не их дело обсуждать, правильно ли поступает император или нет, а их дело подчиниться.
– А ты как считаешь? <– прямо спросил я его. – Прав я или не прав?
Он поклонился мне, улыбнулся со смирением и ответил, что император всегда прав.
– Нет, ты скажи, – не отставал я, – скажи мне честно, не боясь вызвать мой гнев: ты тоже, как и твой народ, не считаешь меня богом?
– Тот, кто держит большую часть мира в своих руках, – с прежней улыбкой отвечал он, – не может быть просто человеком.
Ответ показался мне несколько туманным. Что значит «просто человеком» – не быть просто человеком еще не означает быть богом. Кроме того, и улыбка, с которой он это сказал, была двусмысленной: то ли это вежливая улыбка, то ли насмешка над моими вопросами, то ли насмешка над сутью собственного ответа.
Я понимал, что нужно оставить эту тему, что он своей изворотливостью все равно переиграет меня, но не мог остановиться:
– Хорошо, но и Александр держал половину мира [25]25
И Александр держал половину мира, и Ксеркс Персидский тоже. – Имеется в виду Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.), царь Македонии с 336 г., сын царя Филиппа И. Победив персов при Гранике, Иссе, Гавгамелах, подчинил царство Ахеменидов, затем вторгся в Среднюю Азию, завоевал земли до реки Инд, создав тем самым крупнейшую мировую монархию древности. Ксеркс Персидский (? – 465 г. до н. э.) был царем государства Ахеменидов, сын Дария Ристаспа и Атоссы, вступил на престол в 486 г. В 480–479 гг. до н. э. возглавлял поход персов в Грецию, окончившийся поражением персов; подавлял восстания в Египте. Был убит в 465 г.
[Закрыть], и Ксеркс Персидский тоже. Значит ли это, что и они были богами? Если так, то что-то слишком много на земле богов и быть еще одним таким богом не очень почетно.
– Я сказал то, что думал, – проговорил он, поклонившись и почтительно разведя руки в стороны, – но как я, царь маленькой Иудеи, могу судить об этом? Об этом можешь судить только ты сам, владыка Рима. К тому же власть Рима сама по себе божественна. Кто же может оспорить это?
Агриппа был слишком изворотлив, и мне в этом смысле с ним тягаться не стоило. Он сказал все, ничего не сказав, но придраться к его словам было трудно. Я ушел от этой темы, и мы еще полчаса беседовали, кажется, о всяких пустяках – О погоде, скаковых лошадях, о моем корабле, который он восхищенно расхваливал.
Он ушел, а всего три дня спустя снова попросил принять его. Я усмехнулся про себя, когда он вошел, будучи уверен, что уж на этот раз разговор пойдет об Иудее. Но я опять ошибся. Он долго и витиевато говорил о своем восхищении Римом, мной, теми постройками, которые он увидел. В конце своей речи он сказал, что такого энергичного императора не было со дня сотворения мира. (Он сказал «мира», а не «Рима», я подчеркиваю это.)
Я не мог понять цель его прихода – не расхваливать же меня он сюда явился. Наконец он сказал, что хотел бы устроить пир в мою честь и просил милостиво разрешить ему это. Я милостиво позволил.
Пир был назначен на завтра. По-видимому, те три дня, что он не был у меня, он готовился к нему.
Обед был устроен в огромном шатре, раскинутом у самого берега Тибра. Такого огромного шатра я никогда не видел, он был размером с большой дворец. Украшенный гирляндами цветов, изображениями птиц и зверей, он высился на берегу как какое-то неземное сооружение. К шатру вела широкая, застеленная дорогими восточными коврами аллея, а по краям ее, от начала до входа в шатер, высились статуи. Я узнал в них самого себя. Изображен я был в виде богов: Аполлона, Геркулеса, Нептуна, Меркурия и так далее, и так далее. Статуи были хорошего качества и, что мне понравилось, – большие, больше человеческого роста. Все, кто шел со мной, смотрели на них снизу вверх. Правда, и сам я тоже, но это другое дело..
Но главный сюрприз ждал меня у входа. По правую руку высилась статуя, изображающая меня в виде Юпитера с молниями в руке, а по левую… По левую была самая высокая статуя, едва ли не в два человеческих роста: я стоял, опершись обеими руками в какую-то бесформенную глыбу.
– Что означает эта глыба? – спросил я Агриппу.
– Это облако, император, – с поклоном ответил он и, больше ничего не добавив, склонился еще ниже.
Следуя его примеру, все, кто был здесь, так же низко передо мной склонились. Я посмотрел вокруг; мне показалось, что не только люди, но и деревья, и дома вдалеке – все склонились передо мной и застыли в поклоне. И даже небо, хоть оно и было наверху – я почувствовал, – склонилось тоже. И только моя статуя стояла передо мной прямо и недвижно.
Да, моя статуя, где я упирался руками в облако, не склонилась передо мной. Но я все равно был доволен и сказал об этом Агриппе. Он было снова низко поклонился мне, но я собственноручно поднял его, обнял и сказал, что с этой минуты считаю его своим настоящим другом. Стоявшие вокруг почтительно улыбались, но я заметил, что многие недовольны.
Я вошел в шатер. Не смогу описать все великолепие внутреннего убранства, скажу только, что оно ослепляло самым настоящим образом. Зазвучала музыка, мы сели, и пир начался. Каких только кушаний тут не подавали! Агриппа затмил все, что я когда-либо видел. Несколько танцовщиц исполняли какие-то диковинные танцы. Вообще-то я никогда не смотрю на танцовщиц, через короткое время их кривлянья начинают утомлять; они хороши, как фон, да и то не всегда. Но у Агриппы было другое – я не мог оторвать от танцующих взгляда. Они были красивы, но не в этом дело. Их телодвижения были необычны, но не настолько же необычны, чтобы смотреть, смотреть и хотеть смотреть еще! Что-то тут было другое, и я не мог понять что. Мне казалось, я чувствую их запах, что они одно тело – незнакомый организм, вызывающий жгучее желание. (Я не преувеличиваю, говоря про жгучее желание, – совершенно точно, что я не испытывал прежде ничего подобного. Каждая частица моего организма желала, и мгновениями мне казалось, что я потеряю сознание.)
Я поманил Агриппу рукой, спросил, глядя на него затуманенным влагой взглядом:
– Что это?
– Это мои танцовщицы, император. Я привез их специально для тебя, – отвечал он спокойно.
– Они все еврейки? Никогда не думал, что еврейки такие… – проговорил я с придыханием, так и не найдя определения.
– В Иудее много народов, император, – улыбнулся он. – Вот эти две слева – еврейки. Одна из Сирии, а те две – арамейки. Они хорошо знают искусство любви, и если император желает в этом убедиться…
Он не договорил и по-восточному почтительно развел руками, а я сказал нетерпеливо:
– Да, да, хочу.
Агриппа рассчитал верно, и все у него было заранее приготовлено. Он повел меня в другую половину шатра, она была отделена от пиршественной залы тяжелыми парчовыми покрывалами. Собственно, это выглядело как шатер в шатре. Он откинул покрывало, пропустил меня внутрь, а сам остался за порогом. Все пространство внутри занимало ложе, то есть сам пол и был ложем – мягким, нежным, с разбросанными повсюду подушками. Светильники, свисающие со стен шатра, как-то особенно туманно его освещали.
Лишь только я опустился на пол, как вошли танцовщицы, все пятеро. Они вошли через какой-то другой ход, а казалось, что сказочно соткались из воздуха. Они были совершенно обнажены, тела их как-то странно колыхались в тумане перед моими глазами – легко, красиво, зазывно.
Они окружили меня, раздели, почти бесплотно касаясь, опустились рядом. Прильнули ко мне своими телами. О боги, как же мне сделалось сладко! Если бы я мог умереть в эту минуту, то умер бы с радостью. Не могу объяснить, что они делали со мной. Кажется, просто касались. Но если эти сладостные прикосновения есть искусство любви, о котором мне сказал Агриппа, то, значит, я не знал, что такое любовь.
Лицо одной, смуглой, с большими, чуть навыкате глазами и тяжелыми волосами, лежащими на плечах, поднялось над моим лицом.
– Как твое имя? – выговорил я, тяжело шевеля губами.
Она улыбалась мне бессмысленно – по-видимому, плохо понимала по-латыни. Я повторил вопрос. Она ответила, почему-то громко (или мне так показалось?):
– Элишева.
– Элишева, Элишева, – повторил я, чувствуя, как проваливаюсь куда-то, в нежное, сладостное, невыразимое словами.
Крики пирующих стали глуше, а счастливое мгновение достигло самого пика. Я не выдержал и закричал.
Не могу сказать, сколько длилось мое пребывание в этом шатре любви – время как бы перестало существовать, его заменили волны страсти, то поднимающие меня высоко, к самому небу, то опрокидывающие в бездну. Я летел, летел, страшась удара, но волна подхватывала меня мягко у самой земли и снова тянула вверх.
Когда я открыл глаза, я был один в шатре. Я позвал:
– Элишева!
Но никто не ответил мне. Шум за стеною шатра снова сделался близким, и захотелось туда, к этим кричащим и пьющим. Я не чувствовал усталости, которая бывает после упражнений любви, но, напротив, каждая мышца моего тела словно бы налилась силой. Пружинисто встав, я подошел к стенке шатра, провел по ней рукой, ища выход, и тут же край материи отогнулся сам собой, и я увидел Агриппу.
– Позволю себе потревожить императора, – проговорил он, как и обычно склонившись передо мной.
– Да, Агриппа, – отвечал я, дружески ему улыбаясь, – ты можешь позволить себе все, что угодно. Мне, императору Рима, не пристало чему-либо удивляться. Но скажу тебе откровенно, я удивлен. Эти женщины…
Я не договорил и только многозначительно повел глазами, а он, почтительно переждав, сказал:
– Эти женщины твои, император, и если ты соблаговолишь принять от меня столь недостойный тебя подарок…
Но я перебил его:
– Не говори так, мой друг Агриппа, это самый замечательный подарок, какой я когда-либо получал в своей жизни.
– О великий император, как мне, недостойному… – начал было он в своем восточном стиле, но я шагнул к нему и, обняв его крепко, сказал:
– Я восхищен, мой Агриппа, и этим пиром, и твоим подарком. Ты можешь просить у меня все, что ты хочешь, и я исполню любое твое желание.
– О император, – пропел он с настоящей дрожью в голосе (как и я, он был великим артистом), но я не стал его слушать, а решительно направился к своему месту, сопровождаемый приветственными криками пирующих, хотя некоторые из них уже вряд ли могли понять, кого они приветствуют, и кричали только за компанию.
Сев на свое место, я жестом приказал Агриппе сесть рядом и поднял чашу.
– Я хочу, чтобы слышали все! – провозгласил я громко, а так как шум вокруг только чуть умерился, но не затих, то повторил это еще громче: – Я хочу, чтобы слышали все! – И, дождавшись полной тишины, продолжил: – Я, император Гай Германик, говорю, чтобы слышали все. Я восхищен щедростью и великолепием пира, что задал в мою честь Агриппа, царь Иудеи и мой друг. Все, что он хочет от меня, он получит немедленно и беспрекословно – император Рима умеет держать слово. – И я обернулся к Агриппе. – Скажи, мой Агриппа, чего ты желаешь, и будет тебе!
Агриппа встал, прижал руки к груди, смиренно мне поклонился (правда, не очень низко), проговорил, выждав несколько мгновений:
– Великий император! Я всего лишь твой смиренный подданный. Для меня огромная честь и большая радость, что тебе понравилось это маленькое торжество. Благодарность и удовольствие императора столь большая награда и столь не заслуженная мной, что никакой другой я просить не смею.
– Смеешь, смеешь, – сказал я, довольно усмехаясь. – Говори, что ты хочешь получить от меня, и оставь все эти восточные штучки – мы все знаем, что ты умеешь говорить.
– Но я уже сказал императору, что никакой награды мне не нужно, своим настроением ты уже дал мне ее.
Он хотел продолжать, но я остановил его:
– Хорошо, хорошо, это все понятно: и с моим удовольствием, и с моей благодарностью. Ты мне скажи, чего ты хочешь? Проси, Агриппа, я слушаю тебя.
Но, по-видимому, восточный этикет требовал продолжения, и Агриппа снова стал говорить, что никакой благодарности, большей, чем мое удовольствие, он не хочет. Он говорил, говорил, складно и витиевато, и в какой-то момент я потерял нить его слов и слышал только звук голоса, не воспринимая смысла. Впрочем, эти его слова и не требовали внимания.
Я несколько устал от его речей, но не хотел его прерывать. Мое такое терпение, как я полагал, тоже было для него дополнительной наградой. Я и сам удивлялся своему терпению: не только не прерывал его, но в нужных местах кивал благосклонно.
Так вот слушая и кивая, я медленно обводил глазами пирующих, столы, светильники, стены, и вдруг… Взгляд мой остановился сам собой, будто натолкнувшись на преграду. Возле входа в шатер стоял человек, я не сразу узнал Туллия Сабона. Взгляд его был направлен на меня – холодный, неподвижный.








