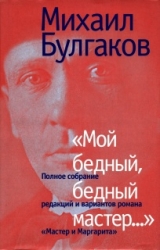
Текст книги " Мой бедный, бедный мастер… "
Автор книги: Михаил Булгаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 85 (всего у книги 87 страниц)
Удаление Степана Богдановича из Варьете не доставило Римскому той радости, о которой он так жадно мечтал в продолжение нескольких лет. После клиники и Кисловодска старенький-престаренький, с трясущейся головой, финдиректор подал заявление об уходе из Варьете. Интересно то, что это заявление привезла в Варьете супруга Римского. Сам Григорий Данилович не нашел в себе силы даже днем побывать в том здании, где видел он залитое луной треснувшее стекло в окне и длинную руку, пробирающуюся к нижней задвижке.
Уволившись из Варьете, финдиректор поступил в театр детских кукол в Замоскворечье. В этом театре ему уже не пришлось сталкиваться по делам акустики с почтеннейшим Аркадием Аполлоновичем Семплеяровым. Того в два счета перебросили в Брянск и назначили заведующим грибозаготовочным пунктом. Едят теперь москвичи соленые рыжики и маринованные белые, и не нахвалятся ими, и до чрезвычайности радуются этой переброске. Дело прошлое, и можно сказать, что не клеились у Аркадия Аполлоновича дела с акустикой, и сколько ни старался он улучшить ее, она какая была, такая и осталась.
К числу лиц, порвавших с театром, помимо Аркадия Аполлоновича, надлежит отнести и Никанора Ивановича Босого, хоть тот и не был ничем связан с театрами, кроме любви к даровым билетам. Никанор Иванович не только не ходит ни в какой театр ни за деньги, ни даром, но даже меняется в лице при всяком театральном разговоре. В не меньшей, а в большей степени возненавидел он, помимо театра, поэта Пушкина и талантливого артиста Савву Потаповича Куролесова. Того – до такой степени, что в прошлом году, увидев в газете окаймленное черным объявление о том, что Савву Потаповича в самый расцвет его карьеры хватил удар,– Никанор Иванович побагровел до того, что сам чуть не отправился вслед за Саввой Потаповичем, и взревел: «Так ему и надо!» Более того, в тот же вечер Никанор Иванович, на которого смерть популярного артиста навеяла массу тягостных воспоминаний, один, в компании только с полной луной, освещающей Садовую, напился до ужаса. И с каждой рюмкой удлинялась перед ним проклятая цепь ненавистных фигур, и были в этой цепи и Дунчиль Сергей Герардович, и красотка Ида Геркулановна, и тот рыжий владелец бойцовых гусей, и откровенный Канавкин Николай.
Ну, а с теми-то что же случилось? Помилуйте! Ровно ничего с ними не случилось, да и случиться не может, ибо никогда в действительности не было их, как не было и симпатичного артиста-конферансье, и самого театра, и старой сквалыги Пороховниковой тетки, гноящей валюту в погребе, и уж, конечно, золотых труб не было и наглых поваров. Все это только снилось Никанору Ивановичу под влиянием поганца Коровьева. Единственный живой, влетевший в этот сон, именно и был Савва Потапович – артист, и ввязался он в это только потому, что врезался в память Никанору Ивановичу благодаря своим частым выступлениям по радио. Он был, а остальных не было.
Так, может быть, не было и Алоизия Могарыча? О нет! Этот не только был, но и сейчас существует, и именно в той должности, от которой отказался Римский, то есть в должности финдиректора Варьете.
Опомнившись, примерно через сутки после визита к Воланду, в поезде, где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, уехав в помрачении ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки, но зато непонятно для чего украл совсем ненужную ему домовую книгу застройщика. Уплатив колоссальные деньги проводнику, Алоизий приобрел у него старую и засаленную пару штанов и из Вятки повернул обратно. Но домика застройщика он, увы, уже не нашел. Ветхое барахло начисто слизнуло огнем. Но Алоизий был человеком чрезвычайно предприимчивым. Через две недели он уже жил в прекрасной комнате в Брюсовском переулке, а через несколько месяцев уже сидел в кабинете Римского. И как раньше Римский страдал из-за Степы, так теперь Варенуха мучился из-за Алоизия. Мечтает Иван Савельевич только об одном, чтобы этого Алоизия убрали из Варьете куда-нибудь с глаз долой, потому что, как шепчет иногда Варенуха в интимной компании, «такой сволочи, как этот Алоизий, он будто бы никогда не встречал в жизни и что будто бы от этого Алоизия он ждет всего чего угодно».
Впрочем, может быть, администратор и пристрастен. Никаких темных дел за Алоизием не замечено, как и вообще никаких дел, если не считать, конечно, назначения на место буфетчика Сокова какого-то другого. Андрей же Фокич умер от рака печени в клинике Первого МГУ месяцев через девять после появления Воланда в Москве…
Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех, но не у всех!
Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет тридцати или тридцати с лишним. Рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это – сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Понырев.
Придя под липы, он всегда садится на ту самую скамейку, на которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз в последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну.
Теперь она, цельная, в начале вечера белая, а затем золотая, с темным коньком-драконом, плывет над бывшим поэтом, Иваном Николаевичем, и в то же время стоит на одном месте в своей высоте.
Ивану Николаевичу все известно, он все знает и понимает. Он знает, что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился. Но знает он также, что кое с чем он совладать не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться, лишь только начинает разрастаться и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше двух пятисвечий, становится Иван Николаевич беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет луна. И когда наступает полнолуние, ничто не удержит Ивана Николаевича дома. Под вечер он выходит и идет на Патриаршие пруды.
Сидя на скамейке, Иван Николаевич уже откровенно разговаривает сам с собой, курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему турникет.
Час или два проводит так Иван Николаевич. Затем снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту, через Спиридоновку, с пустыми незрячими глазами идет в арбатские переулки.
Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где покосившийся старый газовый фонарь, и подкрадывается к решетке, за которой он видит пышный, но еще не одетый сад, а в нем – окрашенный луною с того боку, где выступает фонарь с трехстворчатым окном, и темный с другого – готический особняк.
Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом особняке, но знает, что бороться ему с собою в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит одно и то же.
Он видит сидящего на скамеечке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Иван Николаевич всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ивану Николаевичу известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное.
Все дальнейшее Иван Николаевич знает наизусть. Тут надо непременно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, восторженно улыбаться, а затем он вдруг всплеснет руками в какой-то сладостной тоске, а затем уж и просто и довольно громко будет бормотать:
– Венера! Венера!.. Эх я, дурак!..
– Боги, боги! – начнет шептать Иван Николаевич, прячась за решеткой и не сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного.– Вот еще одна жертва луны… Да, это еще одна жертва, вроде меня.
А сидящий будет продолжать свои речи:
– Эх я, дурак! Зачем, зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел! Бумажку выправил! Эх, терпи теперь, старый кретин!
Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос:
– Николай Иванович, где вы? Что это за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить!
Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом лживым:
– Воздухом, воздухом хотел подышать, душенька моя! Воздух уж очень хорош!
И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом.
– Лжет он, лжет! О боги, как он лжет! – бормочет, уходя от решетки, Иван Николаевич.– Вовсе не воздух влечет его в сад, он что-то видит в это весеннее полнолуние на луне и в саду, в высоте. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее?
И возвращается домой профессор уже совсем больной. Его жена притворяется, что не замечает его состояния, и торопит его ложиться спать. Но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего. Она знает, что на рассвете Иван Николаевич проснется с мучительным криком, начнет плакать и метаться. Поэтому и лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета.
Бедная женщина, связанная с тяжко больным, теперь свободна и без опасений может заснуть. Иван Николаевич после укола будет спать до утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвышенные и счастливые сны.
Будит же ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только во время мировых катастроф.
После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться.
– Боги, боги! – говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще.– Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи,– тут лицо из надменного превращается в умоляющее,– ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?
– Ну, конечно, не было,– отвечает хриплым голосом спутник,– это тебе померещилось.
– И ты можешь поклясться в этом? – заискивающе просит человек в плаще.
– Клянусь! – отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются.
– Больше мне ничего не нужно! – сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес.
Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося, обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это – тот номер сто восемнадцатый, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает:
– Так, стало быть, этим и кончилось?
– Этим и кончилось, мой ученик,– отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит:
– Конечно, этим. Все кончилось, и все кончается… И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо.
Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне…
Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом.
Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто: ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.
1929—1940
Общий комментарий
(В. Лосев)

Черный маг
Черновики романа. Тетрадь 1. 1928—1929 гг.
Из сохранившихся рукописей (автографов) романа эта – самая ранняя. Судя по количеству глав и их содержанию, можно предположить, что это первая черновая редакция произведения. Из подготовительных, которые несомненно были, практически ничего не сохранилось (если не считать нескольких авторских записей в самой тетради с текстом.
Значение этой редакции, даже в виде фрагментов и обрывков текста, трудно переоценить. К сожалению, некоторые части текста уничтожены полностью (как правило, наиболее важные в политическом отношении: например, допрос Иешуа у Каиафы). Когда и как были уничтожены рукописи романа (большая их часть) – остается тайной, ибо ни Л. Е. Белозерская, ни Е. С. Булгакова (вторая и третья жены писателя) ничего вразумительного по этому поводу в своих воспоминаниях и дневниках не сказали (скорее всего, писатель не посвятил их в эту тайну). В последних редакциях романа Булгаков довольно подробно описал эпизод с уничтожением рукописи произведения (и черновика, и беловика), а еще раньше, в письме к правительству 28 марта 1930 г., он перечислил произведения, которые бросил в печку: «…черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа „Театр“». Однако и авторские свидетельства нельзя полностью принимать на веру, поскольку несколько тетрадей черновика романа сохранилось, но большая часть листов внутри них оборвана (можно предположить, что писатель это сделал с двоякой целью: а) в случае изъятия этих рукописей политическим сыском прочитать текст было практически невозможно; б) сам же автор по этим обрывкам легко мог бы его восстановить). Можно констатировать один лишь неоспоримый факт: история создания и уничтожения первых редакций романа остается невыясненной, темной. И ее затемнению способствовали не только сам автор, но и те лица, которым был доступен архив писателя (трудно поверить, например, что сам Булгаков специально уничтожал листы с датами написания произведения или подрезал ножницами «под ноль» оставшиеся обрывки текста).
Из сохранившихся обрывков можно понять, что роман был пронизан политическими мотивами и что он был ответом Булгакова на ту травлю, которая осуществлялась против него в 1926—1928 гг. При этом писатель, верный испробованным им приемам аллегорического изображения современной ему действительности («Роковые яйца», «Собачье сердце» и др.), ярко раскрыл жизнь (главным образом ее теневые стороны и пороки) «красной столицы» под видом известных событий, происходивших в древнем Ершалаиме. Этот авторский первоначальный замысел всегда нужно иметь в виду, чтобы не впасть в соблазн неверного истолкования романа при прочтении последних его редакций. Первые черновые варианты романа выполняют функцию своеобразного путеводителя к более ясному пониманию его сущности. И в этом их несомненное значение.
Копыто инженера
Черновики романа. Тетрадь 2. 1928—1929 гг.
Если черновики романа, содержащиеся в первой тетради, принять за первоначальный его текст, то вторая тетрадь (или несколько тетрадей) является второй его редакцией. Отличие второй тетради от первой состоит прежде всего в том, что она включает не все главы сочинения, а лишь часть. Продолжение текста романа было в другой (или других) тетради (сохранилось несколько кусочков текста из нее). По уцелевшим отрывкам из первой (первая редакция) и второй (вторая редакция) тетрадей (при их сопоставлении) ясно видно, что текст второй редакции более отработан автором и уже близок к беловику. Несмотря на то что во второй тетради сохранились лишь части двух глав (одну из них мы условно назовем «Евангелие от Воланда»; вторая имеет полное авторское название «Шестое доказательство»), ясно, что они уже несут в себе то содержание, которое затем, в последующих редакциях, преобразовалось в несколько самостоятельных глав, которые сам автор назвал «древними». В этом – исключительно важное значение сохранившихся текстов из второй редакции романа. Исследуя текстологию «древних глав» из последних редакций «закатного» романа, мы всегда можем обратиться к первоисточнику, который по счастью (а может быть, по мудрой авторской предусмотрительности и недосмотру последующих владельцев архива) уцелел и продолжает удивлять поклонников писателя своей оригинальностью, глубиной и смелостью.
Вечер страшной субботы
Черновые наброски к роману. 1929—1931 гг.
Черновики 1929—1931 гг. написаны в разное время, но скорее всего уже после жесточайшей травли, обращения к правительству и телефонного разговора со Сталиным в апреле 1930 г. (возможно, несколько набросков сделано в 1929 г., а остальной текст написан в последующее время). По текстам видно, что Булгаков пытался «восстановить форму» и продолжить работу над романом, но у него уже не было для этого достаточных физических сил, времени и психологического настроя. В письме писателя к Сталину (май 1931 г.) об этом сказано предельно ясно и откровенно: «С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен… Во мне есть замыслы, но физических сил нет никаких… Причина моей болезни – многолетняя затравленность, а затем молчание… За последний год я сделал следующее (далее идет подробный перечень сделанной работы.– В. Л.)… А по ночам стал писать (речь идет, конечно, о попытках возобновить роман.– В. Л.)… Но надорвался… Я переутомлен… замыслы повиты черным… Привита психология заключенного».
Но при всем при том в черновиках, написанных в столь тяжелое для писателя время, содержится много новой и чрезвычайно важной информации. Это и «полет Воланда», и появление главного героя – будущего поэта, Фауста, а затем и мастера, от лица которого и ведется повествование, и появление Маргариты – подруги мастера, и возникновение Бегемота с Фаготом… А в совокупности все это означает, что в начале 1931 г. у Булгакова уже сложилось цельное представление о романе, которое в последующие годы будет целенаправленно воплощаться.
Появление мастера и его подруги значительно расширило границы романа, однако усложнило раскрытие политической подоплеки произведения и основных его образов – героев сочинения. Так, если в ранних редакциях образ Иешуа отличается цельностью, ибо прототип его очевиден – сам писатель, то в последующих редакциях воплощение пережитых автором потрясений (травля в прессе, обыски, допросы, преследования и слежки, доносы и прочие «прелести» тех лет) в двух образах – Иешуа и мастера – не могло не сказаться отрицательно прежде всего на полноте этих образов. И стремление автора представить Иешуа и мастера как единый образ едва ли можно признать осуществленным.
И еще об одном важном факте (на наш взгляд, самом главном) свидетельствуют черновые наброски. Предваряя один из текстов, Булгаков написал (на том месте, где обычно помещаются эпиграфы): «Помоги, Господи, кончить роман! 1931 г.».
Такие записи писатель делал крайне редко, и только в состоянии особого духовного напряжения. Эта запись ярко и неоспоримо свидетельствует о том, что у Булгакова были твердые намерения при описании «чертовщины» и похождений «шайки Воланда» не выходить за те рамки приемлемого и дозволенного (с христианской точки зрения), при игнорировании которых очень легко можно скатиться в вязкую трясину дуализма.
Великий канцлер
Полная рукописная редакция
Значение рукописи под названием «Великий канцлер» состоит прежде всего в том, что это, по существу, первая, наиболее полно сохранившаяся черновая рукописная редакция романа. Правда, в ней отсутствуют «древние главы» (существеннейший недостаток!): видимо, Булгаков считал их в основе своей проработанными. Хотя некоторые главы носят «тезисный» характер, по содержанию они более откровенны и остры, нежели их последующие редакции. Важно также отметить, что Воланд творит расправы в «красном Ершалаиме» по согласованию с высшими силами света (или по указанию): у Булгакова их расстановка строго регламентирована – «силы тьмы» жестко подчинены «силам света». Однако герои романа (земные) уже утратили всякие надежды на справедливость в этом мире и обратили свои взоры в сторону Воланда (именно с ним они связывают свои надежды обрести покой в ином мире). В пору написания этой редакции Булгаков определяет свое положение в стране как «узника». Настроение писателя отразилось в романе вполне определенно: мастер обретает «защитника» в лице Воланда. Тем самым прочерчивается линия к полному отчаянию героя романа и его автору.







