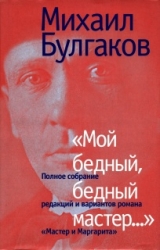
Текст книги " Мой бедный, бедный мастер… "
Автор книги: Михаил Булгаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 87 страниц)
Золотое копье
Незавершенная рукопись

Глава I
Никогда не разговаривайте с неизвестными


В час майского заката на Патриарших прудах появилось двое мужчин.
Один из них был лет тридцати пяти, одет в дешевый заграничный костюм. Лицо имел бритое, голову со значительной плешью.
Другой был лет на десять моложе первого. Этот был в блузе, носящей нелепое название «толстовка», в белых мятых брюках и в тапочках.
Оба, по-видимому, сделали значительный путь по Москве и теперь изнывали от жары. У второго, не догадавшегося снять кепку, пот буквально струями тек по загоревшим небритым щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже.
Первый был не кто иной как товарищ Берлиоз, секретарь Всемирного объединения литераторов, а спутник его – Иван Николаевич Попов, входящий в большую славу поэт, пишущий под псевдонимом Бездомный.
Оба, как только попали под липы, первым долгом бросились к весело раскрашенной будочке с надписью «Всевозможные прохладительные напитки». Тут у них даже руки затряслись от жажды и радости: у будки не было ни одного человека.
Да, следует отметить первую странность этого страшного вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Бронной улице, не было никого. В тот час, когда уж, кажется, и сил нет больше жить, когда солнце в пыли, в дыму садится, когда у собак языки висят до земли, не было в аллее ни одного человека. Как будто нарочно.
– Дайте нарзану,– сказал товарищ Берлиоз, обращаясь к женским босым ногам, стоящим на прилавке.
Ноги тяжело спрыгнули на ящик, а оттуда на пол.
– Нарзану нет,– ответила женщина в будке.
– Ну, боржому,– нетерпеливо попросил Берлиоз.
– Нет боржому,– ответила женщина.
– Так что ж у вас есть? – раздраженно спросил Бездомный и сам испугался – а ну как женщина ответит, что ничего нет? Но женщина ответила:
– Абрикосовая есть.
– Давайте, давайте, давайте,– сказал Берлиоз.
Абрикосовая дала обильную желтую пену, пахла одеколоном. Напившись, друзья немедленно начали икать. Икая, Бездомный справился о папиросах, получил ответ, что их нету и что спичек тоже нет.
Отдуваясь и икая, Бездомный пробурчал что-то вроде – «сволочь эта абрикосовая» – и приятели направились к скамейке, и поместились на ней лицом к зеленому пруду. Пот в тени стал высыхать на них.
Тут произошло второе странное событие, касающееся одного Берлиоза. Сердце его внезапно стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, после чего его охватил необоснованный страх и захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз оглянулся тоскливо, не понимая, что его тревожит. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Я переутомился. Пора бы, в сущности, в Кисловодск…»
И соблазнительная мысль о том, как бы бросить все это к черту и поехать, поехать на юг… И блестящие медные скобки в международном вагоне, и ветер, ветер, ветер навстречу…
Но он не успел еще этого додумать, как воздух перед ним сгустился совершенно явственно и соткался из воздуха знойный и прозрачный тип вида довольно странного. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый воздушный кургузый пиджачок, ростом в сажень, но худ, как селедка, морда глумливая.
Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык; поэтому прежде всего он решил, что «этого быть не может…», и вытаращил глаза.
Но это могло быть, увы, потому что длинный, сквозь которого видно, жокей качался перед ним и влево и вправо. «Жара… удар…» – смятенно подумал Берлиоз и уж в полном ужасе закрыл глаза. А когда открыл, то с облегчением убедился в том, что быть действительно не может – сделанный из воздуха и зноя клетчатый растворился. И тут же тупая игла выскочила из сердца.
– Фу, ты, черт,– сказал товарищ Берлиоз,– ты знаешь, Иван, у меня сейчас от жары едва удар не сделался; даже что-то вроде галлюцинации было… Ну-с, итак…
И тут, обмахнувшись платочком, повел речь, прерванную питьем абрикосовой воды. Речь эта шла об Иисусе Христе. Дело в том, что товарищ Берлиоз заказал Ивану Николаевичу поэму об Иисусе Христе для толстого антирелигиозного журнала, который он редактировал.
Поэму в триста строк поэт представил вовремя, и была она написана очень хорошими, по словам товарища Берлиоза, стихами. Бездомный отзывался о Христе крайне неблагоприятно и даже в резких выражениях. Художник уже нарисовал очень хорошую картинку к этой поэме. Христос был изображен во фраке, с моноклем в глазу и с револьвером в руках {144} . Однако все это не удовлетворило Берлиоза.
Суть была в том, что в основу поэмы Бездомный поместил какое-то ошибочное положение, и в общем крупно напутал.
И вот теперь редактору приходилось исправлять ошибку поэта, читая ему нечто вроде лекции.
Надо заметить, что редактор был образован и в речи его запросто появлялись имена не только Штрауса и Ренана, но и историков Филона, Иосифа Флавия и Тацита.
Поэт, уставив на редактора свои буйные зеленые глаза, с величайшим вниманием слушал его и лишь изредка икал внезапно так, что содрогалась скамейка.
Жар все еще не хотел спадать, за спиной приятелей, проносясь по Бронной, грохотали грузовики, взвизгивали трамваи, тучи белой пыли оседали на липах, уже начинавших зеленеть, а в аллее опять-таки никого не было.
Меж тем товарищ Берлиоз все дальше уходил в такие дебри, в которые может отправиться лишь очень начитанный человек.
Бездомный услышал много интересного про египетского бога Озириса, а непосредственно затем про вавилонского Таммуза. За Таммузом мелькнул пророк Иезекииль, за ним Мардук, а затем совсем уж странный божок Вицлипуцли, фигуру которого, как оказалось, к великому изумлению Бездомного, лепили из теста.
Тут-то в аллею и вошел человек.
Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, три учреждения представили свои сводки с описанием этого человека.
Сличение этих сводок не может не вызвать удивления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Вторая сообщает, что человек был росту громадного, коронки имел платиновые и хромал на левую ногу. В третьей записано было лаконически, что особых примет у человека не было.
Поэтому приходится признать, что ни одна из этих сводок не годится.
Во-первых, он ни на одну ногу не хромал. Росту был высокого, а коронки с правой стороны у него были платиновые, с левой золотые. Одет был так: серый дорогой костюм, туфли в цвет костюма заграничные, на голове серый берет, заломленный на правое ухо, серые же перчатки, в руках нес трость с серебряным набалдашником.
Рот кривой начисто. Лицо кирпичное, выбритое гладко. Один глаз черный, другой – зеленый. Брови черные, одна выше другой. Словом – иностранец.
Иностранец прошел мимо скамейки, на которой помещались редактор и поэт, причем бросил на них косой беглый взгляд.
«Немец…» – подумал Берлиоз.
«Англичанин…– подумал Бездомный,– ишь, сволочь, и не жарко ему в перчатках!»
Иностранец, которому точно не было жарко, неожиданно остановился и уселся на соседней скамье.
Тут он окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруды, причем заметно стало, что видит он это место впервые, а кроме того, что оно его заинтересовало. Почему-то снисходительно усмехнувшись, он остановил взор на верхних окнах, ослепительно отражавших вечернее солнце, затем перевел глаза на нижние, в которых уж скоплялась понемногу предвечерняя тихая тьма.
С первой скамейки доносилась речь Берлиоза.
– Совсем не на том ты сделал упор, Иван,– мягко говорил, стараясь не задевать авторского самолюбия, товарищ Берлиоз.
Иностранец прищурился на дальний дом, затем независимо положил ногу на ногу, а подбородок на набалдашник. Опять послышался высокий тенор:
– Нет ни одной восточной религии, в которой непорочная дева не родила бы бога-младенца… Тебе нужен пример? Пожалуйста… Древнеегипетская Изида произвела на свет Горуса, да, наконец, Будда! Ты спросишь про Индию?..
Бездомный не спросил про Индию, а вместо этого сделал попытку прекратить икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче.
– Будь ты проклята, эта абрикосовая! – пробормотал он, но сейчас же опять сосредоточил свое внимание на словах своего редактора.
– В Греции Афина-Паллада и Аполлон… И позволь мне тебе посоветовать…
Но тут товарищ Берлиоз прервал речь. Иностранец вдруг поднялся и направился к собеседникам. Те поглядели на него удивленно.
– Извините меня, пожалуйста, что я позволяю себе подойти к вам,– заговорил иностранец с легким акцентом,– но предмет вашей ученой беседы столь интересен…
Тут иностранец вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как, приподнявшись, пожать иностранцу руку, с которой тот ловко сдернул перчатку.
«Скорее француз»,– подумал Берлиоз.
«Поляк»,– подумал Бездомный.
Необходимо добавить, что на Бездомного, который вообще почему-то неприязненно относился к иностранцам, подошедший произвел отвратительное впечатление с первых же слов, а Берлиозу, наоборот, очень понравился.
– Разрешите мне присесть? – вежливо попросил неизвестный иностранец.
Пришлось раздвинуться, и иностранец ловко и непринужденно уселся между двумя приятелями и тотчас вступил в разговор.
– Если я не ослышался,– заговорил он, поглядывая то на Берлиоза, то на переставшего икать Бездомного,– вы изволили говорить, что Иисуса Христа не было на свете?
– Вы не ослышались,– вежливо ответил Берлиоз,– именно это я и говорил.
– Это поразительно! – воскликнул иностранец.
«Какого черта ему надо?» – подумал Бездомный.
– А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился иностранец, повернувшись к Бездомному.
– На все сто,– подтвердил Бездомный, любящий выражаться непросто.
– Изумительно! – воскликнул иностранец, возводя глаза к небу. Последовала пауза, после которой непрошеный собеседник воровски оглянулся и сказал, снизив почти до шепота свой бас: – Простите мою навязчивость, и, поверьте, я никому не скажу – вы не верите в Бога? – и при этом он сделал испуганные глаза.
– Мы не верим в Бога,– улыбнувшись испугу иностранца, ответил Берлиоз,– и в этом нет никакого секрета.
Иностранец даже назад откинулся и спросил, но не басом, а высоким голосом:
– Вы – атеисты?
– Да, мы атеисты,– весело ответил Берлиоз, а Бездомный подумал: «Вот болван заграничный прицепился!»
– Ах, ах, ах! – воскликнул иностранец и заерзал на скамье, и так смотрел на обоих друзей, как будто ему впервые довелось увидеть двух атеистов.
– В нашей стране атеизм никого не удивляет,– дипломатически вежливо сказал Берлиоз,– большинство нашего населения сознательно и уже давно перестало верить сказкам о Боге, и у нас имеет место обратное явление: величайшей редкостью является верующий человек.
Здесь иностранец отколол такую штуку: встал и пожал удивленному Берлиозу руку, произнося такие слова:
– Позвольте вас поблагодарить.
– Это за что вы его благодарите? – заморгав глазами, осведомился Бездомный.
– Это очень, очень важное сведение,– многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак и при этом с некоторым испугом обвел дома глазами, как бы опасаясь в окнах увидеть атеистов.
«Он и не англичанин…» – подумал Берлиоз.
«Где это он так насобачился по-русски?» – подумал Бездомный и нахмурился. Ему захотелось курить.
– Но позвольте вас спросить,– после тревожного раздумья осведомился иностранец,– как же быть с доказательствами бытия Божия, коих существует ровно пять?
– Увы,– с сожалением ответил Берлиоз,– ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и их давно сдали в архив. В области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может.
– Браво! – вскричал иностранец.– Браво. Вы полностью повторили мысль старикашки Иммануила по этому поводу. Он начисто разрушил все пять доказательств, но после этого, черт его возьми, словно курам на смех, соорудил собственного изобретения шестое доказательство!
– Доказательство Канта,– тонко улыбнувшись, возразил образованный Берлиоз,– также неубедительно, и недаром Шиллер говорил, что Кантово доказательство пригодно только для рабов! – и подумал: «Но кто же он все-таки. Он великолепно говорит по-русски».
– Взять бы этого Канта, да года на три в Соловки! – неожиданно бухнул Бездомный.
– Иван! – удивленно шепнул Берлиоз.
Но предложение направить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но, напротив, привело в восторг.
– Именно! Именно! – закричал иностранец, и глаза его засияли.– Самое ему там место. Говорил я ему тогда за завтраком: чепуху ты какую-то придумал, Кант!
Тут товарищ Берлиоз вытаращил глаза на неизвестного.
– Но,– продолжал тот, не смущаясь,– посадить его, к сожалению, невозможно по двум причинам: во-первых, он иностранный подданный, а во-вторых – умер.
– Жаль! – отозвался Иван, испытывая к иностранцу все большую ненависть и не обращая внимания на укоризненное подмигивание Берлиоза.
– И мне жаль,– подтвердил неизвестный и продолжал: – Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нету, то, спрашивается, кто же управляет жизнью на земле? – И иностранец повел рукой, указывая на дома.
– Человек,– сурово ответил Бездомный.
– Виноват,– мягко отозвался неизвестный,– для того, чтобы управлять, нужно, как я слышал, составить план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. И вот, позвольте спросить, как же может управлять жизнью человек, ежели он этого плана не может составить даже на смехотворный срок лет в сто, скажем, и вообще ни за что не может ручаться, ну хотя бы за завтрашний день?
– И в самом деле,– тут неизвестный преимущественно обратился к Берлиозу,– вообразите, только что вы начнете управлять, распоряжаться, вообще входить во вкус… и вдруг, представьте себе, у вас… кхе, кхе… саркома! – и тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме доставила ему наслаждение.– Саркома…– повторил он, щурясь, звучное слово.– И вот вы уже не управляете, ничем не распоряжаетесь, ничто в мире вас больше не интересует… К гадалкам, бывали случаи, обращались образованнейшие люди!..
И через некоторое время тот, кто еще недавно отдавал по телефону распоряжения, покрикивал на подчиненных, был почтителен с высшими и собирался в Кисловодск, уже не сидит за столом, а лежит в деревянном ящике, а оркестр, отравляя существование живым, играет марш… Бывает и по-иному: некоторые под трамвай попадают. Какое уж тут управление!
И незнакомец тихонько рассмеялся.
Берлиоз внимательно слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, но не рассказ занимал его.
«Он не иностранец! Не иностранец,– тревожно думал Берлиоз,– он – престранный тип. Но кто же он такой?»
– Вы хотите курить? – внезапно обратился иностранец к Бездомному.– Вы какие предпочитаете?
– А у вас разве разные есть? – хмуро спросил Бездомный.
– Какие предпочитаете?
– «Нашу марку»,– злобно ответил Бездомный.
Иностранец немедленно вытащил из заднего кармана брюк такой портсигар, что Бездомный открыл рот. Золотой, громадный, и на крышке сверкает алмазная буква «W».
– «Наша марка»,– галантно сказал иностранец.
Некурящий Берлиоз отказался, Бездомный закурил, иностранец также. «Нет, он иностранец! – подумал Берлиоз, глядя на портсигар,– надо будет ему все-таки возразить так: верно, человек смертен, но…» Но не успел он ничего произнести, как заговорил иностранец:
– Да, человек смертен, но это бы еще полбеды. А хуже всего то, что он иногда внезапно смертен и не может сказать, что он будет делать даже в сегодняшний вечер.
«Какая-то дурацкая постановка вопроса!» – подумал Берлиоз и вслух сказал:
– Ну, здесь уж есть некоторое преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что если мне на голову свалится кирпич…
– Кирпич ни с того ни с сего,– ответил внушительно неизвестный,– никому на голову и никогда не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам он совершенно не угрожает. Так позвольте спросить, что вы будете делать сегодня вечером?
– Сегодня вечером,– ответил Берлиоз,– в десять часов в Миолите состоится заседание, на котором я буду председательствовать.
– Нет, этого быть никак не может,– твердо заявил иностранец.
– Это почему? – спросил Бездомный, не скрывая уже своего раздражения.
– Потому,– ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, в котором, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили птицы,– что Аннушка уже купила постное масло, и не только купила, но и уже разлила. Так что заседание не состоится.
Тут, понятное дело, наступила тишина.
– Простите,– сказал Берлиоз, дико глядя на иностранца,– я ничего не понял. При чем здесь постное масло?
– Постное масло здесь вот при чем,– вдруг заговорил Бездомный, очевидно решив объявить войну незваному собеседнику,– вам не приходилось, гражданин, бывать в сумасшедшем доме?
– Иван! – воскликнул ошеломленный Берлиоз.
Но иностранец нисколько не обиделся, а, наоборот, безумно развеселился.
– Бывал! Бывал! И не раз! – вскричал он со смехом, но не сводя глаз с Бездомного.– Где я только не бывал! Досадно одно, что я так и не удосужился спросить у профессора толком, что такое мания фурибунда! Так что вы уж сами спросите у него, Иван Николаевич!
Бездомный изменился в лице.
– Откуда вы знаете, как меня зовут?
– Помилуйте, дорогой Иван Николаевич, кто же вас не знает? – сказал иностранец и вынул из внутреннего кармана пиджака номер еженедельного журнала.
И Иван Николаевич тут же узнал на первой странице и свои буйные волосы, и глаза, и даже собственные стихи. Однако на сей раз новое свидетельство славы и популярности не обрадовало Бездомного.
– Я извиняюсь,– сказал он, и лицо его потемнело,– вы не можете подождать минуту, я пару слов хочу сказать товарищу?..
– О, с удовольствием, охотно! – воскликнул иностранец.– Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.
– Вот что, Миша,– заговорил поэт, оттащив в сторону крайне недовольного всем этим Берлиоза,– это никакой не румын и не поляк, это – белогвардейский шпион. Спрашивай у него документы, а то уйдет.
– Почему шпион? – шепнул неприятно пораженный Берлиоз.
– Я тебе говорю. Верь чутью… Идем, идем, а то уйдет.
И поэт за руку потянул расстроенного Берлиоза к скамейке. Незнакомец не сидел, а стоял возле скамейки, держа в руках визитную карточку.
– Извините меня, что я в пылу нашего интересного спора забыл назвать себя. Вот моя карточка, а в кармане у меня и паспорт, подтверждающий то, что написано на карточке,– веско сказал иностранец, но почему-то без малейшего акцента.
Берлиоз густо покраснел, читая карточку, которую иностранец не выпустил из рук.
Иван тоже заглянул в нее, но так как иностранец в это время ее спрятал, то Ивану удалось прочесть только первое слово «professor» и начальную букву фамилии, опять-таки двойное W.
– Очень приятно,– сказал Берлиоз смущенно,– Берлиоз.
Произошли рукопожатия, и опять сели на скамейку.
– Вы в качестве консультанта, наверное, приглашены к нам, профессор?
– Да, консультанта, как же,– подтвердил профессор.
– Вы – немец?
– Я-то? – переспросил профессор и задумался.– Да, пожалуй, немец,– сказал он.
– А у вас какая специальность? – ласково осведомился Берлиоз.
– Я – специалист по черной магии.
– Как? – воскликнул Берлиоз.
«На тебе!» – подумал Иван.
– И вас по этой специальности пригласили в СССР?
– Да, по этой. Пригласили,– подтвердил профессор, поражая приятелей тем, что акцент у него опять появился.– Тут в государственной библиотеке – большой отдел, книги по магии и демонологии… Есть очень интересные рукописи Мирандолы и Рейхлина… {145} Они хотят, чтобы я их разбирал и оценил…
– А! Вы историк? – с большим уважением спросил Берлиоз.
– Я историк,– охотно подтвердил иностранец,– я люблю всякие истории… и сегодня вечером будет смешная история…
Тут иностранец пальцами обеих рук поманил к себе приятелей. Когда они с изумлением наклонились к нему, он прошептал:
– Имейте в виду, что Христос существовал…
– Видите ли, профессор,– смущенно улыбаясь, заговорил Берлиоз,– мы очень уважаем ваши большие знания, но я лично придерживаюсь другой точки зрения…
– Не надо никаких точек зрения,– ответил профессор,– он существовал.
– Но какое же доказательство этому?
– И доказательства никакого не надо. Просто в десять часов утра его привели под конвоем, и шаркающей кавалерийской походкой на балкон вышел Понтийский Пилат,– сказал профессор.
Глава II
Золотое Копье
В девять часов утра шаркающей кавалерийской походкой в перистиль под разноцветную колоннаду вышел прокуратор {146} Иудеи Понтий Пилат.
Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все предвещало нехороший день, потому что розовым маслом пропах весь мир. Казалось, что пальма пахнет розовым маслом, конвой, ненавистный балкон. Из недальней кордегардии {147} заносило дымком – легионные {148} кашевары начали готовить обед для дежурного манипула {149} . Но прокуратору казалось, что и к запаху дыма примешивается поганая розовая струя.
«Пахнет маслом от головы моего секретаря,– думал прокуратор,– я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника… Моя жена дура… Дело, однако, не в розовом масле, а в том, что это мигрень. От мигрени же нет никаких средств в мире… попробую не вертеть головой…»
Из зала выкатили кресло, и прокуратор сел в него. Он протянул руку, ни на кого не глядя, и секретарь тотчас же вложил в нее кусок пергамента. Гримасничая, прокуратор проглядел написанное и сейчас же сказал:
– Приведите его.
Через некоторое время по ступенькам, ведущим с балкона в сад, двое солдат привели и поставили на балконе молодого человека в стареньком, многостиранном и заштопанном таллифе {150} . Руки молодого человека были связаны за спиной, рыжеватые вьющиеся волосы растрепаны, а под заплывшим правым глазом сидел громадных размеров синяк. Левый здоровый глаз выражал любопытство.
Прокуратор, стараясь не поворачивать головы, поглядел на приведенного.
– Лицо от побоев надо оберегать,– сказал по-арамейски прокуратор,– если думаешь, что это тебя украшает…– И прибавил: – Развяжите ему руки. Может быть, он любит болтать ими, когда разговаривает.
Молодой человек приятно улыбнулся прокуратору. Солдаты тотчас освободили руки арестанту.
– Ты в Ершалаиме собирался царствовать? – спросил прокуратор, стараясь не двигать головой.
Молодой человек развел руками и заговорил:
– Добрый человек…
Но прокуратор тотчас перебил его:
– Я не добрый человек. Все говорят, что я злой, и это верно.
Он повысил резкий голос:
– Позовите кентуриона {151} Крысобоя!
Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.
Крысобой на голову был выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что заслонил невысокое солнце. Прокуратор сделал какую-то гримасу и сказал Крысобою по латыни:
– Вот… называет меня «добрый человек»… Возьмите его на минуту в кордегардию, объясните ему, что я злой… Но я не потерплю подбитых глаз перед собой!..
И все, кроме прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который жестом показал, что арестованный должен идти за ним. Крысобоя вообще все провожали взглядами, главным образом, из-за его роста, а те, кто видел его впервые,– из-за того, что лицо Крысобоя было изуродовано: нос его в свое время был разбит ударом германской палицы.
Во дворе кордегардии Крысобой поставил перед собою арестованного, взял бич, лежащий на козлах, и, не сильно размахнувшись, ударил арестанта по плечам. Движение Крысобоя было небрежно и незаметно, но арестант мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, и некоторое время не мог перевести дух.
– Римский прокуратор,– заговорил гнусаво Марк, плохо выговаривая арамейские слова,– называть «игемон {152} »… Другие слова нет, не говорить!.. Понимаешь?.. Ударить?
Молодой человек набрал воздуху в грудь, сбежавшая с лица краска вернулась, он протянул руку и сказал:
– Я понял. Не бей.
И через несколько минут молодой человек стоял вновь перед прокуратором.
– В Ершалаиме хотел царствовать? – спросил прокуратор, прижимая пальцы к виску.
– Я, до… Я, игемон,– заговорил молодой человек, выражая удивление здоровым глазом,– нигде не хотел царствовать.
– Лгуны всем ненавистны,– ответил Пилат,– а записано ясно: самозванец, так показывают свидетели, добрые люди.
– Добрые люди,– ответил, оживляясь, молодой человек и прибавил торопливо: – Игемон, ничему не учились, поэтому перепутали все, что я говорил.
Потом помолчал и добавил задумчиво:
– Я полагаю, что две тысячи лет пройдет ранее…– он подумал еще,– да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной.
Тут на балконе наступило полное молчание.
Прокуратор поднял голову и, скорчив гримасу, поглядел на арестанта.
– За тобой записано немного,– сказал он, ненавидя свою боль и даже помышляя о самоубийстве,– но этого достаточно, чтобы тебя повесить.
– Нет, ходит один с таблицей и пишет,– заговорил молодой человек,– достойный и добрый человек. Но однажды, заглянув в эту таблицу, я ужаснулся. Ничего этого я не говорил. И прошу его – сожги эту таблицу. Но он вырвал ее у меня из рук и убежал.
– Кто такой? – спросил Пилат.
– Левий Матвей {153} ,– охотно пояснил арестант,– он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним. Он послушал, деньги бросил на дорогу и сказал: я с тобой пойду путешествовать.
– Ершалаим,– сказал Пилат, поворачиваясь всем корпусом к секретарю,– город, в котором на Пасху не соскучишься… Сборщик податей бросил деньги на дорогу!
– Подарил,– пояснил молодой человек,– шел мимо старичок, нес сыр. Он ему сказал: подбирай.
– Имя? – спросил Пилат.
– Мое? – спросил молодой человек, указывая себе на грудь.
– Мое мне известно,– ответил Пилат,– твое.
– Ешуа,– ответил молодой человек.
– Прозвище?
– Га-Ноцри.
– Откуда родом?
– Из Эн-Назира {154} ,– сказал молодой человек, указывая рукой вдаль.
Секретарь пристроился с таблицей к колонне и записывал на ней.
– Кто ты по национальности? Кто твои родители?
– Я —сириец {155} .
– Никакого языка, кроме арамейского, не знаешь?
– Нет, я знаю латинский и греческий.
Пилат круто исподлобья поглядел на арестованного. Секретарь попытался поймать взгляд прокуратора, но не поймал и еще стремительнее начал записывать. Прокуратор вдруг почувствовал, что висок его разгорается все сильнее. По горькому опыту он знал, что вскоре вся его голова будет охвачена пожаром. Оскалив зубы, он поглядел не на арестованного, а на солнце, которое неуклонно ползло вверх, заливая Ершалаим, и подумал, что нужно было бы прогнать этого рыжего разбойника, просто крикнуть: повесить его! Его увели бы. Выгнать конвой с балкона, припадая на подагрические ноги, притащиться внутрь, велеть затемнить комнату, лечь, жалобным голосом позвать собаку, потребовать холодной воды из источника, пожаловаться собаке на мигрень.
Он поднял мутные глаза на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на проклятом ершалаимском солнцепеке стоит перед ним этот бродяга с избитым лицом и какие ненужные и глупые вопросы еще придется ему задавать.
– Левий Матвей? – хрипло спросил больной прокуратор и закрыл глаза, чтобы никто не видел, что происходит с ним.
– Да, добрый человек Левий Матвей,– донеслись до прокуратора сквозь стук горячего молота в виске слова, произнесенные высоким голосом.
– А вот,– с усилием и даже помолчав коротко, заговорил прокуратор,– что ты рассказывал про царство на базаре?
– Я, игемон,– ответил, оживляясь, молодой человек,– рассказывал про царство истины добрым людям и больше ни про что не рассказывал. После чего прибежал один добрый юноша, с ним другие, и меня стали бить и связали мне руки.
– Так,– сказал Пилат, стараясь, чтобы его голова не упала на плечо. «Я сказал „так“,– подумал страдающий прокуратор,– что означает, что я усвоил что-то, но я ничего не усвоил из сказанного»,– и он сказал: – Зачем же ты, бродяга, на базаре рассказывал про истину, не имея о ней никакого представления? Что такое истина?
И подумал: «О, боги мои, какую нелепость я говорю. И когда же кончится эта пытка на балконе?»
И он услышал голос, сказавший по-гречески:
– Истина в том, что у тебя болит голова и болит так, что ты уже думаешь не обо мне, а об яде. Потому что, если она не перестанет болеть, ты обезумеешь. И я твой палач, о чем я скорблю. Тебе даже и смотреть на меня не хочется, а хочется, чтобы пришла твоя собака. Но день сегодня такой, что находиться в состоянии безумия тебе никак нельзя, и твоя голова сейчас пройдет.
Секретарь замер, не дописав слова, и глядел не на арестанта, а на прокуратора. Каковой не шевелился.
Пилат поднял мутные глаза и страдальчески поглядел на арестанта и увидел, что солнце уже на балконе, оно печет голову арестанту, он щурит благожелательный глаз, а синяк играет радугой.
Затем прокуратор провел рукою по лысой голове и муть в его глазах растаяла. После этого прокуратор приподнялся с кресла, голову сжал руками и на обрюзгшем лице выразился ужас.
Но этот ужас он подавил своей волей.
А арестант между тем продолжал свою речь, и секретарю показалось, что он слышит не греческие хорошо знакомые слова, а неслыханные, неизвестные.
– Я, прокуратор,– говорил арестант, рукой заслоняясь от солнца,– с удовольствием бы ушел с этого балкона, потому что, сказать по правде, не нахожу ничего приятного в нашей беседе…
Секретарь побледнел как смерть и отложил таблицу.
– То же самое я, впрочем, советовал бы сделать и тебе,– продолжал молодой человек,– так как пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии {156} . Мы, собственно говоря, могли бы отправиться вместе. И походить по полям. Гроза будет,– молодой человек отвернулся от солнца и прищурил глаз,– только к вечеру. Мне же пришли в голову некоторые мысли, которые могли бы тебе понравиться. Ты к тому же производишь впечатление очень понятливого человека.
Настало полное и очень долгое молчание. Секретарь постарался уверить себя, что ослышался, представил себе этого Га-Ноцри повешенным тут же у балкона, постарался представить, в какую именно причудливую форму выльется гнев прокуратора, не представил, решил, что что-то нужно предпринять, и ничего не предпринял, кроме того, что руки протянул по швам.
И еще помолчали.
После этого раздался голос прокуратора:
– Ты был в Египте? {157}
Он указал пальцем на таблицу, и секретарь тотчас поднес ее прокуратору, но тот отпихнул ее рукой.
– Да, я был.
– Ты как это делаешь? – вдруг спросил прокуратор и уставил на Ешуа зеленые, много видевшие глаза. Он поднес белую руку и постучал по левому желтому виску.
– Я никак не делаю этого, прокуратор,– сказал, светло улыбнувшись единственным глазом, арестант.







