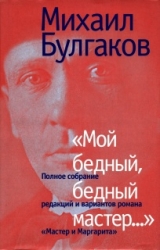
Текст книги " Мой бедный, бедный мастер… "
Автор книги: Михаил Булгаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 87 страниц)
Глава 7
Нехорошая квартира
Если бы Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!», Степа ответил бы чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною что хотите, но я не встану».
Не то что встать, ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если откроет, то тут же сверкнет молния и голову ему разнесет на куски.
В голове этой гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и при этом тошнило, причем казалось, что тошнит от звуков какого-то патефона. Степа старался что-то припомнить, но припомнить мог только одно, что, кажется, вчера неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и делал попытки поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день (то есть, значит, сегодня) придет к ней в гости днем. Дама от этого отказывалась, говорила: «Нет, меня не будет дома», а Степа настаивал, говорил: «А я вот возьму и приду».
Ни какая это была дама, ни который час сейчас, ни даже какое число и, что хуже всего, где он находится, Степа понять не мог.
Прежде всего он постарался узнать хотя бы последнее. Для этого пришлось разлепить слипшиеся веки одного глаза. Степа так и сделал, узнал в полутьме итальянское окно и понял, что он лежит у себя, то есть в бывшей ювелиршиной спальне, и тотчас веки сомкнул, потому что так ударило в голову, что он застонал.
Дело было вот в чем: Степа Лиходеев, директор театра «Кабаре», того самого, что открылся недавно в помещении бывшего цирка, в утро, последовавшее за тем страшным вечером, когда убило Мирцева, и ночью, когда Понырева отвезли в лечебницу, очнулся у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с Мирцевым на Садовой улице в громадном пятиэтажном доме.
Надо сказать, что квартира эта пользовалась, и давно уже, если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад ее занимала вдова покойного ювелира де Фужере Анна Францевна, пятидесятилетняя почтенная и деловая дама, сдававшая три комнаты из пяти двум жильцам: Беломуту, кажется, служащему в банке, и другому, фамилия которого утрачена и которого звали в доме по его профессии – «финансист».
И вот именно два года назад произошло действительно необъяснимое событие. Однажды в выходной день пришел милиционер и сказал финансисту, что того просят на одну минуту зайти в милицию в чем-то расписаться. Финансист ушел, сказав Анфисе, что если кто-нибудь будет звонить, чтобы она сказала, что он вернется через полчаса. Но не вернулся не только через полчаса, он вообще не вернулся. Хуже всего было то, что с ним пропал и милиционер.
Суеверная и глупая Анфиса так и заявила, что это колдовство. Колдовству же стоит только начаться, а уж там его ничем не остановишь. Финансист пропал в понедельник, а в пятницу исчез Беломут. Тот при иных обстоятельствах. Именно, заехала за ним, как обычно, утром машина и увезла его на службу, а назад никого не привезла и сама не приехала. Допустим, что была это колдовская машина, как и тут утверждала Анфиса.
Но вот за самой Анной Францевной никто не приходил и машина никакая не заезжала, а просто Анна Францевна, изнервничавшаяся, как она рассказывала, с этим исчезновением двух очень культурных жильцов, решила поправить свои нервы и для этого съездить на два месяца в Париж к сестре {179} . Подав соответствующее заявление, Анна Францевна сильно хлопотала по устройству каких-то житейских дел. Ежедневно много звонила по телефону, много ездила по Москве, в естественном и радостном волнении, что вскоре увидит и обнимет сестру, с которой не виделась четырнадцать лет. А увидеться должна была, потому что заявление Анны Францевны было встречено очень хорошо, как она говорила, все показатели для поездки были самые благоприятные. И вот в среду – опять-таки постный день – Анна Францевна вышла из дому, чтобы повидаться со знакомой, которая хотела приобрести у нее каракулевое манто, не нужное Анне Францевне, и не вернулась.
Тут Анфиса про колдовство уже ничего не говорила, а впала в тревогу и даже в отчаяние, в котором ей, впрочем, пришлось пребывать только двенадцать часов. Хозяйка ее пропала в полдень, а в полночь приехали в квартиру де Фужере три неизвестных и, пробыв в ней до утра, отбыли, увезя с собою и Анфису. После чего никто ни из четырех жильцов квартиры, ни из этих приехавших никогда более не возвращался на Садовую улицу, в квартиру № 50. Да и возвратиться в нее нельзя было, потому что последние навестившие ее, уезжая, запечатали двери ее сургучными печатями.
В доме потом рассказывали всякие чудеса, вроде того, что будто бы под полом в кухне заколдованной квартиры нашли какие-то несметные сокровища и что якобы сама Анфиса носила на груди у себя, никогда не снимая, маленький мешочек с бриллиантами и золотом и прочее. Фантазия у жильцов больших домов, как известно, необузданная, а врать про своих ближних каждому сладко.
Но как бы там ни было, квартира простояла запечатанной только неделю, после чего в нее с ордерами и въехали в две комнаты, которые налево от коридора и ближе к кухне, директор кабаре Лиходеев, а в три, в одной из которых был когда-то провалившийся сквозь землю финансист, Мирцев, оба холостые, и зажили.
Итак, Степа застонал, и то, что он определил свое местонахождение, ничуть ему не помогло, и болезнь его достигла наивысшего градуса. Он вспомнил, что в квартире должна быть сейчас приходящая домработница Груня, хотел позвать ее, чтобы потребовать у нее пирамидону, но с отчаянием сообразил, что никакого пирамидону у Груни нет, конечно, и не позвал. Хотел крикнуть, позвать Мирцева, сказать ему, что накануне отравился чем-то, попросить пирамидону, слабо простонал – «Мирцев!» Никакого ответа не получил. В квартире стояла полная тишина.
Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. «Интересно знать, брюки на мне есть?» – подумал несчастный и трясущейся рукою провел по бедру, но не мог определить – не то в брюках, не то нет.
Наконец, видя, что он брошен и совершенно одинок, Степа решил, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило, самому себе помочь, для этого прежде всего открыть глаза и сесть. И Степа разлепил опухшие веки и увидел прежде всего в полумраке затемненной спальни пыльное зеркало в ювелиршином трюмо, а в этом зеркале самого себя с торчащими в разные стороны волосами, со щеками, покрытыми черной щетиной, с заплывшими глазами, без единой складки на лице, в сорочке, кальсонах и носках.
А рядом с трюмо в кресле увидел неизвестного, одетого в черное. В затемненной шторами спальне лицо неизвестного было плохо видно, и показалось Степе только, что лицо это кривое, но что неизвестный был в берете, в этом сомневаться не приходилось.
Тут Степа поднялся на локтях, сел на кровати и, сколько мог, вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Это было естественно, потому что, каким образом и зачем в интимную спальню проник посторонний человек в черном берете, не только больной, но, пожалуй, и здоровый не объяснил бы.
Молчание было нарушено неизвестным, произнесшим тяжелым басом и с иностранным акцентом следующие слова:
– Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!
Произошла пауза, после которой Степа, сделав над собою героическое усилие, произнес такие слова:
– Что вам угодно?
И при этом поразился, не узнав своего собственного голоса. Это не только был не его голос, но вообще такого голоса не бывает: слово «что» было произнесено дискантом, «вам» басом, а «угодно» вообще не вышло.
Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул золотые часы, причем те прозвонили двенадцать раз, и сказал:
– Двенадцать! И ровно час я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо назначили вы мне быть у вас в одиннадцать. Вот и я!
Степа моргнул, протянул руку, нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул: «Извините…» – и, сам не понимая, как ему это удалось, надел их и хриплым голосом спросил:
– Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?
Говорить ему было трудно. Казалось, что при каждом слове кто-то тычет ему иголкой в мозг, что причиняло адские страдания.
Незнакомец улыбнулся.
– Как, вы и фамилию мою забыли?
– Простите…– прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то вниз и что сию минуту он головой вниз слетит в какую-то бездну.
– Дорогой Степан Богданович,– заговорил посетитель, улыбаясь проницательно,– никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу – лечить подобное подобным. Единственно, что может вас вернуть к жизни,– это две стопки водки с острой и горячей закуской.
Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что самое правильное – признаться во всем.
– Откровенно сказать…– начал он, едва ворочая языком,– вчера я немножко…
– Ни слова больше! – ответил визитер и отъехал вместе с креслом от трюмо.
Степа, тараща глаза, увидел, что на трюмо сервирован поднос, на коем нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, маринованные белые грибы на тарелочке, что-то в закрытой кастрюльке и объемистый хрустальный ювелиршин графин с водкой. Особенно поразило Степу то, что графин был запотевший от холода, да и немудрено, он помещался в полоскательной чашке, набитой льдом. Накрыто было аккуратно, умело, чисто.
Незнакомец не дал развиться Степиному изумлению до степени болезненной и ловким жестом налил ему полстопки водки.
– А вы?..– намекнул Степа.
– Отчего же, с удовольствием,– ответил гость и налил себе громадную стопку до краев.
Степа трясущейся рукою поднес стопку к устам, глотнул и увидел, что незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевав кусок икры, Степа выдавил из себя слова:
– А вы что же?.. закусить?..
– Благодарю вас, я не закусываю,– отозвался незнакомец и тут же налил Степе и себе по второй, открыл крышку кастрюли, из нее повалил пар, запахло лавровым листом – в кастрюле оказались сосиски в томате.
Через пять минут Степу узнать было нельзя. Проклятая зелень перед глазами исчезла, Степа стал хорошо выговаривать слова и, главное, кой-что припомнил. Именно, что дело вчера происходило в гостях у Хустова, на даче его на Клязьме, куда сам Хустов, автор скетча, и возил его. Степа припомнил даже, как нанимали таксомотор возле «Метрополя» и еще был при этом какой-то актер, и именно с патефоном, от которого потом, помнится, страшно выли собаки. Вот только поцелованная дама осталась неразгаданной. Во всяком случае, это была не жена Хустова, а какая-то неизвестная, кажется, с соседней дачи, а впрочем, черт ее знает откуда, но была.
Вчерашний день помаленьку разъяснялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний – появление в спальне неизвестного, да еще с водкой и закуской,– вот что интересно было бы объяснить.
– Ну что же, теперь вы, надеюсь, вспомнили мою фамилию? – спросил незнакомец.
Степа опохмелился настолько, что даже нашел в себе силу игриво улыбнуться и развести руками.
– Однако,– заметил незнакомец,– я чувствую, почтеннейший Степан Богданович, что вы после водки пили портвейн. Ах, разве можно это делать!
– Я хочу вас попросить, чтобы это было между нами…– искательно попросил Степа.
– О, помилуйте, конечно! Вот за Хустова я, конечно, не ручаюсь!
– Разве вы знаете Хустова?
– Вчера у вас в кабинете видел его мельком, но достаточно одного взгляда на его лицо, чтобы сразу понять, что сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.
«Совершенно верно»,– подумал Степа, пораженный верным, кратким, точным определением Хустова. Вчерашний день, таким образом, складывался как бы из кусочков, но тревога Степы ничуть не уменьшалась: во вчерашнем этом дне все же зияла преогромная черная дыра.
Вот этого самого незнакомца в черном берете, в черном костюме, в лакированной обуви, со странным лицом с разными глазами и кривым ртом во вчерашнем дне не было, и Степа откровенно вздрогнул, когда незнакомец упомянул о встрече в кабинете.
Тут незнакомец решил прийти Степе на помощь.
– Профессор черной магии Фаланд,– представился он и стал все объяснять по порядку. Вчера он явился к Степе днем в служебный кабинет и предложил выступить в кабаре. Степа позвонил в зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал, после чего подписали контракт на семь выступлений (Степа дрогнул). Как раз когда прощались, в кабинете директора появился этот самый Хустов и Степу увез. На прощание условились, что в одиннадцать иностранный артист придет к Степе подробнее оговорить программу. В одиннадцать, как он уже докладывал, он явился и был встречен растерянной домработницей Груней, которая сказала, что с Александром Александровичем Мирцевым что-то случилось, что дома он не ночевал, что ночью приходил председатель правления Никанор Иванович с какими-то военными и что бумаги Мирцева увезли (Степа побледнел), а что если незнакомцу нужен Степан Богданович, то его на рассвете привезли двое каких-то совершенно пьяным и что он еще спит, как колода, и что она не знает, что делать, потому что обеда никто не заказывал… Тут иностранный артист позволил себе распорядиться самому: именно, послал Груню в ближайший магазин «Гастроном», и вот Груня и закупила все и сервировала…
– Позвольте мне с вами рассчитаться,– сказал Степа и пошарил под подушкой, ища бумажник.
– О, помилуйте, какой вздор! – воскликнул гастролер и даже и смотреть не захотел на бумажник.
Итак, водка и закуска тоже разъяснились, но все-таки на Степу жалко было смотреть: никакого контракта он не заключал вчера и, хоть убейте, не видел вчера этого Фаланда.
– Разрешите взглянуть на контракт,– попросил пораженный Степа.
– Пожалуйста! – воскликнул гость и вынул контракт.
У Степы в глазах позеленело, но уж не от похмелья. Он узнал свою подпись на несомненном контракте, составленном по всей форме, и не только составленном, но уже и выполняемом, потому что из надписей на контракте видно было, что из четырнадцати тысяч господин Фаланд пять уже получил.
«Что же это такое?!» – подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась, но уже после того, как контракт был показан, дальнейшее удивление выражать было бы просто неприлично, и Степа, попросив разрешения на минуту отлучиться, как был в носках побежал в переднюю к телефону.
По дороге завернул в кухню и крикнул:
– Груня!
Никто не отозвался.
Из передней заглянул тревожно в кабинет Мирцева, но ничего там особенного не обнаружил.
Тогда он, прикрыв дверь в коридор из передней, набрал номер телефона в кабинете финансового директора кабаре Григория Даниловича Римского. Положение Степы было щекотливое: и иностранец мог обидеться, что Степа проверяет его уверения (да и контракт, черт возьми, показан!), и с финдиректором трудно было говорить.
Нельзя же спросить: «Заключал ли я вчера контракт на четырнадцать тысяч?!»
– Да! – резко крикнул в трубку Римский.
– Здравствуйте, Григорий Данилович,– смущенно заговорил Степа,– это я, Лиходеев. Тут вот какое дело: у меня сидит… гм… артист Фаланд… Как насчет сегодняшнего вечера?..
– Ах, черный маг? Все готово,– ответил Римский,– афиши будут через полчаса.
– Ага,– слабым голосом сказал Лиходеев,– ну, пока.
– Скоро придете? – спросил Римский.
– Через полчаса,– ответил Степа и, повесив трубку, сжал голову руками. Она была горячая. Сомнений больше не было. Контракт был заключен, Римский в курсе дела. Но штука выходила скверная! Что же это за такой провал в памяти? И водка здесь ни при чем. Можно забыть то, что было после нее, но до нее?
Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, гость ждал. Степа тогда составил такой план – скрыть от всего мира свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом расспросить артиста хорошенько хоть о том, что он, собственно, сегодня на первом выступлении будет делать.
Степа двинулся по коридору к спальне и, поравнявшись с дверью, ведущей из коридора в гостиную, вздрогнул и остановился. В гостиной, отразившись в зеркале, прошла странная фигура – длинный какой-то, худой, в шапчонке. Степа заглянул в гостиную – еще больше поразился – никого там не было.
Где-то хлопнула дверь, кажется, в кухне, и тотчас в гостиной случилось второе явление: громадный черный кот на задних лапах прошел по гостиной, также отразившись в зеркале, и тотчас пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «С ума я, что ли, схожу? Что это такое?» И, думая, что дверь хлопнула в кухне потому, что Груня вернулась, закричал испуганно и раздраженно:
– Груня! Какой тут кот у нас? Откуда он?
– Не беспокойтесь, Степан Богданович,– отозвался вдруг из спальни гость,– кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронежскую губернию.
Слова эти были настолько дики и нелепы, что Степа решил, что он ослышался. В полном смятении он заглянул в спальню и буквально закоченел у дверей на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу выступил холодный пот.
Гость был уже не один в спальне. В другом кресле сидел тот самый тип, что померещился в гостиной. Теперь он был яснее виден – усы-перышки, мутно блестит стеклышко в пенсне, а другого стеклышка нету. Но хуже всего было третье: на пуфе сидел черный кот со стопкой водки в одной лапе и с вилкой, на которую он поддел маринованный гриб, в другой.
Свет, и так слабый в спальне, начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как сходят с ума»,– подумал он и ухватился за притолоку.
– Я вижу, вы немного удивлены, драгоценнейший? – осведомился гость.– А между прочим, удивляться нечему. Это моя свита.
Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке.
– Свита эта требует места в квартире,– продолжал гость,– так что кто-то здесь лишний в квартире. И мне кажется, что это именно вы!
– Они,– вдруг ввязался козлиным голосом в разговор длинный, в котором Мирцев мгновенно узнал бы незабвенного регента,– они,– продолжал он, явно подразумевая под этим словом самого Степу,– вообще в последнее время жутко свинячат в Москве. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое служебное положение, лгут начальству…
– Машину зря гоняет казенную,– добавил кот, прожевывая гриб.
И тут случилось четвертое и последнее явление – тогда, когда Степа, сползши совсем уже на пол, негнущейся рукой царапал притолоку.
Из-за трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке и с длиннейшим клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, рыжий.
И вышедший сразу вступил в разговор.
– Я,– заговорил он гнусаво,– вообще не понимаю, как он попал в директора. Он такой же директор, как я архиерей. Ему давно уже надо проветриться. Разрешите, мессир, выкинуть его к чертовой матери из Москвы!
– Брысь! – рявкнул кот, вздыбив шерсть.
И тогда сперва спальня, а затем и вся квартира завертелась вокруг Степы, так что все смешалось в угасающих глазах. Степа ударился головой о низ притолоки и потерял сознание. Последняя мысль его была: «Я – умираю!»
Но он не умер. Открыв глаза, он увидел себя в тенистой аллее под липами, и первое, что ощутил,– это сладкое свежее дуновение в лицо от реки. И эта река, зашитая в гранит, река бешеная, темная, как бы графитовая, не текла, а неслась, бешено прыгая через камни, разбрасывая пену и грохоча. На противоположном берегу виднелась хитро и пестро разрисованная мечеть, а когда Степа поднял голову, увидел в блеске солнечного дня вдали за городом большую гору с плоской, косо срезанной, вершиной.
Шатаясь, Степа поднялся со скамейки, на которой очнулся, и оглянулся. Приближался какой-то человек; приблизившись, он диковато уставился на Степу. Это было естественно: Степа стоял перед ним в сорочке, брюках, носках, с опухшим лицом, с сумасшедшими глазами и пошатывался.
– Умоляю,– выговорил наконец Степа жалким, молящим, чистым голосом,– скажите, какая это гора?
Человек усмехнулся и ответил:
– Однако! – и хотел пройти.
Тогда Степа пошел на все. Стал на колени, моляще протянул руки и заговорил:
– Я не пьян! Поверьте, я не пьян… Я болен… Со мною что-то случилось страшное. Скажите мне, где я? Какой это город?
Человек остановился, все еще недоверчиво косясь на растерзанного Степу, поправил кепку и наконец ответил, нахмурясь:
– Ну, Владикавказ.
Степа качнулся с колен влево, тихо простонал и упал лицом в песок аллеи. Сознание покинуло его.
Глава 8
Ошибка профессора Стравинского
Несколько ранее, чем со Степой случилась беда, Иван Николаевич проснулся после глубокого и долгого сна и некоторое время соображал, как он попал в эту необыкновенную комнату с белейшими стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого и легкого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце.
Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль, естественно, потянула за собою воспоминание о гибели Мирцева, но она не вызвала в Иване вчерашнего потрясения.
Вообще, выспавшись, он стал спокойнее и хоть своей миссии поймать таинственного на букву «Ф» или оповестить о нем хотя бы и не забыл, но решил действовать сдержаннее, так как было ясно, что силой ничего не возьмешь.
Увидев на стене над постелью кнопку звонка, Иван нажал ее, и тотчас появилась толстая, приветливая женщина в белом и сказала: «Доброе утро!»
Иван не ответил, так как счел это приветствие неуместным: в самом деле – засадить здорового человека в лечебницу, да еще делать вид, как будто это так и нужно!
Женщина, оставаясь по-прежнему приветливой, опять-таки при помощи одного нажима кнопки увела широкую штору вверх. В комнату хлынуло солнце через металлическую широкопетлистую решетку, за которой открывался балкон, опять-таки с решеткой, но в мелкую петлю – скорее сеткой, чем решеткой. За решетками виден был бор на высоком берегу извивающейся реки.
– Пожалуйте ванну брать,– пригласила женщина; стена под ее руками раздвинулась, обнаружилось ванное отделение с белой ванной с блестящими кранами, с душем.
Иван решил с женщиной не разговаривать – ведь она-то его выпустить не может, но не удержался и, глядя, как широкими струями вода хлещет в ванну, сказал с иронией:
– Ишь ты! Как в «Астории».
Толстая женщина на это ответила с гордостью:
– Ну нет, гораздо лучше. За границей нигде нет такого оборудования. Ученые и врачи специально приезжают осматривать. Каждый день интуристы бывают.
При слове «интуристы» Ивану сразу вспомнился вчерашний консультант. Он затуманился, посмотрел на женщину исподлобья и сказал:
– Интуристы… До чего вы все интуристов любите! А среди них разные бывают. Вот вчера, например, мне такой попался интуристик…
И чуть было не рассказал, но опять-таки вспомнил, что толку от этого не будет, умолк.
Вымытого Ивана повели по коридору, ослепительно чистому, пустому, куда-то.
Одна встреча, впрочем, здесь произошла. Попался по дороге тоже куда-то направляющийся пациент в сопровождении другой женщины и, поравнявшись с Иваном, высунул ему язык и показал кукиш.
Иван обиделся и уж хотел затеять историю, но спутница его успокоила, сказавши, что это больной и уж на него обижаться никак не приходится.
Вскоре Иван оказался в кабинете необыкновенной величины. Иван, решивший мысленно относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании, где он находится противу своей воли, с иронией, тут же окрестил кабинет «фабрикой-кухней».
И было за что.
Здесь находились и шкафы с блестящими инструментами, и какие-то сложные кресла, и разноцветные лампы с блестящими колпаками, и провода электрические, и неизвестные приборы. Тут трое принялись за Ивана – женщина и двое мужчин. Началось с того, что его отвели в уголок и усадили перед столиком, с явной целью расспрашивать.
Иван обдумал свое положение: перед ним было три пути – первый – кинуться на все эти приборы, а к этому очень подмывало, что можно – поломать и таким образом обратить наконец на себя внимание и доказать, что он здоров и задержан зря. Подумав всего несколько мгновений, Иван этот путь решил отринуть. Путь второй – рассказать о человеке, бывшем у Понтия Пилата на балконе, и о том, что он заранее знал о постном масле. Вчерашний опыт, однако, показал, что рассказу этому или не верят, или как-то понимают его извращенно, поэтому Иван и от этого пути отказался, а избрал третий – замкнуться в гордом молчании.
Полностью этого осуществить не удалось, потому что пришлось отвечать на множество вопросов. У Ивана выспросили все решительно насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда он болел скарлатиной. Исписав за Иваном целую страницу, ее перевернули, и женщина-врач перешла к родителям Ивана. Когда кто умер, да отчего, да пил ли и сколько и прочее и прочее.
Наконец, узнав все, что хотелось, принялись за Ивана с другой стороны. Смерили температуру, посчитали пульс, смотрели зрачки, светили в глаза, кололи не больно чем-то спину, рисовали рукоятью молоточка какие-то буквы на груди, из пальца на стеклышко взяли каплю крови, но этим не удовольствовались и пососали крови из жилы в шприц, надевали какие-то резиновые браслеты на руки, в какие-то груши вдували воздух, отчего браслеты давили руку. Заставляли стоять на одной ноге, закрыв глаза.
Иван безропотно подчинялся всему и только вздыхал, размышляя о том, как иногда чудно получается в жизни. Казалось бы, хотел принести пользу, хотел задержать важнейшего и весьма странного преступника и вот, на-поди, оказался за городом, и у него за все его старания кровь берут на исследование.
Вскоре мучения Ивана кончились, и он препровожден был обратно к себе в номер и получил там завтрак, состоящий из чашки кофе, двух яиц всмятку и белого хлеба с маслом. Съев все предложенное, Иван решил ждать терпеливо какого-то главного и уж у него добиться и внимания, и справедливости.
И этого главного он дождался немедленно после завтрака. Стена, ведущая из номера в коридор, разошлась, и вошло к Ивану множество народу в белых халатах. Впереди всех вошел выбритый, без усов и бороды, человек лет сорока пяти, с приятными темными глазами и вежливыми манерами. Вся свита его, в которой были и женщины, и мужчины, оказывала вошедшему всевозможные знаки внимания, от чего вход получился очень торжественным.
«Как Понтий Пилат…» – подумалось Ивану.
Появились откуда-то табуреты, кой-кто сел вслед за главным, а кто остался в дверях стоять.
– Доктор Стравинский,– представился, усевшись на табурет, главный и дружелюбно поглядел на Ивана.
– Вот, Александр Николаевич,– негромко сказал какой-то с опрятной бородкой и подал профессору тот самый лист, который после кабинета был исписан кругом.
«Целое дело сшили»,– подумал Иван.
Главный привычными глазами пробежал по листу, что-то ногтем подчеркнул, «угу, угу» пробормотал и обмолвился несколькими словами с окружающими на неизвестном языке… Однако одно слово из сказанного заставило Ивана неприятнейшим образом вздрогнуть. Это было слово «фурибунда», увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших. Иван потемнел лицом и беспокойно поглядел на главного.
Тот, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем, что бы ему ни говорили, все, по возможности, одобрять, на все со светлым лицом говоря: «Славно! Славно». Так он поступил, дочитав лист и поговорив со свитой.
– Славно! – сказал Стравинский, отдал лист кому-то и обратился к Ивану:
– Вы – поэт?
– Поэт,– мрачно ответил Иван. И вдруг тут впервые в жизни почувствовал отвращение к поэзии, и стихи его вдруг показались ему сомнительными.
В свою очередь, он спросил Стравинского:
– Вы – профессор?
Стравинский вежливо наклонил голову.
– Вы здесь главный? – спросил Иван.
Стравинский и на это поклонился, а в свите улыбнулись.
– Так вот, мне с вами нужно поговорить,– многозначительно сказал Иван.
– Я для этого и пришел,– сказал Стравинский.
– Вот что,– начал Иван, чувствуя, что наконец настал час все выяснить,– меня никто не хочет слушать, в сумасшедшие вырядили…
– О нет, мы вас выслушаем очень внимательно,– серьезно и успокоительно отозвался Стравинский,– в сумасшедшие ни в коем случае вас рядить не будут.
– Так слушайте же! Вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранец не иностранец, который заранее знал о смерти Саши Мирцева и лично видел Понтия Пилата.
Свита затихла, никто не шелохнулся.
– Пилата? Пилат – это который жил при Христе? – прищурившись на Ивана, спросил Стравинский.
– Тот самый,– подтвердил Иван.
– А кто это Саша Мирцев? – спросил Стравинский.
– Мирцев – известный редактор и секретарь Массолита,– пояснил Иван.
– Ага,– сказал Стравинский,– итак, вы говорите, он умер, этот Саша?
– Вот же именно вчера его и зарезало трамваем на Патриарших прудах, причем этот самый загадочный гражданин…
– Знакомый Понтия Пилата? – спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью.
– Именно он,– подтвердил Иван, глядя мрачными глазами на Стравинского,– сказал заранее, что Аннушка разлила постное масло… а он и поскользнулся как раз на этом месте через час. Как вам это понравится? – многозначительно спросил Иван и прищурился на Стравинского.
Он ожидал большого эффекта, но его не последовало, и Стравинский при полном молчании врачей задал следующий вопрос:
– А кто же эта Аннушка?
Этот вопрос расстроил Ивана, лицо его передернуло.
– Аннушка здесь не важна,– проговорил Иван, нервничая,– черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее знал о постном масле… Вы меня понимаете?
– Отлично понимаю,– серьезно сказал Стравинский и коснулся колена Ивана,– продолжайте.
– Продолжаю,– сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что только спокойствие поможет ему,– этот страшный тип отнюдь не профессор и не консультант, а убийца и таинственный субъект, а может, и черт его знает кто еще, обладает какой-то необыкновенной силой… Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности! Да он лично был на балконе у Пилата! Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед.
– И вы хотите добиться, чтобы его арестовали? Я правильно вас понял? – спросил Стравинский.
«Он умен! – подумал Иван.– Среди интеллигентов попадаются на редкость умные!»
– Как же этого не добиваться – согласитесь сами! – воскликнул Иван.– А меня силою задержали здесь, тычут мне в глаза лампы, в ванне купают! Я прошу выпустить меня немедленно!
– Ну что же, славно, славно,– покорно согласился Стравинский,– я вас не держу. Какой же смысл задерживать вас в больнице, если вы здоровы? И я немедленно выпишу вас отсюда, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?
Тут наступила полнейшая тишина, и толстая женщина, ухаживавшая за Иваном утром, благоговейно посмотрела на профессора, а Иван еще раз растерянно подумал: «Положительно – умен!»







