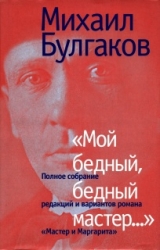
Текст книги " Мой бедный, бедный мастер… "
Автор книги: Михаил Булгаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 87 страниц)
– Старая штука,– раздался вызывающий голос на галерее,– этот в партере из ихней же компании.
– Вы полагаете? – заорал Фагот, щурясь на галерею сквозь разбитое стеклышко.– В таком случае она у вас в кармане, Фома неверный!
На галерке произошло движение, а потом послышался радостный голос:
– Верно… у него! Тут, тут! Стой! Это червонцы!
Волнение усилилось, в партере все повернули головы к галерее. Там смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке: «Одна тысяча рублей».
Соседи навалились на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.
– Ей-богу, настоящие! Червонцы! – кричали с галерки.
– Сыграйте и со мною в такую колоду,– весело попросил какой-то толстяк в глубине партера.
– Авек плезир, мосье,– отозвался Фагот,– но почему же с одним вами? Все примут участие! – И скомандовал: – Прошу глядеть вверх!
Когда головы поднялись, Фагот рявкнул:
– Раз! – в руке у него оказался пистолет. Он крикнул: – Пли! – сверкнуло, бухнул выстрел, и тотчас из-под купола, ныряя между нитями трапеций, начали падать в зал белые бумажки.
Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало и в оркестр, и на сцену. Через несколько секунд бумажный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить.
Сперва веселье, а потом изумление разлилось по всему театру. Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки.
Запах также не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег.
И слово «червонцы, червонцы!» загудело повсюду, послышались вскрикивания «ах, ах!» и смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами, многие уже ногами стояли на сиденьях, ловили вертлявые бумажки.
На лицах милиции, дежурившей у входов, выразилось тягостное недоумение, а артисты без церемонии стали высовываться из-за кулис.
С галереи донесся голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» – и другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!» – и завязалась какая-то возня, появился на галерее шлем милиционера, и кого-то стали с галереи уводить.
Возбуждение возрастало, и неизвестно даже, вот что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух.
Двое молодых людей в стрижке боксом и с преувеличенными, ватой подбитыми плечами, обменявшись многозначительным веселым и глумливым взглядом, снялись с мест и вышли из партера через ту дверь, что вела в буфет.
В театре стоял гул, в котором больше всего слышались слова «настоящие!», глаза у всех возбужденно блестели.
Тут только Бенгальский нашел в себе силы и шевельнулся. Стараясь овладеть собою, он потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так:
– Итак, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес не существует. Попросим же месье Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки, что у вас в руках, исчезнут так же внезапно, как и появились.
Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. На лице у него при этом играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности не было, и скорее в них выражалась мольба.
Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, и было оно прервано клетчатым Фаготом.
– Это опять-таки случай так называемого вранья,– прокричал он козлиным тенором,– бумажки, граждане, настоящие.
– Браво! – отрывисто рявкнул бас на галерке.
– Между прочим, этот,– и тут наглый Фагот пальцем указал на Бенгальского,– мне надоел! Суется все время, куда его не спрашивают, ложными своими замечаниями портит весь сеанс. Что бы нам такое с ним сделать?
– Голову ему оторвать! – сказал кто-то сурово на галерке.
– Как вы говорите? Ась? – тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот.– Голову оторвать? Это идея! Бегемот,– закричал он коту,– делай! Эйн, цвей, дрей!
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда на голову. Пухлыми лапами вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал голову с полной шеи.
Две с половиной тысячи человек в театре, как один, вскрикнули. Кровь фонтанами из разорванной шеи ударила вверх и залила и манишку, и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол.
Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова плаксиво крикнула:
– Доктора!
В зале послышались истерические крики женщин.
– Ты будешь в дальнейшем всякую чушь молоть? – грозно спросил Фагот у головы.
– Не буду больше! – прохрипела голова, и слезы покатились из ее глаз.
– Ради бога, не мучьте его! – вдруг, покрывая шум, прозвучал из ложи женский голос, и видно было, как маг повернул в сторону голоса лицо.
– Так что же, граждане, простить его, что ли? – спросил Фагот, обращаясь к залу.
– Простить! Простить! – раздались вначале отдельно и преимущественно женские голоса, а затем они слились в дружный хор с мужскими.
– Как прикажете, мессир? – спросил Фагот у замаскированного.
– Ну что ж,– задумчиво и тихо отозвался тот,– я считаю твои опыты интересными. По-моему, они люди как люди. Любят деньги, что всегда, впрочем, отличало человечество. Оно любило деньги, из чего бы они ни были сделаны, из кожи ли, бумаги, бронзы или золота. Легкомысленны… но и милосердие иногда стучится в их сердца.– И громко приказал: – Наденьте голову!
Кот Бегемот и Фагот бросились к неподвижному телу Бенгальского, Фагот поднял его за шиворот, кровь перестала бить. Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову не шею, и она аккуратно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И, главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак Бенгальского, и с него исчезли всякие следы крови. Фагот нахватал из воздуха целый пук червонцев, засунул их в карман фрака несчастного конферансье, подпихнул его в спину и выпроводил со сцены со словами:
– Катитесь отсюда! Без вас веселей!
Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конферансье добрел до пожарного поста, и здесь с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул:
– Голова, моя голова!
К нему кинулись. И в числе прочих Римский. Конферансье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал:
– Отдайте мне голову! Голову отдайте!
Римский, проклиная мысленно окаянного Степу, велел курьеру бежать за врачом. Бенгальского пробовали уложить на диван в уборной, но конферансье стал отбиваться, сделался буен.
Когда его в карете увезли, Римский вернулся и увидел, что на сцене происходят буквально чудеса.
Оказывается, Фагот, спровадив несчастного Жоржа, объявил публике так:
– Таперича, граждане, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин!
И тут же сцена покрылась персидскими коврами, возникли громадные зеркала, освещенные с боков пронзительно светящимися трубками, а меж зеркал витрины, а в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов несомненные парижские платья. Это в одних витринах. А в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, сотни же туфель черных, белых, желтых, атласных, замшевых, и с пряжками, и с ремешками, и с камушками.
Между туфель выросли аппетитные коробки, открытые, разных цветов, иные из них с кисточками; в коробках заиграли светом блестящие грани хрустальных флаконов.
Горы сумочек из кожи антилопы, из замши, из крепдешина, меж ними груды чеканных золотых футлярчиков с губной помадой.
Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем туалете, всем хорошая девица, за исключением того, что шея ее была изуродована причудливым шрамом, появилась у витрин, улыбаясь хозяйской улыбкой.
Фагот, сладко улыбаясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен дамских платьев и обуви почтеннейшей публики на парижские модели. То же относительно сумочек, духов и прочего.
Кот стал шаркать задней лапой, передней выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим двери.
Девица запела сладко, хоть и с хрипотцой и сильно картавя, что-то малопонятное, но очень, по-видимому, соблазнительное:
– Прошу, медам, прошу! Креп, Герлен, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар, вечерние платья, платья коктейль.
Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины.
– Прошу! – орал Фагот.– Без всякого стеснения и церемоний… Прошу! Без всяких доплат меняем старое платье на новое!
Публика волновалась, глаза у всех блестели, но идти на сцену пока никто не решался.
Но наконец какая-то гладко причесанная брюнетка вышла из десятого ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и в общем наплевать, что будут говорить, прошла и поднялась сбоку на сцену.
– Браво, браво! – вскричал Фагот.– Приветствуем первую посетительницу. Медам! Бегемот, кресло! Начнем с обуви, медам?
Брюнетка села в кресло, и Фагот тотчас вывалил на ковер перед нею груду туфель. Брюнетка сняла свою туфлю, примерила сиреневую, потопала в ковер, осмотрела каблук.
– А они не будут жать? – задумчиво спросила она.
Фагот обиженно воскликнул: «Что вы!» – и кот от обиды мяукнул.
– Я беру эту пару, мосье,– сказала брюнетка с достоинством, надевая и вторую туфлю.
Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, туда же проследовала и смелая брюнетка в сопровождении рыжей девицы и Фагота, несущего на плечах несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности набросил себе на шею сантиметр.
Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему партеру прокатился вздох. Храбрая женщина, удивительно похорошевшая, остановилась у зеркала, тронула волосы, изогнулась, оглядывая спину, и потом пошла к рампе.
Ее перехватил Фагот, подал ей лаковую сумочку и футляр с духами.
– Фирма просит вас принять это на память,– заявил Фагот, извиваясь, как змея.
– Мерси, мосье,– надменно ответила брюнетка и вернулась в партер.
Зрители вскакивали с мест, чтобы рассмотреть ее получше, прикасались к сумочке, поражались.
Тут и прорвало, и со всех сторон на сцену пошли женщины.
В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос: «Я не позволяю тебе!» – и женский: «Дурак, деспот и мещанин, не ломайте мне руку!»
Взволнованный партер гудел от восторга, а на сцене кипела работа. Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья, выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел уже целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. Фагот становился не колени, мял в руках ступни, орудовал роговой надевалкой, кот, изнемогая под грудами сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам, девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала за занавеской и дошла до того, что полностью тарахтела по-французски. Причем удивительно было то, что ее с полуслова понимали все дамы, даже и не знающие французского языка.
Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он сказал Фаготу, что у жены его грипп, она не могла быть в театре, поэтому он просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, готов предъявить паспорт.
Заявление заботливого мужа было встречено хохотом, Фагот проорал, что он верит гражданину и без паспорта, и вручил ему две пары шелковых чулок, а кот от себя добавил футляр с помадой.
Дело стало принимать характер столпотворения. Женщины текли со сцены в бальных платьях, в пижамах, разрисованных драконами, в строгих костюмах для визита, в шляпочках, надвинутых на одну бровь. В руках у дам сверкали флаконы и золотые трубочки помады. Опоздавшие стремились на сцену.
И тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера через минуту. Неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро хватали туфли без примерки. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила свой костюм и надела первое, что подвернулось – шелковый, в громадных букетах, халат, успела, выскочив, подцепить два футляра духов.
Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, и стон опоздавших разнесся по всему залу и сцене. Зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла огромнейшая груда старых платьев и обуви. И стала сцена опять строга, пуста и гола, и осталось на ней только кресло с сидящим в нем неподвижно магом в маске.
И здесь в дело вмешалось новое действующее лицо.
Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из близкой к сцене левой ложи № 2:
– Все-таки нам было бы приятно, гражданин артист, если бы вы незамедлительно разоблачили бы зрителям технику ваших фокусов, построенных, конечно, на гипнозе. В особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и скорейшее возвращение конферансье. Судьба его волнует зрителей.
Баритон принадлежал не кому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера Аркадию Аполлоновичу Семплеярову, заведующему акустикой московских театров.
Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами: пожилой и очень дорого и модно одетой, и другой – молоденькой и одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола милицией, была женою Аркадия Аполлоновича, а вторая – племянницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей у Аркадия Аполлоновича с супругою.
Чувствуя на себе тысячи глаз отовсюду, Аркадий Аполлонович приосанился и поправил пенсне.
– Пардон! – отозвался Фагот, наивно улыбнувшись.– Это не гипноз, я извиняюсь! И в общем, разоблачать здесь нечего!
– Виноват,– настойчиво продолжал Аркадий Аполлонович,– разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения…
– Зрительская масса,– перебил Аркадия Аполлоновича наглый гаер Фагот,– как будто ничего не заявляла? Ась?
– Браво! – далеко крикнул кто-то.
– Но принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, я произведу разоблачение, драгоценный Аркадий Аполлонович (Аркадий Аполлонович немного изумился, убедившись в том, что неизвестный знает его имя и отчество). Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?
– Отчего же,– ответил Аркадий Аполлонович,– но с разоблачением!
– Слушаюсь! Слушаюсь! – прокричал Фагот и, потирая руки, осведомился у Аркадия Аполлоновича: – Где вы вчера вечером изволили быть, Аркадий Аполлонович?
При этом неуместном и даже хамском вопросе лицо заведующего акустикой изменилось, и сильно.
– Аркадий Аполлонович вчера вечером был в заседании акустической комиссии,– ответила супруга Аркадия Аполлоновича очень надменно,– но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии?
– Уи, мадам! – подтвердил Фагот.– Натурально вы не понимаете! Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то не было, Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания акустической комиссии, а сам в автобусе отправился на Елоховскую улицу к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около четырех часов.
– Ой! – жалобно воскликнул кто-то в бельэтаже.
Молодая дама, сидевшая в ложе Аркадия Аполлоновича, вдруг рассмеялась низким контральтовым смехом.
– Все понятно! – воскликнула она.– Давно подозревала! Понятно, почему эта бездарность получила роль Луизы!
И, внезапно размахнувшись, коротким и толстым лиловым зонтиком ударила Аркадия Аполлоновича по голове.
Кое-кто ахнул в публике, а подлый Коровьев, и он же Фагот, закричал:
– Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так упорно добивался Аркадий Аполлонович!
– Как смела ты, негодяйка, ударить моего мужа? – хриплым, придушенным голосом спросила супруга Аркадия Аполлоновича, поднимаясь в ложе во весь рост.
Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой дамой.
– Уж кто-кто,– ответила она, испустив смешок,– а я-то смею, я-то смею! – И второй раз раздался резкий треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича.
– Милиция! Взять ее! – страшным голосом прокричала супруга Аркадия Аполлоновича, который остался совершенно неподвижен у борта ложи, как окаменевший.
И тут кот, совершенно ошеломив публику, подошел в рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом:
– Сеанс окончен! Маэстро! Рваните марш!
Ополоумевший дирижер, не отдавая даже себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр покрыл шум скандала залихватским маршем. А после этого все уже смешалось. Видно было только, что к ложе № 2 спешит милиция, а на пустой сцене черного мага, Фагота-Коровьева и кота Бегемота уже не было видно. Они так же бесследно растаяли в воздухе, как и кресло с полинявшей обивкой.
Глава XIII
Явление героя {196}
Итак, неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал:
– Т-сс!
Иван спустил ноги с постели, всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату мужчина лет тридцати восьми {197} , бритый, темноволосый, с острым носом и встревоженными глазами, со свешивающимся на лоб клоком волос.
Увидев, что Иван один, прислушавшись, таинственный посетитель осмелел, вошел в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечах халат.
Пришедший подмигнул Ивану, спрятал в карман халата связку ключей, шепотом осведомился у Ивана: «Можно присесть?» – и, получив утвердительный кивок, поместился в кресле.
– Как же вы сюда попали? – шепотом, повинуясь сухому грозящему пальцу, спросил Иван.– Ведь балконные-то решетки на замках?
– Решетки на замках,– подтвердил гость,– но Прасковья Васильевна – милейший, но, увы, рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и таким образом получил возможность не только выходить на балкон, но, как видите, иногда навестить и соседа.
– Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете и удрать? Или высоко? – спросил Иван.
– Нет,– твердо ответил гость,– я не могу удрать, и не потому, что высоко, а по другим причинам.– После паузы он спросил: – Итак, сидим?
– Сидим,– ответил Иван, всматриваясь в живые карие глаза пришельца.
– Да… но вы, надеюсь, не беспокойный? – вдруг затревожился тот.– А то я, знаете, боюсь шума, драк, возни и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или какой-нибудь иной крик. Успокойте меня, скажите, вы не беспокойный?
– Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил,– мужественно признался преображенный поэт.
– Основание? – строго спросил гость.
– Да, признаться, без основания,– ответил, конфузясь, Иван,– так, история вышла…
– Безобразие,– отрезал гость и добавил: – Вы, я советую вам, перестаньте рукам волю давать. И кроме того, еще не установлено точно, что имеется у человека – морда или лицо. Вернее всего все-таки, что у него лицо, и, согласитесь, если каждый начнет кулаками ездить по лицам… Это надо оставить, уверяю вас!
Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился:
– Профессия?
– Поэт,– почему-то неохотно признался Иван.
Пришедший огорчился.
– Ой, как мне не везет! – воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил: – А как ваша фамилия?
– Бездомный.
– Ай-яй-яй! – сказал гость, хмурясь.
– А вам что же, мои стихи не нравятся? – спросил без всякой обиды Иван.
– Ужасно не нравятся.
– А вы какие читали?
– Никаких я ваших стихов не читал! – нервно воскликнул посетитель.
– А как же вы говорите?
– Ну что же «как же»? Как будто я других не читал! А ваши, я убежден, такие же точно. Впрочем… разве что чудо?.. Ну тогда скажите мне сами, я готов принять на веру… Хороши ваши стихи?
– Чудовищные! – вдруг внезапно смело и откровенно признался Иван.
– Не пишите больше! – попросил пришедший умоляюще.
– Обещаю и клянусь! – торжественно прошептал Иван.
Клятву скрепили рукопожатием, и тотчас из коридора донеслись мягкие шаги и голоса.
– Т-сс! – шепнул гость и скрылся на балконе, задвинув за собою решетку.
Заглянула Прасковья Васильевна, спросила у Ивана, желает ли он лежать со светом или в темноте, а также закрыть ли ему на ночь дверь на балкон или он желает дышать воздухом.
Поэт попросил оставить свет и дверь на балкон не закрывать, и Прасковья Васильевна, пожелав спокойной ночи, удалилась. Все стихло опять, и тогда вернулся гость.
Он шепотом сообщил Ивану, что в 119-ю комнату привезли какого-то новенького толстяка с багровой физиономией, который все время бормочет что-то про деньги в вентиляции и клянется, что у них на Садовой поселилась нечистая сила.
– Ну, впрочем, бог с ним,– добавил гость и стал продолжать беседу с Иваном,– из-за чего попали сюда?
– Из-за Понтия Пилата,– ответил Иван.
– Как?! – шепотом воскликнул гость и даже привскочил.– Потрясающее совпадение! Расскажите, умоляю!..
Иван, почему-то испытывая доверие к неизвестному, первоначально запинаясь и робко поглядывая на гостя, а потом осмелев, начал рассказывать всю вчерашнюю историю на Патриарших прудах. Да, благодарного слушателя получил Иван Николаевич в лице своего неожиданного гостя! Тот не рядил Ивана в сумасшедшие, нет-нет, он проявил величайший интерес к этой истории, а в дальнейшем пришел уж и просто в восторг. Он то и дело прерывал Ивана восклицаниями: «Ну, ну… Дальше, дальше, умоляю! Не пропускайте ничего!»
Когда же после рассказа о завтраке у Канта и прочем дело дошло наконец до того, как Пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел в колоннаду, гость молитвенно сложил руки и прошептал:
– О, как я угадал! О, как я все угадал!
Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием:
– Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича…– И исступленно, но беззвучно вскричал: – Дальше!
Кот, садящийся в трамвай, чрезвычайно развеселил гостя, и он давился смехом, глядя, как взволнованный успехом своего повествования Иван прыгал на корточках, изображая кота с гривенником возле усов.
– И вот,– вдруг туманясь и загрустив, сказал Иван,– я и оказался здесь.
Гость сочувственно положил руку на плечо бедного поэта и заметил:
– Вы сами виноваты во всем. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и, я сказал бы, даже нагловато. Вот вы и поплатились!
– Да кто же он, наконец, такой? – приходя в возбуждение, спросил Иван.
Гость вгляделся в Ивана и ответил вопросом:
– Вы не впадете в беспокойство? Уколов и прочей возни не будет?
– Нет, нет! – воскликнул Иван.– Скажите, кто он такой?
– Ну хорошо,– ответил гость и сказал веско и раздельно: – Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной.
Иван не впал в беспокойство, но был как-то ошарашен.
– Не может этого быть,– заговорил он,– его не существует!
– Помилуйте, уж кому-кому, но не вам это говорить,– возразил гость,– вы были одним из первых, кто от него пострадал. Сидите теперь в психиатрической клинике, а все толкуете о том, что его нет. Право, это странно!
Сбитый с толку Иван замолчал.
– Лишь только вы стали описывать его наружность,– продолжал гость,– я догадался, кто был перед вами. И нечего говорить, что первые же его речи, что вы мне привели, рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать. Впрочем, вы… вы меня извините, вы человек невежественный?
– Бесспорно,– подтвердил Иван.
– Ну вот… неужели вы даже оперы «Фауст» не слыхали?
Иван, конфузясь, объяснил, что как-то все времени не было, то комиссии, то заседания, то он ездил в санаторий поэму писать… Словом, не пришлось…
– Ну вот… Неудивительно. А вот Берлиозу я, признаться, удивляюсь. Он человек не столько начитанный, сколько хитрый. Хотя в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд может запутать кого угодно…
– Как? – воскликнул Иван.
– Тише! – воскликнул гость.– Что такое?
– Понимаю, понимаю,– забормотал Иван,– у него буква «В» на портсигаре.
– Ну, вот-с…
– Неужели он действительно был у Понтия Пилата? – всматриваясь в луну, плывущую за решеткой, прошептал Иван.– А меня сумасшедшим называют!..
Горькая складка обозначилась у губ гостя.
– Будем глядеть правде в глаза,– и он повернул лицо в сторону прекрасного светила,– и вы и я сумасшедшие. Что отпираться! Но то, что вы рассказываете, верно, ясно и правильно и действительно было. Но даже такой гениальный психиатр, как Стравинский, вам не поверит. У Понтия Пилата ваш собеседник был, как был и у Иммануила Канта, а теперь он навестил Москву.
– Да ведь он тут черт знает чего натворит! Как-нибудь его надо изловить,– озабоченно заметил Иван.
– Вы уже попробовали, и будет с вас. Другим тоже не советую его ловить,– внушительно отозвался собеседник поэта.– А что натворит, это уж будьте благонадежны. Но все-таки мне досадно, что встретился с ним не я, а вы. Клянусь, что за это я отдал бы связку ключей Прасковьи Васильевны, ибо больше мне нечего отдавать. Я – нищий.
– А зачем он вам так понадобился?
– Видите ли, какая странная история,– рассказывал гость,– дело в том, что сижу я здесь из-за того же, что и вы, и именно из-за Понтия Пилата. Да, два года тому назад я, изволите ли видеть, написал роман о нем.
– Гм… Вы – писатель? – с большим интересом спросил поэт.
– Я – мастер {198} ,– сурово ответил гость и вынул из кармана засаленную черную шапочку. Он надел ее и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он – мастер.– Она своими руками сшила ее мне,– таинственно добавил он.
– А как ваша фамилия?
– У меня нет больше фамилии,– мрачно ответил странный гость,– я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней!
Иван умолк, а гость шепотом повел рассказ.
История его оказалась действительно не совсем обыкновенной. Историк по образованию, он лет пять тому назад работал в одном из музеев, а кроме того, занимался переводами. Жил одиноко, не имея родных нигде и почти не имея знакомых. И представьте, однажды выиграл сто тысяч рублей.
– Можете вообразить мое изумление! – рассказывал гость.– Я эту облигацию, которую мне дали в музее, засунул в корзину с бельем и совершенно про нее забыл. И тут, вообразите, как-то пью чай утром и машинально гляжу в газету. Вижу – колонка каких-то цифр. Думаю о своем, но один номер меня беспокоит. А у меня, надо вам сказать, была зрительная память. Начинаю думать: а ведь я где-то видел цифру «13», жирную и черную, слева видел, а справа цифры цветные и на розоватом фоне. Мучился, мучился и вспомнил! В корзину – и, знаете ли, я был совершенно потрясен!..
Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил на пять тысяч книг и из своей комнаты на Мясницкой переехал в переулок близ Пречистенки, в две комнаты в подвале маленького домика в садике {199} . Музей бросил и начал писать роман о Понтии Пилате.
– Ах, это был золотой век,– блестя глазами, шептал рассказчик.– Маленькие оконца выходили в садик, и зимою я видел редко, редко чьи-нибудь черные ноги, слышал хруст снега. В печке у меня вечно пылал огонь. Но наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем зеленеющие кусты сирени. И тогда весною случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста тысяч рублей. А сто тысяч, как хотите, колоссальная сумма денег!
– Это верно,– согласился внимательный Иван.
– Я шел по Тверской тогда весною. Люблю, когда город летит мимо. И он мимо меня летел, я же думал о Понтии Пилате и о том, что через несколько дней я допишу последние слова и слова эти будут непременно – «шестой прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
Но тут я увидел ее, и поразила меня не столько даже ее красота, сколько то, что у нее были тревожные, одинокие глаза. Она несла в руках отвратительные желтые цветы {200} . Они необыкновенно ярко выделялись на черном ее пальто. Она повернула с Тверской в переулок и тут же обернулась. Представьте себе, что шли по Тверской сотни, тысячи людей, я вам ручаюсь, что она видела меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как-то болезненно.
И я повернул за нею в переулок и пошел по ее следам, повинуясь. Она несла свой желтый знак так, как будто это был тяжелый груз.
Мы прошли по кривому скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, она по другой. Я мучился, не зная, как с нею заговорить, и тревожился, что она уйдет и я никогда ее более не увижу.
И тогда заговорила она.
– Нравятся ли вам эти цветы?
Отчетливо помню, как прозвучал ее низкий голос, и мне даже показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от грязных желтых стен.
Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил:
– Нет.
Она поглядела на меня удивленно, а я вгляделся в нее и вдруг понял, что никто в жизни мне так не нравился и никогда не понравится, как эта женщина.
– Вы вообще не любите цветов? – спросила она и поглядела на меня, как мне показалось, враждебно.
Я шел с нею, стараясь идти в ногу, чувствовал себя крайне стесненным.
– Нет, я люблю цветы, только не такие,– сказал я и прочистил голос.
– А какие?
– Я розы люблю.
Тогда она бросила цветы в канаву. Я настолько растерялся, что было поднял их, но она усмехнулась и оттолкнула их, тогда я понес их в руках.
Мы вышли из кривого переулка в прямой и широкий, на углу она беспокойно огляделась. Я в недоумении поглядел в ее темные глаза. Она усмехнулась и сказала так:
– Это опасный переулочек.– Видя мое недоумение, пояснила: – Здесь может проехать машина, а в ней человек…
Мы пересекли опасный переулок и вошли в глухой, пустынный. Здесь бодрее застучали ее каблуки.
Она мягким, но настойчивым движением вынула у меня из рук цветы, бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли тесно рядом.
Любовь поразила нас, как молния, как нож. Я это знал в тот же день уже, через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет.
На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило приветливо нам.
И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой.
Она приходила ко мне днем, я начинал ее ждать за полчаса до срока. В эти полчаса я мог только курить и переставлять с места на место на столе предметы. Потом я садился к окну и прислушивался, когда стукнет ветхая калитка. Во дворик наш мало кто приходил, но теперь мне казалось, что весь город устремился сюда. Стукнет калитка, стукнет мое сердце, и, вообразите, грязные сапоги в окне. Кто ходил? Почему-то точильщики какие-то, почтальон, не нужный мне.







