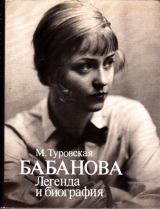
Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"
Автор книги: Майя Туровская
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Это электричество и эта пружинность были в Анке – Бабановой. Однажды, проносясь по сцене в своих огромных башмаках, она подпрыгнула, уцепилась за балку, проделала на лету несколько сложных гимнастических упражнений, как делает очень молодое здоровое существо, когда его никто не видит, точным движением приземлилась и, ликуя, помчалась дальше. Этого режиссеру и надо было.
{145} Мейерхольд, посмотрев «Поэму», одобрительно отметит «свою» мизансцену в спектакле – инстинктивно найденный «социальный жест» роли.
Из бесед с М. И. Бабановой
«Мне передавали потом слова Мейерхольда: “Кто придумал эту мизансцену?”
Я была счастлива».
А. Попов. Воспоминания и размышления о театре
«Впервые встретившись с Бабановой в работе, я наблюдал удивительно зримый процесс формирования сценического образа. В ней, как в прозрачном сосуде, виден был весь ход внутренней жизни. Ее тело стремилось к “разговору” и ярко выражало ее “внутренние монологи” и “физическое самочувствие”. Я только у Н. Хмелева в Иване Грозном наблюдал такое же одновременно сознательное и бессознательное выражение в пластике всех внутренних процессов жизни актера в роли»[131].
Погодин, несомненно, предполагал совсем другую Анку – из тех, что коня на скаку остановит, – потому что вполне серьезно написал ей текст: «Милый, на руках унесу… На самую сопку…»
Н. Погодин. Свежий ветер тридцатых годов
«Если эта удивительная Бабанова вообще никогда не верила себе и подстерегала самое себя насмешливым глазом, то в такой сцене она теряла всякую веру в свои возможности: “Кого унесу? Я?.. Это смешно…”»[132].
Впрочем, в своем актерском максимализме Бабанова не захотела отказаться и от этого эксцентрического выражения чувства. Обученная в школе Мейерхольда, она действительно поднимала на руки и уносила, – правда, не самого Степашку, а мать Степашки («женщину моего веса» – говорит Бабанова), охраняя его непробудный счастливый сон после удачной плавки.
… Так в стремительном ритме неотвратимо настающей премьеры, в недоумениях, пробах и находках, Бабанова, можно сказать, проплясала по сцене свою Анку. Она щедро дала режиссеру то, что ему было нужно: зримое воплощение неудержимого порыва и ликования, непрерывно разворачивающееся движение, которое не могут перевесить и притянуть к земле ни тяжелые огромные башмаки, подвязанные бечевкой, ни грубый фартук и рукавицы. В своей ситцевой кофточке, с растрепанными из-под платочка светлыми волосами и синим сиянием глаз, с этой рвущейся наружу стихией доверчивого и радостного приятия жизни, носившей ее легкое тело и кружившей его по сцене, она, конечно, никак не была документальным портретом работницы-ударницы. Но Попов к этому и не стремился. Если в Степане он хотел показать первое пробуждение «спящей Азии», то Анка должна была воплотить ее душу, ее светлую человеческую сущность.
М. О. Кнебель. Из книги «Режиссер, учитель, друг»
«Как рассказать о той влюбленности, нежности, восторге, которые охватывали зрительный зал, когда Анка – Бабанова врывалась в цех, где под охраной одного из плавильщиков спал крепким сном Степашка? Анка – Бабанова понимала, что его нельзя будить, но справиться с бурей счастья, охватившей ее, было тоже невозможно. И она пускалась в пляс. Я не знала {146} ни одной драматической актрисы, гибкость тела которой была бы так совершенна. Она делала сложнейшие движения с феноменальной легкостью. Танец ее казался только что рожденной импровизацией… Казалось, что это милое существо, неистово пляшущее вокруг спящего Степашки, готово раствориться в воздухе от счастья. Все это длилось какие-то секунды, и когда она внезапно исчезла, зал гремел от рукоплесканий»[133].
Премьера пьесы состоялась 7 февраля 1931 года и имела оглушительный успех, хотя не обошлось без претензий. Были сказаны слова о первом производственном спектакле. Бабанова и Орлов, Погодин, Попов и Шлепянов стали героями дня.
Некоторая повышенная утилитарность отношения к искусству сказывалась в той лексике, которую употребляли, говоря о театре.
«Победа завода воспринимается как общая победа.
Зритель окружает эти сцены аплодисментами не случайно.
И пусть отдельные сцены имеют свои грешки, пусть картины спектакля не совсем и не всегда увязаны между собой. Пусть, наконец, “матерный язык” в пьесе “весьма выразителен”. Пусть! Не в этом дело. Дело в том, что “Поэма о топоре” – пьеса, которая мобилизует на победу, убедительно показывает значение ударнического движения, рождает энтузиазм. Вот в этом ее ценность, в этом заслуга автора и театра»[134].
Утилитарность наступающих тридцатых – пока еще не очень заметно – отличалась от буквальной, а в сущности своей утопической утилитарности двадцатых, которые намерены были немедленно и всерьез искусство слить с жизнью, а жизнь возвысить до искусства.
Искусство тридцатых больше не тешило себя этим, оно обособлялось от жизни. Правда, пластины настоящей нержавеющей стали передавались со сцены в зал, а в фойе зритель мог ознакомиться с выставкой златоустовского завода; но ставить «Поэму» в цехе взамен театрального здания уже в голову не приходило. Но, обособившись, выделившись из жизни, не претендуя уже на то, чтобы быть чертежом самой действительности, искусство тем более претендовало на идеологический вес. Вмешиваться в жизнь почитало оно своей первейшей обязанностью. «Поэма о топоре» может считаться в этом роде образцовым спектаклем. И в самом прямом, публицистическом смысле: она ставила актуальную проблему преодоления «расейской» технической отсталости. Но гораздо существеннее было то, что сценарий Погодина, воплотившись в ритмы, звуки, человеческие фигуры спектакля Попова, стал образом энтузиазма, его обобщенным знаком. Эстетика спектакля еще была бедной и шершавой, как газетная бумага, но, как газета, она несла сжатость информации и ударную силу лозунга.
Выйдя из проблемного очерка, «Поэма о топоре» снова возвращалась туда же – на газетную полосу, но уже в новом своем качестве – примера, имени нарицательного.
«Раза 3 – 4 в декаду московский Театр Революции ставит “Поэму о топоре”. Свежо написанная пьеса т. Погодина, режиссерски крепкая постановка, хороший актерский состав, полная блеска талантливая игра Бабановой и Орлова волнуют зрителей»[135]. Это не начало рецензии, как можно подумать. Это вступление в серию проблемных очерков о заводе «Электросталь» на страницах «Известий». Здесь под Москвой, на станции Затишье (ныне Электросталь), на самом деле задолго до златоустовцев начали варить высококачественные {148} нержавеющие стали. И повседневность этого завода – противоречие его высокой современной техники и допотопного уровня организации – была куда невероятнее, чем в живописной погодинской пьесе: «Сегодняшний запас сена на заводе – два воза – на 70 лошадей… И если не поможет случай, завод станет из-за сена». Таков был реальный контекст, в который жизнь вовлекала спектакль, делая его образом индустриализации и ударничества.
За «Известиями» и «Правда», печатая статью о бедах самого златоустовского завода, тоже использовала спектакль как образ, как знак и озаглавила свое выступление: «О топоре (не “Поэма”)»[136].
Коллектив театра и вправду чувствовал ответственность за «свой» завод. Театр написал письмо в Златоуст, призвал ликвидировать «прорыв промфинплана» и выразил «товарищескую уверенность», что златоустовские пролетарии не выпустят из рук красного знамени, гордо реющего над заводом[137]. Театр Революции тоже ощущал и себя чем-то вроде завода, «вырабатывающего счастье».
Ну, если не прямо заводом, то, во всяком случае, нормальным советским предприятием: «… в настоящее время находимся в командировочной поездке по металлургическим и угольным центрам Донбасса…»[138]. Не на гастролях, а в командировочной поездке.
{149} Они хотели не выделяться, а уравниваться со всеми, и это так же касалось работы и быта, как лексики. Лексика была, как на заводе: «… давая высокохудожественную продукцию». Работой были столько же свои спектакли, сколько участие в общей жизни.
«За пять дней, с 16 по 20 июля 1931 года, проведенных у щербинских горняков, театр дал пять спектаклей, среди них “Человек с портфелем” и “Поэма”…»; а кроме того, «три культвылазки в общежития горняков, вступительное слово перед спектаклями, концерт по радио и проведенный политический митинг во время спектакля “История одного убийства”… показали, что Театр Революции есть театр политической агитации и мобилизации масс на выполнение промфинплана»[139]. В городе Одессе театр принял участие «в проведении гулянья и зрелища, имеющего целью сбор средств на постройку самолета “Одесские курорты”»[140], а в городе Николаеве собрал 265 р. 65 к. на самолет «им. Николаевского Комсомола»[141].
Это было время, когда самой популярной песней стал знаменитый марш летчиков: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», – и все, вплоть до одесских курортов, хотели строить самолеты своего имени.
ТИМ тоже собирал деньги – на постройку самолета «Мейерхольд». Бабанова была бы счастлива из всех самолетов строить именно этот. Но ей {152} приходилось в меру своих сил строить другие самолеты, и она строила.
Быт же актеров Театра Революции не только не выделял их из общей массы рабочих и служащих, но, напротив, составлял самый средний ее уровень.
Быт легче всего испаряется из пор истории. Проще узнать, во что обошелся Днепрогэс, чем представить себе, что стоила пара резиновых тапочек и какие носили рубашки. Между тем жизнь в значительной мере погружена в быт, и нелюбопытство к нему означает просто-напросто нелюбопытство к живому человеку. На гастролях Театра Революции в 1931 году дирекция оказалась не на высоте, и нелегкая повседневность актеров приобрела форму документов. Оказалось, что артисты получают 2 р. 50 к. суточных (мхатовцы получали по 6 рублей), между тем как «существующие цены в столовых, на рынках и в магазинах указывают следующее: Обед стоит 1 р. 80 – 2 р., завтрак и ужин обходятся приблизительно в такую же сумму… Причем указанные цены приходится платить за самый скромный обед и очень легкие завтрак и ужин. Питаться же в командировочных столовых по 40 коп. не представляется возможным, т. к. качество обедов очень низкое и были случаи желудочных заболеваний. Кроме того, на обеды в таких столовых приходится затрачивать очень много времени»[142].
А у актеров, занятых не только плановыми вечерними и дневными спектаклями, но и бесплатными концертами, «организацией зрелищ», «вылазками» (слово, которое тоже долго держалось в лексиконе) – одним словом, общественной работой, возможности стоять в очередях в закрытые командировочные столовые, разумеется, не было.
Другой статьей расходов в малом бюджете была стирка. Сейчас, в эпоху химии – стиральных порошков и синтетических материалов, – это может показаться странным. Но мужчины носили парусиновые туфли, которые чистили зубным порошком, белые пикейные брюки (стирка 2 р. 50 к.) и рубашки с пристежными воротничками на запонке (стирка рубашки – 75 копеек, воротничка – 40). Время титанической борьбы с галстуками осталось позади: мужчины даже позволяли себе «бабочки». Женщины ходили в белых беретиках набок и белых носочках, в маркизетовых и батистовых блузках с темными {153} юбками или крепдешиновых платьях; носили и полотняные – вышитые или промереженные платья-купоны. Все это в летнюю жару, в дороге требовало стирки, крахмала и утюга – утюги были чугунные, в них насыпали уголь и раздували! как плавильную печь.
Отдых артистов Театра Революции так же точно походил на отдых их зрителей, как командировочная поездка на их работу. Отъездив по «металлургическим и угольным центрам Донбасса», они устраивались отдохнуть в те же южные «здравницы», не только «на общих основаниях», но расплачиваясь за это единственным доступным им способом: отрабатывая скудный месячный отдых спектаклями и концертами. Отдых тоже оставлял по себе бюрократические документы.
В августе 1931 года театр вошел в соглашение с Бердянским Госкурортторгом, и море, фрукты, летние вечера – все, что могла подарить им жизнь, нашло отражение в пунктах «договора»:
«1. Курорт дает театру тридцать санаторных мест… на срок 30 дней для использования их в целях лечения работников театра.
2. Взамен театр обязуется коллективом своих лечащихся работников дать в течение 30 дней десять спектаклей и концертов [десять! – М. Т.].
… 5. Концерты и спектакли, даваемые театром, должны быть не меньше двух часов длительности и заканчиваться не позже 22 ч. 50 мин. при начале в 20 ч. 30 минут»[143].
Но «коллектив лечащихся работников» был молод, актеры Театра Революции в большинстве не избалованы жизнью и менее всего привыкли или хотели считать себя привилегированной частью общества. И Мария Ивановна, хотя и была «премьершей», не отличалась от прочих. Жила, как жили все: стояла в очередях; участвовала в производственных совещаниях; пошла учиться в Университет искусств, куда определил своих артистов А. Д. Попов.
Пятилетие работы Попова в театре было самым целеустремленным в жизни этой странно-пестрой труппы, где стали своими уже и актеры Второго МХАТа.
Пятилетие работы Попова в театре можно назвать в некотором смысле счастливым и для Бабановой: это было время режиссерского внимания к ней.
Попов хотел иметь труппу единомышленников. Когда в уютном подвале в Пименовском переулке, в клубе театральных работников, куда еще недавно приходили сгонять партию на биллиарде, открылся первый Университет искусств, он рекомендовал туда целую группу артистов Театра Революции. Так Бабанова еще раз стала «студенткой».
На Университет возлагались большие надежды. На первом курсе изучали общественные науки, на втором – социологию искусства[144], на третьем – специальные дисциплины и лелеяли мечту «о создании творческой экспериментальной лаборатории – первого театра диалектиков-материалистов. “Скоро вы увидите, как по-новому зазвучит роль у актера диалектика-материалиста!”»[145]
Артистическая среда начала тридцатых не была еще ни единой, ни единообразной. Разница между «аками» и «левыми», на сцене постепенно сходившая на нет, сохранялась в быту. Актриса нового времени и вела себя по-новому.
Нужна была в тогдашней артистической среде некоторая храбрость, чтобы признать учебники политэкономии «актерскими учебниками». Актерская братия {154} подтрунивала над будущими «диалектиками-материалистами» не всегда беззлобно, и приходилось огрызаться от подозрений в «приспособленчестве», как тогда любили говорить.
Если бы Бабанова хотела «приспосабливаться», то у нее в руках была мечта Гулячкиных – невыдуманное пролетарское происхождение. Самый настоящий «мандат»! Отец вернулся на завод и продолжал работать токарем по металлу. Но гордыня не позволила ей этой – очень выгодной в то время – поблажки себе. В графе «происхождение» она писала то, что было правдой при ее рождении: отец «служащий». Зато та же гордость позволяла ей пренебрегать насмешками, когда она вступила в Университет.
«С четырех дня темные апартаменты клуба театральных работников выносят испытание тесноты и невиданного оживления. В раздевалке волнуются очереди торопящихся людей с галошами в руках и “Вопросами искусства в свете марксизма” под мышкой…
Значительная часть студентов в “аудитории” осталась без мест. Стоит ли обращать внимание на пустяки. Две часовых лекции можно прослушать и стоя. Если есть возможность прислониться к стене, – можно даже записать конспект лекции…
В начале седьмого студенты торопливо расходятся. Через какой-нибудь час-полтора в театрах начинаются спектакли. [Спектакли в Москве начинались в 7.30. – М. Т.]
… Год назад Университет казался необычайным явлением. Разве будут актеры учиться?.. Невозможно, нереально, смешно! Однако в октябре 1931 года 80 московских кадровых актеров перешли на второй курс»[146].
Перо актера и художника А. Костомолоцкого сохранило портрет Бабановой на этих занятиях – подбородок, опущенный на скрещенные руки, и задумчивый, почти недоуменный взгляд.
Она не была довольна собой, и триумф Анки ее не успокаивал.
На самом деле Анка имела более яркую судьбу, чем могли предположить самые восторженные ее апологеты, когда писали: «Анка Бабановой – образ необходимый советскому театру. Сильнее, нам кажется, определить его нельзя»[147].
Здесь было над чем задуматься. Меньше всего, казалось, эта актриса редкой и странной индивидуальности могла стать «ударной актрисой актуально-политического советского театра». И, однако, это случилось. Разумеется, она не перестала в Анке быть самой собой и не утратила свойств своей артистической личности. Один из самых проницательных критиков, блестящий театральный писатель Ю. Юзовский отметил тогда же: «Она запоминается надолго, но – любопытно – запоминается не столько как образ Анки, сколько как актриса. Много порой изумительных красок дает в этом спектакле Бабанова, много всяческого обаяния, какой-то певучести в движениях, чуткости в интонациях, внутренней легкости вообще. Но ведь в жизни Анка куда угловатее – еще не перебит хребет истязающему Анку тяжелому мату, пьяной домостроевщине, рожденному бескультурьем хамству и пошлости. Или это проекция Анки в социалистический быт?»[148] – догадывался критик.
Очередным поворотом бабановской биографии стала новая ипостась ее легенды. Подобно тому как пластины настоящей нержавеющей стали со сцены передавались в партер, так она сошла со сцены в зал и реально воплотилась в быт.
{155} Сошла в зал не Анка с ее кожаным фартуком и рукавицами, а Бабанова в образе советской девушки-подростка. Юзовский был прав: запоминалась актриса. Ее светлые растрепанные волосы, короткая челка, упругие гимнастические движения, ее юмор и стремительность, азарт. Все это, вместе взятое, составило некий пример, образец, отданный сценой в жизнь и в ней укоренившийся. Такой – спортивной и лиричной, светловолосой и светлой, лукавой, задорной и ударной – хотела видеть себя советская девушка, и так – вслед за Бабановой – она видела свой образ. Она примеряла на себя челку, улыбку, ритм актрисы, которую, быть может, и не видела, не знала по имени, но которая создала для нее – из ситцевой кофточки, звонкого голоса, молодости и обаяния – общий идеализированный и высветленный портрет.
Бабанова идеализировала Анку не потому, что она этого хотела, а потому, что она сама по себе была в то время лучшим воплощением, идеальным образом девушки новых времен. Это угадал Мейерхольд, это понял Попов. Подобно Мейерхольду, он инкрустировал бабановский образ в свой спектакль, как дорогое украшение. И образ этот, упрощенный и схваченный в главных чертах, стал нормативным.
Пройдет немного времени, и на экране появится в деревенских комедиях Пырьева Марина Ладынина с той же светлой челкой, недеревенским изяществом и лиризмом и с лукавым простодушием, переложенными на лубочный жанр пырьевских картин. Ладынина отразит в своей «богатой невесте» явление уже массовое, образ, уже сложившийся в жизни и из жизни – в очищенном и подгримированном виде – поднявшийся на экран. Бабанова «откроет» его в себе самой – образ девушки-ребенка, образ юности, полета, может быть, {156} несложный, но ясный душевный мир. Еще раз – в роли погодинской фабричной или колхозной девчонки – совпадет она с временем и время поднимет ее на вершины зрительского признания и любви.
Такою сохранит ее групповая фотография «заслуженных артистов Театра Революции» среди молодых женщин в модных беретиках и дам в вышитых платьях-купонах: загорелую, лукаво улыбающуюся, с растрепанной светлой челкой и с теннисной ракеткой в руках.
Но это впереди. Пока ей предстоят еще две роли в пьесах Погодина и в спектаклях Попова.
«Поэма» была поставлена, а вопрос о художественном руководстве не был решен окончательно для Попова. В его блокноте 1931 года сохранились следы вполне житейских колебаний:
«мой оклад? без совета 750
мой летний аванс? при совете 650».
Но это были колебания человека. Режиссер уже видел в Театре Революции свое детище.
Экспликация «Поэмы о топоре» обнаруживает заботу о том, как построить новый театр. Размышлял о спектакле не режиссер-гастролер, согласившийся на одну постановку, – размышлял строитель театра, видящий в необычной пьесе и необычном по форме спектакле нечто вроде манифеста того нового Театра Революции, который он себе уже заранее вообразил.
К лету 1931 года колебания обеих сторон пришли к общему знаменателю, и содружество, сложившееся на репетициях «Поэмы», приняло организационную форму.
Нельзя сказать, чтобы Попов, несмотря на состоявшийся уже успех его дебютного спектакля, вошел в театр под звуки фанфар.
«Я видела, что этот очень мягкий человек принес к нам твердое свое слово, свое понимание искусства и свой метод работы. Вот этого-то я и испугалась… Мне стало страшно… “Распадается наша вольница”, – думала я»[149].
Так написала Богданова, жена Д. Н. Орлова, а думала не одна Богданова. Попов был человеком редкостно деликатным и нелицеприятным, но в работе не был он ни уступчив, ни благостен. Встреча с труппой была для него полем сражения за свое понимание театра.
В том же блокноте, где он сделал вполне бытовую, человечески-понятную запись об окладе, сохранились заметки для выступления перед труппой – нечто вроде «встречного плана» совместной работы, который Попов предложил театру.
«Признаки строителей театра
1. Идейно-политическое лицо? (мировоззрение)
а) законченно-чуждое
в) путанное, мелкобуржуазное
с) в процессе становления (в переработке)[150]
Не надо слишком пугаться этих слов в блокноте художника. Еще не забылись полемики двадцатых, когда эстетическое несогласие мгновенно принимало форму политического недоверия. Еще нет благочестивого мира между театральными фронтами. Еще РАПП высокомерно отделяет себя от {157} попутнической» интеллигенции. Еще высокий образовательный ценз, осложненный непролетарским происхождением, служит чем-то вроде свидетельства о политической инфантильности. Еще в лексиконе рядом с «промфинпланом», «темпом» и «ударничеством» бытует слово «перековка».
Самым репертуарным спектаклем Театра Революции по-прежнему остается «Человек с портфелем». 4 июня 1931 года Мейерхольд покажет на сцене ТИМа «Список благодеяний» Ю. Олеши, и вокруг «темы интеллигенции» скрестятся копья. Еще только будет написана нашумевшая статья Ю. Юзовского «Эволюция интеллигентской темы» с веселым оптимизмом ее заключительного пассажа: «Прощайте, “милые призраки”. Прощайте, почтенные седобородые академики, решающие вопрос, быть или не быть им с социализмом. Прощайте, инженеры средних лет с чеховскими очками на носу, требующие у зрителя повременить, они еще кое-что не решили. Прощайте, бледнолицые молодые люди с мешками под глазами, три часа морочащие публику по вопросу: “А будет ли нежность при коммунизме?” Будет нежность. Будет, будет. Хватит. Надоело. Время проходит»[151].
Время на переломе. И Алексей Дмитриевич Попов, готовясь произнести тронную речь перед труппой, хочет видеть творческое лицо актера Театра Революции равно далеким от самодовлеющего психологизма и от былых увлечений биомеханикой.
Он записывает кратко:
«a) органическое взаимодействие внутренней и внешней техники (Бабанова и середняк) на основе коллективизма театра (ансамблевости)
в) механистические уклоны
c) мхатовщина (т. е. фетишизм психологии, отказ от специфики выразительных средств театра и идеалистическая концепция образа)
d) индивидуализм»[152].
Даже в этих весьма сжатых и сухих тезисах Попов признал Бабанову самостоятельным фактором театральной жизни на фоне пестрой труппы Театра Революции.
Именно в этом качестве – в качестве образцовой актрисы Театра Революции – она и вошла в следующий спектакль – «Мой друг». В сущности, роли для нее там не было: новая пьеса Погодина была мужская по преимуществу. Бабанова сыграла, кажется, самую маленькую, самую эпизодическую роль в пьесе – одной из жен инженеров, отправленных учиться за границу. В списке действующих лиц она называлась «плачущая», и весь текст ее не только был «без ниточки», но и вообще почти без слов. Кроме бессвязных «ме… ме» и «не… не» она произносила одну-единственную связную фразу: «И все-таки я вас терпеть не могу, товарищ Гай. Да‑с». Это было все.
Когда спектакль выйдет, газеты рядом с фотографией Григория Гая украсятся портретами молодой женщины в меховом жакетике и кокетливой шляпке: Колокольчиковой – Бабановой. Это нежное имя даст ей театр. Погодин назвал ее Колоколкиной.
Роль Григория Гая с огромным успехом сыграл Михаил Федорович Астангов – «четвертая авантюра» режиссера Попова. Он недавно вернулся в Театр Революции из провинции. Труппа нуждалась в «социальном герое».
С Бабановой и Астанговым предстоит Попову осуществить самую главную свою «авантюру» – спектакль «Ромео и Джульетта».
А пока Илья Шлепянов изобретает для «Моего друга» индустриальное {158} оформление – «раскрашенные макрофотографии» вместо декораций. «Это окна, просветы в новый строящийся мир. Не старые окна театральных декораций, где видны только рамы и просветы сцены»[153].
«А пока Бабанова берет “роль” и спрашивает:
– А что, плакать?
И разрабатывает на этот двухминутный выход целый сценарий, а я о таком сценарии не подумал. Она ночью вдруг звонит и просит найти ей одно слово из заграничного письма, чтобы “зацепиться”. А я о таком слове не подумал, и мы вместе потом на репетициях ищем эти слова:
“Чикаго… кризис загнивающего… котенок… твои голубые глаза…”
Каждое это вовсе не значительное слово из письма строго продумано, количество слов рассчитано по секундам, улыбка, наклон корпуса, шаг, характер прохода и возникновение смеха выверены пятьдесят раз, с сомнениями, разочарованиями, с трудом, вплоть до отказа от работы, “потому что не выходит”. А когда вышло, то перед нами возник образ очаровательной и трогательно-смешной женщины Колокольчиковой… Когда вышло, я с изумлением увидел, для чего Бабановой был нужен “сценарий” и эти незначительные, а не другие, более яркие слова»[154].
Так вспоминал Погодин.
{159} Тер-Осипян – партнерша Бабановой по «сцене жен» – вспоминала, что вся роль Колокольчиковой родилась из бабановской импровизации[155]. Жен, пришедших к Гаю требовать возвращения в лоно семьи мужей, разосланных в Америку и Европу на учебу, было в пьесе четверо: Брюнетка, Рыжеволосая, Плачущая и Пожилая. Актрисы сыграли их прекрасно. Но прославилась одна Бабанова, которая, как писал о ней Сергей Третьяков, «в своей микроскопической роли громадна, как комедийная актриса»[156].
Сама она, разумеется, Колокольчикову считает случайностью.
Из бесед с М. И. Бабановой
«Просто у меня настроение хорошее было. Погодин мне говорит – ну придумайте себе роль. Нет, говорю, придумывать я не буду – пишите вы. А я вам только придумаю, что она делает. Сюжетик маленький, схему».
Для хорошего настроения были у Марии Ивановны особые причины и обстоятельства. После долгих лет исключительной приверженности сцене ее – кажется, в первый раз – посетило чувство, к театру отношения не имеющее.
Маленькое отступление назад.
Мы застали легенду Бабановой завершенной и целостной; она не предполагала вопроса «почему?». И, однако, я не раз задавала сверстникам Марии Ивановны {160} вопрос, в чем был секрет ее внезапной и почти ставящей в тупик популярности. Понятнее всех это объяснил Сергей Иосифович Юткевич. Он тоже был мейерхольдовцем, но сравнительно рано ушел в кино и наблюдал триумфы Бабановой издали.
Из беседы с С. И. Юткевичем
«Появление Бабановой стало событием в жизни нашего поколения. Как будто ее ждали.
Эта девушка была такая хрупкая – скорее, даже девочка, какой мы увидели ее в “Рогоносце”. Но в ней было поразительное сочетание лиризма с эксцентрикой. Это не было амплуа – все было неожиданно, парадоксально остро.
Можно сказать более шаблонными понятиями: весь задор молодежи, комсомольства был в ней, хотя играла она другие роли. Ну, Анка. Она первая сыграла пролетарку в этом сложном сочетании задора, ума, хитрости, ловкости, женского обаяния, демократизма…
Скажу иначе: в ней воплотилась внутренняя раскованность, рождение нового типа женщины – женщины совершенно свободной, женщины радостной, женщины выбирающей и отдающейся – все то, что было в воздухе, воплотилось в Бабановой».
Новой-то она была новой, но за раскованность на сцене платила неусыпной бдительностью в житейских отношениях. Она не лицемерила, когда писала о себе: «Мне часто приходилось слышать, как мало советские актрисы похожи на “настоящих” актрис. Это было для меня самой сладкой похвалой»[157]. Милая актерскому сердцу богема не коснулась ее даже краем. Между тем, кажется, ни у одного «таланта» не было столько «поклонников», как у Бабановой. Они могли бы составить целый орден. Здесь были критики, которые всегда стояли за нее горой. И те драматурги, в пьесах которых она играла. Иные из режиссеров. И великое множество молодых людей в партере и на галерке, которые «не пропускали ни одного представления “Озера Люль” только для того, чтобы еще раз посмотреть на бабановскую Бьенэмэ, удостовериться, что она продолжает существовать в мире и ничего не потеряла от своего очарования»[158]. Те, кто станут писать статьи или мемуары, – будут признаваться ей в любви печатно – Погодин и Файко, Аксенов и Гладков. Другие будут рассказывать об этом: Арбузов, Розов, Плучек…
И это будут воспоминания не просто о поклонении таланту, а о влюбленности: со страхом и обожанием, с ревностью, надеждами и разочарованиями – со всем, что сопутствует легенде актрисы, окружая ореолом ее полувымышленный образ.
Между тем все это пройдет золотым облаком где-то рядом и мимо жизни Бабановой, почти без ее реального участия. Не дай бог кому-нибудь проявить к ней недвусмысленный мужской интерес – она этого не терпела, видя в этом унижение себя и профессии. Увы, охотники натыкались на такие колючки, что больше уж не рисковали. Там, где другая «улыбочкой и парой слов» уладила бы недоразумение, Мария Ивановна ехидной насмешкой, а не то так и без обиняков ставила незадачливого поклонника на место. Естественно, отношения от этого не улучшались и существовать – в театре или в кино – легче не становилось.
Как вдруг появился Федор Федорович Кнорре.
{161} Из беседы с С. И. Юткевичем
«Я был знаком с Кнорре задолго до этого – мы вместе были в театре Фореггера, и он выступал как цирковой артист. Была такая пара: Кнорре и Кумейко, “акт баланса”. Выходил Кумейко в клоунском гриме и Кнорре – в элегантном костюме, белой рубашке, очень красивый; ставили столы друг на дружку, где-то на четвертый или шестой стол ставили бутылки, на них стул, туда садился Кнорре и делал изумительный баланс. С этим они выступали во всех кабаре нэповской Москвы и зарабатывали на жизнь. У меня даже был рисунок – Кнорре и Кумейко. А до этого он учился у фэксов в Ленинграде и выступал в их первых спектаклях – “Женитьба” и “Внешторг”. Я это помню, потому что в 1922 году мы с Эйзенштейном написали пантомиму “Подвязка Коломбины”. Арлекин должен был идти по проволоке через весь зал. Мы эту роль предложили Кнорре, и он согласился, но спектакль не состоялся. Потом он увлекся движением театров рабочей {162} молодежи и ушел в Трам. Второй раз из Ленинграда в Москву он приехал уже как режиссер, чтобы возглавить Московский трам. Он написал и поставил “Тревогу” – она нашумела тогда».








