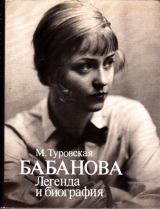
Текст книги " Бабанова. Легенда и биография"
Автор книги: Майя Туровская
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Туровская М. И. Бабанова: Легенда и биография. М.: Искусство, 1981. 351 с.
От автора 3 Читать
Глава I. В Замокворечье 5 Читать
Глава II. У Мейерхольда. «Новая женщина» Муся Бабанова 20 Читать
Глава III. Театр Революции. Между школами 110 Читать
Глава IV. Спектакли Попова. Мария Ивановна Бабанова и «новая женщина» 138 Читать
Глава V. Три этюда о любви 200 Читать
Глава VI. Война. В эвакуации 260 Читать
Глава VII. У Охлопкова. 274 Читать
Вместо эпилога 339 Читать
Примечания 346 Читать
{3} Памяти моего мужа, Бориса Медведева, который научил меня любить театр
Если есть искусство, о котором надо писать, то это театр. Стихи и романы, картины и кинофильмы живут во времени. Книгу можно снять с полки, картину увидеть в музее. Спектакль преходящ. Он существует сегодня, сейчас, сию минуту, вместе с этим залом. Пройдет недолгое время, и он сойдет. Или даже, оставаясь в репертуаре, станет другим. Разрозненные части его – эскизы декораций, режиссерские экспликации, фотографии – и даже все вместе, заснятое на пленку, – только документы к истории искусства, но не само искусство.
Если есть в театре лицо, о котором следует писать, то это актер. Это он одушевляет спектакль. Он приносит на сцену нечто большее роли: свою личность, биографию, судьбу. Он олицетворяет время в его текучести и преходящести: его будничные привычки, изыски моды, капризы предрассудков, его пафос и его мелодию. Искусство актера тем эфемернее, чем сильнее воздействует оно на современников. Его следы нематериальны. Но, не оставив по себе почти ничего, большие актеры оставляют нечто большее самих себя: свои легенды. Нет ничего более приблизительного, но нет и ничего правдивее этих легенд; музыка времени звучит в них.
Но если уж писать об актерах, то я выбираю актрис. Судьба женщины труднее и драматичнее. Актрисы играют, любят, страдают, торжествуют и гибнут – в жизни и на сцене – от имени всех своих безымянных современниц. Их прекрасные легенды чаще всего горестны. Даже побеждая, они становятся жертвами – страсти, возраста, общественных условностей, собственной славы. А не то так яда, чахотки, черной оспы, равнодушия современников. Адриенна Лекуврер и Элеонора Дузе, Варвара Николаевна Асенкова и Вера Федоровна Комиссаржевская оставили нам не только образы, ими созданные, но и свои образы. Они существуют рядом с образами искусства – Федрой и «Неизвестной» Крамского, Настасьей Филипповной и Незнакомкой Блока.
И если вспоминать об актрисах, то я выбираю актрис русской сцены. Есть что-то бесконечно родное – горделивое и одновременно щемящее – в их милых лицах, глядящих со старинных портретов или просто со старых, пожухлых фотографий; в их удивительных судьбах с залетом из крепостного состояния в графские хоромы или, напротив, в страшной и ранней гибели где-нибудь в глухом медвежьем углу; в самом начертании их дорогих имен с величанием по батюшке.
Встречались, конечно, актрисы-каботинки. Были деловитые коммерсантки, продававшие свою красоту и талант с большого аукциона сцены. Попадались {4} жалобные жертвы грубых мужских страстей и безжалостные их эксплуататорши. И без числа – по сей день – маленькие спекулянтки своею известностью. Что с того? Это не унижает легенд.
Может быть, нигде не было положение актрисы так низко и зависимо, как в России, но зато нигде не было и так высоко, и так свято. Пушкин и Некрасов, Блок, Заболоцкий, Пастернак и многие другие недаром посвятили свои строки русской актрисе.
И если уж о них, то я предпочитаю писать об актрисах беспокойного двадцатого века, а лучше всего о тех, кого знала и хоть немного могла наблюдать сама. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова… Алиса Георгиевна Коонен… Мария Ивановна Бабанова… Целые эпохи русской жизни, целые громады русской культуры, вочеловеченные в живых и неповторимых лицах!
Мы живем рядом с ними и не замечаем этого. Мы даем протечь мимо себя этим живым легендам, погруженные в суету сегодняшнего дня, вовлеченные в его не всегда столь существенные полемики, – не обидно ли это, не жаль?
… Я сижу с Марией Ивановной Бабановой у нее дома, в квартире на улице Москвина. Покой этой красиво убранной квартиры обманчив. Сколько душевных борений видели эти стены, какая толпа оставшихся невоплощенными лиц. Если бы столы, диваны, люстры умели говорить!
Впрочем, на старинном столе красного дерева лежит как ни в чем не бывало современная штучка – маленький диктофон. Мария Ивановна долго дичилась его, как живого существа, но постепенно махнула рукой и привыкла – пусть себе шелестит потихонечку пленкой. Конечно, можно было не осложнять наши отношения его нежелательным присутствием – он затрудняет воспоминания. Но человеческая память несовершенна, «все врут календари». А интонация иногда бывает красноречивее слов. К тому же Мария Ивановна не любитель вспоминать. И все же спасибо научно-технической революции – почти все беседы с Марией Ивановной, которые я привожу в этой книге, списаны прямо с пленки.
И еще я хочу поблагодарить – не говоря уж о самой Марии Ивановне – всех тех, кто согласился поговорить со мной, дать себе нелегкий труд воспоминаний, – их имена не раз встретятся на страницах этой книги. И особо – Александра Вильямовича Февральского, современника и летописца многих описываемых событий, который помнит все и был незаменимым для меня консультантом. А также всех тех, кто помог мне делом – в Центральном государственном архиве литературы и искусства, в библиотеке и кабинетах Всероссийского театрального общества и просто частным образом – в поисках материалов к скудной материалами биографии Марии Ивановны Бабановой.
{5} Глава I
В Замоскворечье
Мария Ивановна Бабанова родилась в Замоскворечье 11 ноября 1900 года. Но если бы она питала малейшую слабость к памятным и юбилейным датам, ей по справедливости следовало бы отмечать 25‑е число апреля месяца. В этот весенний день 1922 года, полный солнца, текущей разрухи и пламенных надежд, в Москве на Триумфальной площади (ныне площадь Маяковского), в здании театра бывш. Зона, она стала актрисой. И если по гороскопу, столь любезному эпохам суеверий, Мария Ивановна родилась под знаком скорпиона, то по революционному антирелигиозному календарю ранних двадцатых она вполне могла бы избрать своим знаком «Великодушного рогоносца». Так назывался спектакль Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Никому не ведомая ученица мейерхольдовских Мастерских после премьеры проснулась, как принято писать в таких случаях, первой актрисой нового времени. А это кое-что значило: артисты театра, не тиражированные еще ни телевидением, ни радио, были больше чем «властителями дум» – они олицетворяли чаяния и надежды времени. Она была ровесницей века.
Есть время и время. Одно делает историю – оно к прошлому относится пристрастно и избирательно. Другое осознает себя в поисках за утраченным временем: история – его конек и фаворит. Это время архивов, мемуаров, исследователей и писателей.
Время Бабановой было временем истории, а не воспоминаний о ней. Это было время режиссеров, актеров – Театра с прописной буквы. На улицах совершалось настоящее – Театр говорил от имени будущего. Он самозарождался в любых средах: возникал из стихии митинга, заменял отдых и учебу, легко переходил в общее празднество. Он осуществлял себя на первых попавшихся подмостках: на трамвайных платформах и привокзальных площадях, на крошечных клубных сценах и на огромных просторах петроградских проспектов. Театр на сцене был частным случаем театра революционного действа. Жизнь была разомкнута во внешнее пространство, она была публична, театр был ее глашатаем.
Бабанова явилась сразу на острие той пирамиды, которую представлял этот новый, возводящийся и становящийся театр. В основании ее было широкое, стихийное, повсеместное движение «самодеятельности» – смысл слова ныне затерся и почти прохудился от долгого канцелярского употребления, но тогда оно было новым, как и все остальное: его пустил в оборот В. Тихонович. Театр {6} был не развлечением, а деятельностью: собственной деятельностью и деланием самого себя. В вершине пирамиды был самый изощренный из мастеров прошлого – Всеволод Мейерхольд. Радикальный по природе, Мейерхольд вошел в театр послеоктябрьских лет в полувоенном френче и обмотках.
«Великодушный рогоносец» был его манифестом, и главная женская роль в нем досталась Бабановой почти нечаянно. Она еще расплатится за эту неслыханную удачу.
Впрочем, уже первый день своей славы она провела в отчаянии и, кажется, собиралась даже броситься под трамвай. Во всяком случае, едва ли она отдавала себе отчет в том, что это и есть дебют – начало легенды и биографии. Едва ли и вообще мечтала она о чем-нибудь похожем на славу в представлении чеховской Нины Заречной: отдать всю свою жизнь «толпе», но зато уж пусть возит на колеснице! Между тем как раз нечто подобное и станет ее судьбой.
Но ничто до 25 апреля 1922 года этого не предвещало. Не было у Муси Бабановой, как тогда ее называли, ни артистической родословной, ни театрального детства.
К детству своему Мария Ивановна Бабанова относится с сухой и точной враждебностью, которую не размягчили годы. Ни разу слеза или простая растроганность не окрасила ее по-прежнему прекрасный голос при воспоминании о доме.
Говорит она о своем детстве урывками, не слишком на нем задерживаясь.
Из письма М. И. Бабановой к автору
«Не люблю воспоминаний, может быть, потому, что было так мало “сладостных” воспоминаний, да и то минутных и почти всегда связанных с театром.
Самые далекие – детские – не были ни счастливыми, ни тяжелыми. Я не знала ни нужды, ни богатства, я жила в среде, которую можно назвать “косной” и, по меткому выражению Горького, “зажиточной без культуры”.
Мы жили в одном из переулков Замоскворечья, который назывался Офицерским; он выходил на так называемый “плац”, за которым тянулись длинные ряды казарм, построенных еще при Павле I. В переулке обычно жили военные среднего ранга, дома все, конечно, “собственные”, двухэтажные, с неизбежным садом перед домом, так что летом переулок казался уютным; но… никаких удобств. В начале моего существования – керосиновые лампы, которые я помню все до одной. Самая любимая была лампа-“молния” с сильным светом, на которую надевался голубой стеклянный абажур с оборками по краям и светлым легким рисунком. Я ее очень любила, потому что она всегда приводила меня в какое-то сказочное, небытовое настроение.
Мы жили в одном доме с матерью моей матери, но в разных квартирах. Не знаю почему, я почти не помню свою мать. Зато бабушку помню очень хорошо, потому что я предпочитала жить у нее, а не с родителями. С ними было скучно, мать была какая-то бесцветная, ни злая, ни нежная. Я с чувством зависти читаю, как дети помнят свою мать, ее нежность, заботу, ласку. Этого у меня не было, как ни тяжело мне это писать. Нежностью вообще во всей семье не “страдали”. Никто и ни к кому, хотя бабка по-своему любила своих сыновей и мою мать, которая слушалась и не имела своего мнения ни о чем. Важно, что скажет “мамаша”».
{7} Замоскворецкие переулки с реставрированными церквами и пузатыми, толстостенными особняками, вызывающие у нас приступы неведомой ностальгии, Мария Ивановна видит так, как видела тогда: без умиления. Разве что по вечерам, когда за окнами синело, а по углам сгущались сумерки, дающие приют детским фантазиям и страхам, дом для нее оживал. Бледная фотография сохранила облик семилетней мечтательницы, похожей на грустных девочек Достоевского.
Но по-настоящему «страну детства» она откроет для себя позже, уже как актриса. Как человек, она прожила холодное, бедное впечатлениями детство. Между голой сценой театра «б. Зон» и неуютным детством пролегла не только граница Москвы-реки, но целая историческая эпоха. Уклад старого московского посада распахивался прямо в конструктивизм. То, что было до Мейерхольда, кажется ей обрывочным и однообразным.
Между тем нам весь этот старый замоскворецкий быт представляется скорее живописным, чем скучным; он живо напоминает пьесы Островского, которые шли в те годы в Малом театре. И история семьи из обрывков сведений встает, скорее, романтически: «сюжеты» ее намекают на силу и даже страстность характеров.
Дедов своих Мария Ивановна не знала, едва помнит даже, как их звали. Муж бабушки, Марии Павловны, Василий был весьма состоятельным человеком: у него было садоводческое дело, поставленное по тому времени на полупромышленную ногу. Но об этом семейном благосостоянии внучка знала уже только понаслышке: дед стал пить, спустил все, что имел, и умер, оставив вдову с четырьмя детьми на руках почти без средств. Мария Павловна не растерялась, не впала в нищету, а начала все сначала, на свой страх и риск. То зажиточное, не богатое, но и не бедное житье, которое застала внучка, было делом собственных бабкиных рук. Со временем она стала домовладелицей: в Замоскворечье у нее было четыре или пять каменных домов, которые сдавались внаем.
Дом, где родилась Муся Бабанова, состоял из четырех квартир. Наверху жила сама Мария Павловна Прусакова, внизу – замужняя дочь. Остальные две квартиры сдавались. Жильцы были обычные для Офицерского переулка. {8} Квартиру в первом этаже занимали две старые генеральши с несметным количеством кошек. Над ними жил полковник; по воскресеньям он торжественно появлялся при полном параде. Нянька водила свою питомицу гулять к казармам – у нее были знакомства среди солдат. Так что название переулка – Офицерский – не было для девочки пустым звуком.
История неравного брака Екатерины Васильевны Прусаковой и Ивана Ивановича Бабанова тоже не обошлась без страстей, семейных драм и романтических подробностей.
Если Екатерина Васильевна происходила из купеческого рода, то Иван Иванович вел свою родословную из цыганского табора. Совсем недавно Мария Ивановна получила письмо от дальней родственницы, о существовании которой до сей поры и не подозревала. «Наши предки, цыгане, около 1800 года заехали в ивановские леса, село Иваново, и осели в нем, – пишет ей троюродная племянница Евстолия Петровна из Саратова. – Табор, который возглавлял старший цыган Евстафий Кочергин, прижился там». У Евстафия Кочергина было трое детей. Средняя дочь, Клавдия Евстафьевна, вышла замуж за Ивана Бабанова, по-видимому местного жителя, и сыну их, Ивану Ивановичу Бабанову, внуку предводителя табора, как раз и предстояло стать отцом Марии Ивановны. «Как жаль, что я не по прямой линии от Евстафия Кочергина происхожу! – воскликнула она, прочитав это письмо. – Кочергина – для сцены было бы более звучно». Как всегда и во всем, она осталась актрисой, озабоченной сценой.
Иван Иванович Бабанов был уже не вольным цыганом, а оседлым пролетарием. Он работал на английском заводе Бари токарем по металлу. Он немало {9} зарабатывал и принадлежал, что называется, к аристократии рабочего класса. Он был хорош собой, одевался щегольски и вместо коней обожал свой велосипед – занимался спортом. Все же состоятельному семейству Екатерины Васильевны – дядья ее просто были богаты – это показалось мезальянсом. Но она не захотела отступиться от своего выбора. Тогда влюбленным поставили ультиматум: Иван Иванович должен бросить завод и вступить в заведование одним из магазинов братьев невесты. Ему не хотелось, но делать было нечего. Молодые поселились у Марии Павловны. Быть может, мятежные порывы были до конца растрачены в молодости; может быть, любовь стала привычкой: отблеск ее не упал на дочь.
В том, что весьма условно можно назвать архивом Бабановой, – в скудном, разрозненном, случайном хаосе уцелевших писем и фотографий – сохранились два старых снимка, украшенных традиционными медалями. На одном из них застыла некрасивая женщина с тяжелым подбородком и высокой прической, в парадном платье с буфами – Екатерина Васильевна Прусакова. Другой снимок изображает господина средних лет в высоком крахмальном воротничке и черном галстуке, с большими глазами и изящными, породистыми чертами – Иван Иванович Бабанов. Такие тонкие, одухотворенные лица встречаются в народе чаще, чем кажется. С детских лет отец запомнился Марии Ивановне спортсменом: в кепи, затянутым в талии широким кожаным ремнем, с любимым велосипедом. Но любви она сохранила к нему еще меньше, чем к матери.
Из бесед с М. И. Бабановой
«Отец был бессмысленно, тяжело скуп, прятал даже мои детские деньги, которые давались к празднику. Сколько я ни просила его купить какую-нибудь ленточку, пустяк, он ни разу не дал. Потом, когда пришла революция, отобрали со всем прочим и эту копилку. До сих пор помню эти неистраченные детские деньги, от которых так и не дождалась самой маленькой радости.
Я, как только стала зарабатывать, всю семью сразу взяла на свое иждивение, чтобы о деньгах с ними не разговаривать. Хотя отец вернулся на завод и получал, наверное, больше меня».
Впрочем, от отца она унаследовала нечто гораздо более существенное, чем любое имущество: тонкую правильность черт, большие голубые глаза, пристрастие к спорту и крепкое здоровье.
Жизнь у бабушки тоже не была веселой; она была достаточной и не более; считалось, что заботиться надо лишь о телесных нуждах, о них и заботились. Мария Павловна вела хозяйство твердой рукой, не скупо, но экономно. Антоновские яблоки покупались ящиками, но выдавались понемногу. Ягоду на варенье брали решетами, перебирали все вместе, но не дай бог положить в рот: бабкин взгляд был красноречивее слов. Виноград, апельсины считались уже необязательным баловством. То же относилось и к лакомствам.
Из письма М. И. Бабановой
«Родные были не очень любимы мной, так как от них я получала только бытовые “блага”, но не получала того, что так нужно детскому сердцу. Все, что я любила, находило жестокий запрет. Я очень много испытала ненужных обид. Братья моей матери всегда дразнили меня – шутливо, конечно, но я этого не понимала, – и это очень охлаждало мое отношение к {10} ним. Общий стиль всего дома был ни добрым, ни злым, никогда никто не бранился друг с другом, не кричали, не рыдали – но были очень прохладны друг к другу. Царило равнодушие, которое меня очень задевало и отдаляло от них – всех без исключения.
Я помню, как один-единственный раз я после какого-то “проступка” со слезами раскаяния бросилась бабке на шею, как она холодно меня отстранила, и как это было в последний раз.
Мне всегда говорили, как хорошо было бы быть всегда аккуратной девочкой, тихо и спокойно сидящей на месте и вышивающей или вяжущей хорошенькие салфеточки. Они горевали, что у меня все наоборот. Я не выносила неподвижного сидения, тем более рукоделия, которое ненавижу всю свою жизнь. Я любила бегать, прыгать, всякие игры с мячом или веревочкой».
Пройдет шесть десятков лет, и Мария Ивановна Бабанова, включив радио и услышав нечаянно радиоспектакль по Диккенсу, где она исполняла роль юной Флоренс (обычно она себя не слушает), скажет с необычной для нее мечтательностью:
– Как жаль, что мне не дали сыграть маленького Поля Домби.
– Почему же вы не попросили?
– Бог с вами, я никогда в жизни не просила роли. Если они не догадались и предложили мне эту нудную Флоренс (она выразилась резче)… Вот и получилась голубизна. А Поль Домби – это не простой мальчик, это сло‑ожный мальчик…
Казалось невероятным, что женщина семидесяти пяти лет от роду, прославленная артистка, не доигравшая в своей сценической карьере даже и половины, жалеет не о какой-нибудь бенефисной роли Элеоноры Дузе, не о знаменитой героине мирового репертуара, а о «сложном мальчике» Поле Домби из старого английского романа, прожившем короткую и несчастливую жизнь в холодном и скаредном доме…
Был, правда, двор, где она верховодила мальчишками. Сначала они дичились столь важной персоны, как внучка домовладелицы, но ей удалось вовлечь их в проказы, и самолюбие, постоянно уязвленное дома, тешилось этим дворовым первенством.
Муся Бабанова была худенькой, малокровной девочкой; она любила смеяться, но чаще плакала; была нервна, обидчива и склонна к фантазиям. Все это могло казаться еще детством, но уже было характером.
Из письма М. И. Бабановой
«В доме почти не было книг. Все, что было, я перечитала еще до школы. Однажды я перебирала календарь отца и набрела на страницу, где были русские имена и их значения в Древней Греции. Имя “Мария” означало “горькая”. Мне это очень запомнилось и испугало; что-то вроде предчувствия кольнуло меня. А теперь я думаю – как это попало в точку моей жизни…».
Надо ли удивляться, что при первой возможности Муся Бабанова с радостью вырвалась из крепостных стен замоскворецкого затвора в школу?
Училище Московского общества распространения коммерческого образования, куда ее отдали, было выше уровня обычной казенной гимназии. Память у ученицы была отличная, ученье давалось легко, кроме математики. Она стала даже своего рода знаменитостью в школе – выступала на утренниках с чтением {11} стихов. Ее уже знали, встречали аплодисментами. Приходили на утренники ученики мужского коммерческого училища. Она декламировала Гаршина, Некрасова, «Снегурочку» Островского. Репетировала даже Антониду в «Сусанине», но перед самым спектаклем заболела. Это не раз еще повторится в ее биографии, как многое другое, что началось в детстве.
Может быть, и вправду к счастью для Муси Бабановой, как напишут биографы Марии Ивановны, она не участвовала в школьных любительских спектаклях. Ее сильный талант гранился под спудом, в тишине и одиночестве, пока в школьном зале и во дворе, в играх, декламации или спорте природа и жизнь готовили для него подходящий физический аппарат: уникальный голос Бабановой; несравненную музыкальность Бабановой; редкостную пластичность Бабановой. Не понадобится ничего, кроме возможности, кроме права, чтобы в один прекрасный день она стала актрисой.
В Коммерческом училище она смогла удовлетворить свою любовь к чтению и музыке и осуществить страсть к спорту. Она играла во все: не только в пинг-понг или волейбол, но даже в футбол. И не как-нибудь, а в составе женской команды. Мария Ивановна смеется, вспоминая, как мяч, вместо сетки ворот, угодил ей в живот: «Сейчас убил бы, наверное, но тогда было нипочем. Я была худая, тела не было, зато легкая и живот тренированный. Потом запретили женский футбол».
Так сквозь минорный лад Бабановой вдруг прорывается звонкий голос девчонки первой и отчаянной поры женской эмансипации.
В 1915 году школа была окончена, хотя и без медали, на которую в последних классах прилежания уже не хватило. Жизнь была интереснее школы. Бабанова поступила на естественное отделение Коммерческого института, потом перевелась на Высшие женские курсы – все это было мимолетно.
Ну конечно, она торопилась скинуть с себя внешние оковы своего замоскворецкого домостроя и броситься очертя голову в поток жизни. Быт разламывался эпохой.
Когда грянула революция, имущество Марии Павловны конфисковали, и, чем сильнее был бабкин характер, тем сильнее оказался и удар. Второго разорения она не перенесла: ее разбил паралич; и так пролежала она в неподвижности двенадцать лет. Иван Иванович вернулся на завод: принадлежность к рабочему классу стала, можно сказать, привилегией. Муся Бабанова не жалела о конфискациях и потерях: конфискации подлежали решетки, засовы и замки, которые отделяли ее от воли. Она бунтовала молча, про себя, энергия сжималась в пружину. Но, странным образом, одновременно с внешним раскрепощением начал строиться свой душевный домострой. Он скажется в образе жизни, вкусах, привычках, поведении, – где наступала свобода, футбол для женщин, право учиться, работать, выходить замуж и разводиться. Сама еще похожая на школьницу с золотистыми косичками, она поступила сначала в дошкольный отдел Наробраза, потом в школьный отдел – уже в родном Замоскворечье. Входящие и исходящие, машинопись, белая блузка, спорт – молодая и энергичная, она обещала стать одной из образцовых деловых барышень новой эпохи. Какой-нибудь Ундертон при Главначпупсе, но без губной помады. И вообще без буржуазных пережитков.
Замуж она вышла почти со школьной скамьи. Это было не столько замужество, сколько продолжение школьной дружбы. Она все так же заплетала косички, ходила на низком каблуке. Дома целый год она об этом умалчивала.
{12} Зато интеллигентная еврейская семья, куда она попала из своего замоскворецкого затвора, была таким же открытием, как школа. Здесь зародилась первая мысль о театре.
Из бесед с М. И. Бабановой
«Семья была большая, веселая, дружная. Здесь любили детей и гостеприимство. Всякого гостя сажали за стол и, хотя время было голодное и трудное, вкусно кормили. За столом говорили о жизни, об искусстве, о политике. Муж мой вступил в партию большевиков, старший брат его был меньшевик, сестра – эсерка. Старший брат умер не так давно; он следил за моей жизнью в театре, передавал мне приветы.
Однажды в дом приехала знаменитая актриса Грановская – она была какая-то родня мужа. Я ее обожала. Замечательная была мастерица! Она услышала мой голос – из другой, кажется, даже комнаты – и сказала: “С таким голосом надо на сцену”».
Шел 1919 год. Мусе Бабановой было восемнадцать лет. Она поступила в театральную студию ХПСРО. За неблагозвучным набором прописных букв, за аббревиатурой, столь любезной этому времени патетического и телеграфно-краткого жеста, стояла фигура одного из самых эрудированных и блестящих театральных деятелей – Федора Федоровича Комиссаржевского, сына известного оперного артиста и брата великой Комиссаржевской. Название же означало: Художественно-просветительный союз рабочих организаций.
Так стояло на «Программе занятий и правилах для занимающихся» – полным текстом и заглавными литерами, сплетенными художником Лентуловым вместе с подобием театральной маски в футуристическую виньетку. Эти же летящие, зазубривающиеся, пронзающие друг друга плоскости, угловатые скачущие буквы, острые изломы линий можно увидеть на обложках книг, на уникальных ныне тарелках. А тогда они изборождали своими молниями еще и стены домов и даже прозаические продуктовые ларьки Охотного ряда. Виньетка осталась молекулой времени грозного и нищего, эстетически изощренного и пламенного.
Театральная студия ХПСРО помещалась в том самом здании театра «б. Зонъ», как писали тогда (реформа правописания была объявлена в 1917 году, но с твердым знаком еще царил хаос), где будет сыгран «Великодушный рогоносец». Для Бабановой это обстоятельство, вроде бы пустячное, почти символично. В отличие от неугомонных и прославленных своих однокашников Игоря Владимировича Ильинского и Михаила Ивановича Жарова, она никогда не будет склонна к переменам и станет скорее принимать их как неизбежную данность, нежели осуществлять сама.
Ильинский менял направления и сцены, пускался в авантюры и гастроли, выступал в малых жанрах, совмещал разные театры (тогда это было не только принято, но подчас и материально необходимо) – одним словом, искал, выдумывал, пробовал. Бабанова по мере возможности старалась сохранять статус-кво.
Это может показаться странно для актрисы, избравшей путь «левого» театра – путь постоянного изменения, непрерывной метаморфозы, – но это одно из фундаментальных противоречий, создавших феномен Бабановой. Порвав с укладом семьи, она никогда не порвет с семьей. Однажды избрав в искусстве радикальное направление, в этом она навсегда останется консервативна.
{13} Может быть, студию Комиссаржевского она выбрала потому, что театр представлялся ей чем-то вроде продолжения физкультуры и спорта. Спорт, еще не регламентированный, не введенный в рамки разрядов и не нацеленный на чемпионство, спорт как свободная игра сил, просто как игра – тоже был знамением времени. Бабанова пошла сдавать экзамен туда, где можно было больше двигаться.
Комиссаржевский декларировал: «Наступает пора рождения нового актера, актера универсального, одновременно и певца, и танцора, и драматического лицедея, актера более развитого, культурного, но все же подобного тем лицедеям, которые были в театре до разделения единого театрального искусства на отдельные отрасли. Когда явится такой актер, тогда будет и настоящий театр, театр единый, театр богатый, располагающий свободно всеми сценическими изобразительными средствами… В этом театре в стройной гармонии сольются все искусства сцены, и будет для зрителя настоящий праздник»[1]. Эту свою мечту он пытался осуществить с учениками, которые приходили на занятия после работы, пешком и питались шрапнельной крупой и воблой.
Как многие художественные начинания этого времени, студия с неблагозвучным именем ХПСРО была поставлена на широкую ногу, и преподавательским силам ее могли бы позавидовать позднейшие более регулярные высшие учебные заведения. Помимо драматического отделения она включала оперное и балетное, которым руководил знаменитый М. Мордкин. Драматические классы кроме самого Комиссаржевского вели А. Зонов, А. Нелидов и В. Бебутов, который вскоре станет ближайшим соратником Мейерхольда. Слово преподавал бывший князь С. Волконский. Читал лекцию проездом через Москву и Мейерхольд.
Ученики студии тоже насчитывали в своем числе плеяду блестящих впоследствии артистических имен. Здесь начинали лучшая колоратура советской сцены Валерия Барсова, известный танцовщик Большого театра Асаф Мессерер, талантливый Александр Румнев, Игорь Ильинский и многие другие.
Студия существовала при Новом театре, где Комиссаржевский наряду с драмой ставил и оперу. В репертуаре блистали «Виндзорские проказницы» Николаи. «Сказки Гофмана» Оффенбаха Игорь Ильинский вспоминает как одно из самых сильных своих театральных впечатлений. И Жаров и Ильинский посвящают в своих воспоминаниях много живописных и восторженных страниц самому Комиссаржевскому, его студии и театру, представлявшим действительно скопище талантов.
Есть на фотографии, помещенной в книге Жарова, и ученица Бабанова – с пышной челкой и толстой расплетенной девичьей косой. Несмотря на косу, ничего миловидного в ее облике нет: лицо хранит упрямое и замкнутое выражение. Жаров вспоминает, как под влиянием призыва Мейерхольда организовать Общество по раскрепощению учащихся от театральной косности его совместно с Бабановой избрали в рабочее студенческое бюро. «Через короткий срок мы выработали обращение к студенческой молодежи, чем и завоевали популярность»[2]. Наверное, не случайно уже эта первая зафиксированная «акция» Бабановой связана с именем Мейерхольда. Вспоминает Жаров Бабанову и на одном из уроков Комиссаржевского по импровизации. Сама она мало сохранила воспоминаний о студии Комиссаржевского и написала о ней в 1933 году без всякой ностальгии:








