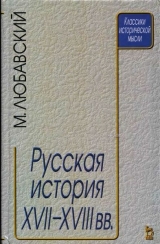
Текст книги "Русская история XVII-XVIII веков"
Автор книги: Матвей Любавский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц)
В ПРОШЛОЙ лекции нам пришлось остановиться на движении, которое возникло в русском обществе XVII века и которое можно рассматривать как реакцию против иноземного, и в частности против западного влияния на жизнь русских людей того времени. Первое время это реакционное движение выражалось в отдельных протестах отдельных лиц против общения с иноземцами, а потом слилось в могучий поток народного мятежа, который привел к разделению церкви, известному под именем раскола. Раскольничье движение произошло от того, что новшества коснулись заветной области в жизни русских людей, области церковного предания, церковных обрядов; оно было вызвано ближайшим образом исправлением церковных книг и обрядов при патриархе Никоне. На первых порах, впрочем, это движение хотя и приняло большие размеры, все-таки протекало в известном русле и нельзя было ожидать, что оно приведет к форменному расколу, к отделению от господствующей церкви значительного числа русских людей. В таком положении находилось дело, пока Никон не оставлял патриаршего престола, но в 1658 году он самовольно оставил патриарший престол и тем поставил Церковь в чрезвычайно затруднительное положение: избирать нового патриарха было нельзя, потому что Никон формально не слагал с себя сана. Всеми делами московского патриаршества стал временно управлять Крутицкий митрополит Питирим и при нем, не столь энергичном и настойчивом, как Никон, растерявшемся ввиду всего происшедшего, протест стал выражаться уже в бурной форме. Во главе недовольных стали ревнители древнего благочестия протоиереи Вонифатьев, Неронов, Аввакум и их приятели – все приближенные к царю лица; к ним присоединился Вятский епископ Александр, поп Лазарь, Никита Пустосвят и дьякон Федор; за этими лицами шел целый ряд менее заметных личностей, но тем не менее упорных фанатиков и непоколебимых приверженцев старины; все они нашли себе сочувствие в широких кругах русского общества. Сама царица Мария Ильинична Милославская сочувствовала протестам против исправлений, а ее родственницы боярыни Феодосия Прокопьевна Морозова и Евдокия Прокопьевна Урусова сделались первыми мученицами раскола. Не встречая противодействия со стороны властей, противники церковной реформы очень успешно действовали в Москве и многих успели склонить на свою сторону. Движение охватило не только Москву, но распространилось и по провинциальным городам: оно проявилось во Владимире, в Нижнем Новгороде, в Муроме и на крайнем севере – в Соловецком монастыре.
Все это заставило московское правительство созвать весной 1666 года новый собор. На этом соборе обсуждались следующие вопросы, поставленные в логическом порядке: 1) православны ли греческие патриархи? 2) праведны ли и достоверны ли греческие богослужебные книги? 3) праведен ли московский собор 1654 года, разрешивший исправление богослужебных книг и обрядов?
Я сказал, что все вопросы были поставлены в логическом порядке; и действительно, так как все исправления, произведенные Никоном, были санкционированы православными патриархами Востока, то невольно являлся вопрос, могут ли эти патриархи считаться авторитетными судьями в этом вопросе; затем, так как исправление велось по греческим книгам, то естественно возникал вопрос, праведны ли эти книги; и наконец, если будет признано и то и другое, то есть доказано и православие греческих патриархов, и достоверность греческих книг, то отсюда естественно должен вытекать утвердительный ответ и на последний вопрос, то есть праведен ли собор 1654 года.
Собор на все вопросы ответил утвердительно. Затем он судил противников церковной реформы и присудил их к лишению священных санов и к ссылке. Все осужденные, кроме протопопа Аввакума и дьякона Федора, принесли покаяние и были приняты снова в общение с Церковью. Кроме этого собор составил и разослал «окружную грамоту» духовенству, в которой призывал следовать новым богослужебным книгам, а также рассмотрел и одобрил к изданию «Жезл Правления», сочинение Симеона Полоцкого, направленное против расколоучителей.
Немедленно после собора 1666 года состоялся в Москве великий Церковный Собор 1666–1667 годов с участием патриархов антиохийского и александрийского. Таким образом, на этом соборе присутствовали уже не одни только русские иерархи, и он мог поэтому рассматриваться как Вселенский Собор Православной Церкви. Собор этот был созван для суда над патриархом Никоном, но занялся и вопросом о церковных исправлениях. Он утвердил и благословил исправления Никона и, что особенно важно, изрек анафему на тех, кто ослушается соборных постановлений и не примет новых книг. Эта анафема имела огромное историческое значение: ею все приверженцы старины были поставлены в положение еретиков, она превратила разрозненную оппозицию в формальное разделение церкви и вместо того, чтобы уничтожить церковную смуту, усилила и обострила ее. Движение против новшеств не только не прекратилось, но увеличилось, превратилось в вооруженный мятеж. В Соловецком монастыре движение было подавлено только в 1676 году.
Надо сказать, что приверженцы русской старины не смущались тем, что реформы производились учеными людьми, греками и киевлянами, и одобрены восточными патриархами. Русские люди не считали греков и киевлян своими учителями. После Брестской унии 1596 года киевляне были заподозрены в симпатиях к латинству; в Москве говорили, что у них православие «пестро». Это убеждение поддерживалось и той ученостью, которую привозили с собой киевские монахи: ведь они все выходили из школ, которые хотя и были основаны православными, но все же по образцу иезуитских коллегий, и преподавание там велось по тем же учебникам. Многие, желая усовершенствоваться в науках, временно отпадали от православия, чтобы иметь возможность доучиваться в иезуитских коллегиях и в Риме.
Что же касается греков, то они скомпрометировали себя Флорентийской унией, и хотя они отступились от нее, доверие к ним не восстановилось. Даже такой просвещенный человек, как Арсений Суханов, член редакционной комиссии по исправлению богослужебных книг, отзывался о греческом духовенстве пренебрежительно, он говорил: «И папа – не глава церкви, да и греки – не источник, а если бы и были источником, то ныне этот источник пересох; вы и сами, – говорил он грекам, упрекавшим московитян в том, что их православие испорчено, – страдаете от жажды; как же вам напоить весь свет из своего источника». И в этих словах была несомненно доля правды.
Православная церковь на востоке влачила тогда жалкое существование, в среде иерархов были люди малоученые, простецы – что они могли дать русским людям в смысле научения веры? По мнению русских людей, греки не могли держать в чистоте православие. Московитяне полагали, что русские люди, – живущие под властью православного царя, должны иметь преимущество. В глазах благочестивых людей православие сохранялось только в одной Москве, и они решили сохранить это переданное Богом сокровище во всей неприкосновенности. Протопоп Аввакум был красноречивым выразителем этого взгляда. На соборе 1666–1667 годов на упрек греческих патриархов в том, что он упрям, что все на востоке – и сербы, и албанцы, и римляне, и ляхи крестятся тремя перстами, а он упорствует и крестится двумя, отвечал: «Вселенские учители! Рим давно упал и лежит невосклонно, и ляхи с ним же погибли, да и у вас православие пестро, от насилия турскаго Махмета немощны вы стали и впредь приезжайте к нам учиться; у нас Божией благодатью самодержавие и до Никона-отступника православие было чисто и непорочно и церковь немятежна». Греческие патриархи потеряли уважение в глазах русских людей, потому что они постоянно приезжали в Москву за милостыней. Русские люди знали, что за милостыню они подтвердят все, что бы им ни предложили. Сам Никон жестоко бранил их на соборе, когда правительство авторитетом патриархов стало пользоваться против него. «Бродяги вы, – говорил Никон, – ходите всюду за милостынею», и иронически советовал им поделить между собой золото и жемчуг с его патриаршего клобука и панагии. При таких условиях, конечно, мало что значили заявления антиохийского и александрийского патриархов. Оставался еще судья в этих вопросах – человеческий разум, но компетенция человеческого разума в делах веры была заподозрена еще раньше, чем авторитет греческой церкви. Этому презрению к усилиям человеческого разума русские люди научились от самих греков, от византийских ученых. Поэтому вполне понятно изречение протопопа Аввакума: «Хоть я и несмыслен гораздо – неученый человек, диалектике, риторике, философии не учен, – зато знаю, что вся в церкви, от святых отцов переданная, свята и непорочна суть; держу до смерти, яко же приях, не предлагаю предел вечных; до нас положено: лежи оно так во веки веков». Понятна теперь и решимость Аввакума и его сторонников отстоять каждое слово, каждую букву, «умереть за единый аз».
Это говорилось по поводу Символа Веры, где, как известно, в одном месте был лишний аз: «рожденна, а не сотворенна». При такой психологии раскольническое движение должно было принять характер не только консервативный, а прямо ретроградный, должно было выйти не только протестом против церковной реформы, но и против западного просвещения. И вот мы слышим от Аввакума: «Ох, бедная Русь, что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков?» Этот вопль находил отклик во многих сердцах ревнителей древнего благочестия. Вследствие этого движение вышло из тесных рамок церковной жизни и сделалось национальной реакцией против иноземного влияния. В этом своем виде движение обнаружилось уже после смерти Алексея Михайловича, при Федоре Алексеевиче и, главным образом, при Петре Великом.
Таким образом, в русской жизни XVII века обнаружились два течения: одно приводило к усвоению западной культуры, другое течение было консервативное и было представлено людьми, которые упорно стояли на старине. На этой почве и возгорелась борьба, которая выражалась часто в ярких драматических или даже прямо в трагических эпизодах: припомним хотя бы подвиги самосжигателей на севере в царствование Федора Алексеевича и Петра Великого – люди изнемогали в борьбе с царством антихриста и спешили очистить себя огненным крещением, палили себя в срубах с женами и детьми. Однако жизнь брала свое, колесо истории было трудно остановить, и все более могущественным становилось то течение, которое превращало Московское государство в государство европейское.
Несмотря на всю закоснелость русского общества, несмотря на сильные протесты приверженцев старины, иноземное влияние крепло и развивалось и, наконец, проникло туда, куда ему загражден был всякий доступ, – проникло на женскую половину царского дворца. И вот после смерти Алексея Михайловича двери царского терема широко раскрылись, и из них вышла в народ царевна, совершенно не похожая на тех, которых знали русские люди. Эта царевна смело вошла в мужское придворное общество, с бою вырвала кормило правления у своей матери и в сообществе со своими друзьями стала направлять Московское государство на тот же путь прогресса, который ему указан был предшествующей историей. Это была царевна Софья, старшая дочь царя Алексея Михайловича.
Чтобы оценить по достоинству это новое явление русской жизни XVII века, мы должны познакомиться с бытом царского терема XVII столетия, должны посмотреть, что такое представляли собой прежние царицы и царевны и каково было их житье-бытье.
Русские царевны XVI и XVII веков имели более несчастную участь, чем боярышни того же времени, а положение последних было таково, что едва ли какая-либо современная девица способна представить его даже в мыслях. В быту русского общества XVI и XVII столетий господствовало строгое затворничество женщин. «Состояние женщин, – писал барон Сигизмунд Герберштейн (который был послом в России при Василии III), – самое плачевное. Женщина считается честною только тогда, когда она живет дома взаперти и никуда не выходит; напротив, если она позволяет видеть себя чужим и посторонним лицам, то ее поведение становится зазорным. Весьма редко позволяется им ходить в храм, а еще реже в дружеские беседы, разве уже в престарелых летах, когда они не могут навлекать на себя никаких подозрений». «Знатные люди, – рассказывает другой иностранный наблюдатель, Бухау (в половине XVI столетия), – не показывали своих жен и дочерей не только посторонним людям, но даже братьям и другим своим родственникам, и в церковь позволяли им ходить только во время говенья, чтобы приобщиться святых тайн или в другое время в самые большие праздники». Прошло еще сто лет, и мы от своих и иностранных наблюдателей опять слышим то же самое. «Московскаго государства женский пол, – пишет наш подьячий Г. К. Котошихин, – грамоте неученыя и не обычай тому есть, а природным разумом простоваты, и на отговоры несмышлены и стыдливы: понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих живут в тайных покоях, и опричь самых ближних родственников, чужие люди, никто их, и оне людей видети не могут. И потому мочно дознаться, от чего бы им быти гораздо разумным и смелым. Также как и замуж выйдут, и их потомуж люди видают мало». Так Котошихин описывает положение женщины высшего класса русского общества. Что же касается женщин из простонародья, то их, конечно, можно было видеть везде: и на улице, и на рынке, и на реке, и в хороводе, и на качелях. Но то, что в быту высшего московского общества было обычаем, в царском быту охранялось правилами строгого придворного этикета. Женщины царской семьи были совершенно изолированы от внешнего мира. Австрийский посол Мейерберг, бывший в России в царствование Алексея Михайловича, сообщает, что «за столом государя никогда не являлись ни его супруга, ни его сын, ни сестры, ни дочери; из 1000 придворных, – продолжает он, – едва ли найдется один, который может похвалиться, что видел царицу или кого-либо из сестер и дочерей государя». Даже врач не мог их видеть. Когда однажды по случаю болезни царицы необходимо было призвать врача, то прежде чем ввели его в комнату к больной, завесили плотно все окна, чтобы ничего не было видно, а когда врачу нужно было пощупать у ней пульс, то руку ее окутали тонким покровом, дабы медик не мог коснуться ее тела. «Царица и царевны выезжают в каретах или в санях, всегда плотно и со всех сторон закрытых; в церковь они выходят по особой галерее, со всех сторон совершенно закрытой». Когда царице и царевнам приходилось выходить из кареты, около них по обе стороны носили «суконные полы» (то есть ширмы), чтобы «люди их зрети не могли». В церкви царицы и царевны стояли на особых местах, завешанных легкой тафтой. Во время пребывания их в церкви там находилось очень немного народу: священник, несколько церковников и несколько ближних бояр, а иные люди не бывали. Чтобы не попадаться людям на глаза, царицы и царевны выезжали в церкви и монастыри по ночам, в монастырях иногда в час ночи служили обедню специально для царицы и царевен. Когда царица выходила из своих внутренних покоев, чтобы садиться в карету, все встречные должны были падать ниц на землю, то же самое происходило и тогда, когда царица подъезжала ко двору и выходила из кареты. В самом дворце, по свидетельству Рейтенфельса, «русские царицы проводили жизнь в своих покоях, в кругу благородных девиц и дам, так уединенно, что ни один мужчина, кроме слуг, не мог ни видеть их, ни говорить с ними». Но Рейтенфельс не точно сообщил, что слуги могли видеть царицу: они тоже не имели доступа в ее покои. Царица посылала со своими поручениями прислужниц или ближних бояр родственников. Вот какова была обстановка, в которой протекала жизнь русских цариц и царевен в XVI и XVII веках почти до смерти Алексея Михайловича.
Этот характерный факт русской жизни того времени – затворничество женщин – обращал всегда на себя внимание исследователей, которые ставили вопрос: чем объяснить затворничество женщин в царском быту и в быту высшего московского общества? На этот вопрос давали различные ответы. Говорили, что затворничество женщин является наследием языческой старины, когда существовало многоженство и содержались гаремы, указывали на татарское влияние, на грубость нравов, но наиболее правильным является объяснение, которое дал талантливый исследователь быта русских царей и цариц И. Г. Забелин. Он видит в затворничестве женщин влияние аскетических взглядов византийской учительной литературы. Сущность аскетических воззрений сводится к беспощадному отрицанию всех радостей жизни. Женщина, как один из источников радости, сделалась поэтому мишенью ярых нападок со стороны учителей нравственности. Женщина, по учению аскетов, в самой своей природе носит грех и грех только творит: «От жены начало греху, и тою все умираем», – вот какое заключение делали наши книжники. Подобными идеями проникнута была византийская церковная литература, эти идеи были перенесены и на нашу литературную почву и мало-помалу воспитали умы и нравы нашего общества, которое оказалось способным воспринять эти воззрения. Женщину стали считать великой помехой в нравственном поведении, источником соблазна, который необходимо отделить как можно дальше от мужского общества. Даже в церкви женщинам нельзя было стоять вместе с мужчинами: они становились на левую сторону, или «на полати» (то есть на хоры), или в притворе.
Все эти представления о греховности женского существа были восприняты самими женщинами. Они стали смотреть на себя как на источник зла, стали уединяться и замыкаться, чтобы не распространять этого зла и чтобы заслужить себе право на существование. Постничество и келейная жизнь стали идеалом русской женщины, к осуществлению которого она и стала стремиться всеми силами души. Если судьба заставляла женщину жить с мужем и родить детей, она свою домашнюю жизнь старалась устроить наподобие монашеской и в этом, конечно, находила всегда поддержку со стороны как мужа, так и церкви. Так и создался терем, как произведение древнего благочестия.
Что же делали женщины в своем уединении?
Значительная часть времени у царицы и у царевен уходила на богомолье. Ежедневно совершалось утреннее и вечернее правило, которое заключалось в чтении и пении определенных уставом молитв, псалмов, канонов, тропарей, кондаков и акафистов, по праздникам служился молебен с водосвятием. Утреннее и вечернее правило совершались в Крестовой Палате, куда приходил священник с пятью дьячками, причем царица и царевны стояли на особом месте, скрытые занавесом. После утреннего правила царица и царевны отправлялись к заутрене или к обедне в одну из домовых церквей, находившихся или в главах Благовещенского собора, или «в сенях» и называвшихся «сенными» или «верховными». Каждый день читалось особое поучительное слово из сборника «Златоуст» и сверх того житие дневного святого. Это – обычные религиозные обязанности, которые неукоснительно выполнялись. Иногда, кроме этого, царица и царевны совершали поездки на богомолье в Вознесенский, Зачатьевский, Алексеевский, Новоспасский и другие монастыри и в Троице-Сергиеву Лавру, и в особо чтимые церкви. В Родительские субботы царица и царевны служили панихиды в Вознесенском монастыре, где покоились царские родственники по женской линии, в Архангельском соборе, где покоились московские цари, в Новодевичьем монастыре, где покоились предки Романовых, и иногда в каком-нибудь другом, где были погребены родственники царицы. Болезни детей всегда служили поводом для поездки или к Никите Мученику, подававшему исцеление от «родимца», или к Антипию Чудотворцу, помогавшему от зубной боли, или к другим святым. Наконец, иногда царица и царевны, соскучившись дома, отправлялись в женский монастырь поговорить с игуменьей и уважаемыми старицами.
Значительная часть времени у царицы и у царевен уходила на дневные приемы. Котошихин рассказывает, что ежедневно во дворец приезжали по делам похлопотать за родственников или просто в гости жены и дочери бояр. Эти приезды разнообразили монотонную жизнь терема и устанавливали общение его с миром. Несмотря на затворничество, через приезжих боярынь в царском тереме знали все, что творится на белом свете, знали то, что было и чего не было. Из переписки Алексея Михайловича хорошо видно, что на женской половине через боярынь и боярышень знали все, что говорилось и на площади, и в отдаленных походах. На Рождество к царице и царевнам приезжал патриарх с духовными властителями «Христа славить», а на Светлой неделе приходил христосоваться, причем приносил им благословенные образа, кресты и обычные великоденские дары. На Пасхе царица принимала у себя и «государев светский чин», то есть бояр, приходивших ударить челом и поздравлять ее. Это был единственный день, когда двери царского терема открывались и для мужчин. В Прощеный день к царице приходил патриарх с властями и ближайшие родственники «прощаться». По праздникам у царицы и царевен устраивались торжественные приемы, на которые приезжали по особому «зову» боярыни и боярышни, причем подносили царице куличи и сдобные пироги.
Собственно у царицы уходила масса времени на хозяйственные заботы. В ведении царицы находилась целая мастерская палата, где изготовлялось белье, дамские уборы и прочее; царица выбирала материи и руководила работами. Это хозяйство было так обширно, что под наблюдением царицы находился целый Постельный приказ. Сама царица вышивала золотом, серебром и шелком пелены, воздухи, подвески к иконам, которые дарила в соборы, монастыри и в церкви особо чтимых угодников, вышивала воротники, ожерелья, полотенца, но больше всего этим делом занимались царевны – еще до сих пор в подмосковных церквях можно найти вышитые ими воздухи и плащаницы.
После обеда в праздники и в долгие осенние и зимние вечера во дворце происходили «потехи». Потехи были чисто народные и сообразовались с обычным их распределением: на Святой неделе устраивались качели, на Масленицу «скатные горы», которые устраиваются еще и теперь в маленьких городах, на Троицу водили хороводы. Надо сказать, что при царском дворе жило много верховых боярынь (будущих фрейлин), с которыми царевны и забавлялись утехами. При дворе для забавы царевен находились турки, шуты, шутихи и былинники. Для игр были устроены особые сени и держались специальные игрицы, которые знали народные игры, бывали целые штаты слепых домрочеев, распевавших былины под звуки домры. Так изо дня в день монотонно протекала жизнь царицы и царевен.
Жизнь царицы была так или иначе наполнена хозяйственными заботами, семейными интересами и делами благочестия, но совсем без интересов протекала жизнь царевен, которым кроме рукоделия и богомолья нечего было делать. Их положение было тем более горько, что оно было безвыходно. «Сестры царския, – пишет Котошихин, – и дщери царевы, имея свои особые покои разные, и живуще яко пустынницы, мало зряху людей и их люди; но всегда в молитве и в посте пребываху и лица свои слезами омываху, понеже удовольствие имея царственное, не имеют удовольствия, данного человеку Богом – иметь детей. А государства своего за княжей и за бояр замуж выдавати их не повелось, потому что князи и бояре их есть холопи и на челобитьи своем пишутся холопами, и то оставлено в вечный позор, ежели за раба выдать госпожа; а иных государств за королевичей и за князей давати не повелось для того, что не одной веры, и веры своей отменити не учинят, ставят своей веры в поругание, да и для того, что иных государств языка и политики не знают, и от того бы им было в стыде». Но отзывы Котошихина констатируют тот порядок вещей, который отживал свой век. Время и обстоятельства брали свое и стремились раскрыть завесы, скрывавшие царственных женщин.
Уже вторая супруга царя Алексея Михайловича, молодая царица Наталья Кирилловна, воспитанная в доме Артамона Сергеевича Матвеева, в среде, чуждой всякой закоснелости, стала вести себя с большей свободой в отношении к установившемуся этикету. Рейтенфельс рассказывает, что она при первом же выезде, соскучившись сидеть в потемках, «несколько открыла окно кареты и посмотрела на народ». Такой поступок вызвал замешательство в обществе. По словам Рейтенфельса, когда царице доложили, что ее поступок произвел сенсацию, «она с примерным благоразумием охотно уступила мнению народа, освященному обычаем». Но эта уступка была непродолжительна: скоро Наталья Кирилловна стала выезжать вместе с царем в открытой карете. Кроме того, она пошла еще дальше: справляя 26 августа свои именины, Наталья Кирилловна лично принимала влиятельных бояр и раздавала им из собственных рук именинный пирог.
За мачехой последовали и дочери Алексея Михайловича от первого брака, которые были ей почти ровесницами, особенно старшая – Софья.
Софья была «больше мужеска ума преисполненная дева». Она получила очень хорошее образование, была начитана не только в русской, но и в польской литературе, из чего видно, что влияние западной науки проникло даже в глубину царского дворца. Такой девице, как Софья, с мужским складом ума, не сиделось в тереме – ее тянуло на волю, в общество мужчин, и она воспользовалась для этого первым благоприятным случаем.
После смерти Алексея Михайловича царский престол занял хилый и болезненный сын его Федор. Он почти не выходил из своей спальни, куда являлись к нему и бояре со своими докладами. Всякий раз они встречали у царя сестру его Софью, приходившую ухаживать за больным братом, но это, конечно, было только предлогом. Здесь Софья очень близко перезнакомилась со всеми государственными дельцами конца царствования Алексея Михайловича и царствования Федора. С одним из этих дельцов (с В. В. Голицыным), к великому соблазну московского общества, она сошлась очень близко – ее письма «к свету братцу Васеньке» не оставляют сомневаться в характере их взаимных отношений. Царевна исподволь втянулась в государственные дела, постепенно приобрела вкус к политике и к власти, и нечего удивляться, что по смерти Федора она силой постаралась захватить власть в свои руки, опираясь на стрельцов. Так возникло явление, небывалое в русской жизни – регентство царевны.
Если царь Алексей Михайлович и Федор Алексеевич являются во внутренней и во внешней политике предшественниками Петра Великого, то Софья была предшественницей тех царственных женщин, которых было так много в XVIII веке после Петра, предшественницей со всеми их достоинствами и недостатками. Деятельное участие в управлении государством Софья принимала не только в свое регентство, но и во время правления Федора.
Софья стояла в центре правительственного кружка, вертевшего всеми делами в государстве. О настроении и направлении этого кружка дают понятие те меры, которые были предприняты правительством в царствование Федора и Софьи. Эти меры являются непосредственным продолжением и развитием правительственной деятельности Алексея Михайловича, и на них необходимо обратить внимание.
Прежде всего отметим чрезвычайно важные военные преобразования. При Федоре возник весьма серьезный вопрос «об устроении рати». Для обсуждения этого вопроса была созвана комиссия из стольников, стряпчих, дворян, жильцов, городовых дворян, детей боярских и генералов и полковников рейтарских и пехотных полков под председательством князя Василия Васильевича Голицына. Эта комиссия была односословным Земским собором. С последними в то время произошла такая эволюция: в первой половине XVII века, когда Московское государство не было устроено, когда приходилось всем общественным классам принимать участие в устроении земли, Земские соборы были всесословными; когда же во второй половине XVII века государственные дела вошли в свою колею, когда сословия разобщились в своих интересах, когда жизнь вошла в свои обычные рамки, когда у правительства возникали только вопросы технического характера, а не общественного, тогда прекратились созывы общесословных Земских соборов и стали созываться односословные комиссии. В 1682 году и была созвана комиссия из выборных от ратных людей разных чинов для решения вопроса о военном устройстве. Эта комиссия главную причину всех военных неудач усмотрела в местничестве и возбудила вопрос о его отмене при назначении на военные должности, что повело к полному его уничтожению в 1682 году. Местничество, очевидно, уже отжило свой век, обстоятельства требовали его отмены, так как в правительственный класс стало все больше и больше попадать новых людей. Государственная служба требовала ума, знаний, опыта, а не породы, личные качества при назначении на должность брали перевес над породой, и местничество при таких условиях стало анахронизмом. В сущности, уничтожение местничества было завершением процесса, развивавшегося постепенно после Смутного времени, о котором засвидетельствовал Котошихин: «Прежние большие роды князей и бояр многие без остатку миновались».








