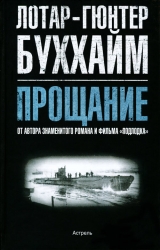
Текст книги "Прощание"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Старик осмотрел все кругом и решает:
– Оснований для снижения хода нет! – и, обернувшись ко мне, говорит: – А радар у нас на что? Ну-ка, посмотрим.
На зеленом экране радара вырисовывается множество объектов.
– Это ситуационный дисплейный радар, сокращенно СДР, – говорит старик.
– С каждым оборотом антенны картинка стирается, а потом появляется снова? – спрашиваю я.
– Нет. С каждым оборотом она усиливается. Но через определенное время картинка смазывается, тогда она стирается, – отвечает он. – Радар СДР работает на частоте десять сантиметров.
– А зачем нужен второй радар с монитором, если на этом все так хорошо видно?
– Небольшие рефлексы на СДР видны лучше.
– Тогда это, выражаясь более просто, более четкий радар?
– Да. Оба прибора можно по выбору переключать на трех-или десятисантиметровую антенну радара.
– Вот такую погоду нам иногда следовало бы иметь, – говорю я про себя вполголоса.
Иногда я молил Бога послать такую дымку. Чаще всего это, правда, ничего не давало…
– У союзников, кажется, была лучшая связь с небесной канцелярией, – говорит старик. – Мы шли, не имея возможности погрузиться, и это при прекрасной погоде, – отнюдь не вдохновляющее ощущение.
– Однако после Гибралтара запас хода составил самое меньшее двадцать метров?..
– Всего двадцать. Большего сделать было нельзя. Я и сейчас не перестаю удивляться, что на этой разбитой лодке мы прошли Бискайи.
После того как мы какое-то время молча разглядывали море, старик заговорил снова:
– Это даже представить себе невозможно, сколько торпед получил бы такой разделенный на «икс» отсеков корабль, как «Отто Ган», если бы он оказался перед нашими торпедными аппаратами.
У меня дыхание перехватило. Мне понадобилось время, чтобы сказать:
– Ты же хотел освободиться от такого взгляда на жизнь!
Другому человеку я бы этого не сказал – это своего рода болезнь. Старик ведь мог сказать: «Мы – меченые», или: «Можно делать, что угодно, но видения большой войны возвращаются к нам снова и снова». Словно читая мои мысли, старик говорит:
– В то время мы еще были молоды и особенно впечатлительны.
Чтобы сбить волну печальных воспоминаний, я иронизирую:
– Ну, совсем молодым ты уже не был. Для меня ты тогда был стариканом. По сравнению с неопытными юнцами, которым доверили подводные лодки, ты был уже в летах.
– Да?
– Еще бы! Больше тридцати годов, как сказал бы наш испанец. Это же было в старые-престарые времена.
Старик молчит. Но он запустил конвейер моих воспоминаний, которые как бы накладывались на мое личное существование. Сколько бы я ни пытался, долго сопротивляться наплыву воспоминаний я не могу. Во всяком случае, в Бретани я провел несколько лет моей жизни. Из Сен-Назера на U-96 я вместе со стариком отправлялся в его пятый и шестой боевой поход. У Симоны в Ла Боль было кафе «А ль’ами Пьеро». Вихрь воспоминаний вертится у меня в голове.
Старик, очевидно, предается таким же воспоминаниям. Сейчас он говорит по-деловому сухо:
– Если бы кто-нибудь разнюхал, что в 1943 году Симона была у тебя в Фелдафинге, то дела твои были бы плохи. Это-то ты понимал? Как это ты вообще тогда провернул?..
Так как это звучит как вопрос, я говорю:
– Я же тебе все это уже рассказывал. Сразу же после моего допроса в абвере ВМС.
– Расскажи еще раз!
– Хочешь убедиться, совпадут ли мои тогдашние показания с сегодняшними?
– Не нагнетай!
– Ты же знаешь, что я получил от Верховного командования вермахта (ОКВ) рабочий отпуск, так как после гибралтарской операции должен был закончить мою книгу и поработать дома, потому что там находились все мои материалы, а полевую комендатуру в Ла Боле я попросил предоставить мне уборщицу, так как в Фельдафинге у меня никого не было.
– И уборщицей оказалась именно Симона?
– Тебя это удивляет? Другой у них в запасе не было. Все это было логично. Симона вызвалась добровольно. А то, что мне нужен был помощник, они поняли сразу.
– В крайнем случае ты мог рассчитывать на достаточно мощную поддержку сверху.
– Так оно и есть.
– И в один прекрасный день Симона приехала к тебе?
– С билетом, выданным вермахтом, естественно.
– И внесла оживление в твою холостяцкую жизнь – невероятно!
Тут уж в меня вселяется бес, и я говорю:
– Между прочим, я ездил с ней в Лейпциг, к моей менторше.
– Ты ездил с ней по стране?
– Да. В Лейпциг. Там жила тетя Хильда. Ей я хотел показать Симону. Мы же чувствовали себя, так сказать, помолвленными.
– И это в разгар войны! О риске ты, очевидно, не думал?
– Можно подумать, что в то время ты относился к риску с почтением.
Старик только чешет за правым ухом.
– Ищешь шефа? – спрашивает старик, когда я через час захожу выпить кофе и рассматриваю сидящих за столами. – У него сейчас нет времени. Неприятности с главным конденсатором. Сходи посмотри – это интересно!
Я делаю всего один глоток и снова направляюсь в свою каюту, чтобы взять фотоаппарат.
Перед главным конденсатором командует Вулинг. С трех люков сняты крышки. Непосредственно перед мощной установкой подняты напольные плиты. Из глубины выступает мощный хобот. Его используют для вентиляции. Два человека с помощью тяжелых инструментов ремонтируют задвижку водопровода охлаждающей воды.
– Этот водопровод подает охлажденную воду к главному конденсатору, – объясняет мне один из ассистентов, в то время как я фотографирую. Я знаю, что этот трубопровод чертовски важен. Холодная вода омывает трубы, в которых конденсируется использованный пар.
Один человек, словно змея, исчезает в одном из трех открытых люков и высвечивает лампой гигантский стальной корпус. Это напоминает мне горнопроходческую штольню.
Вечером я нахожу старика, как обычно, на мостике.
– Я рад, – говорю я, – что получил свою старую каюту. Там, на корме, я казался себе пассажиром увеселительного парохода. Шум из бара, а в каждой второй каюте – вечеринка.
– Ты преувеличиваешь! – говорит старик.
– Может быть, но мне так казалось. Да и постоянный визг, раздающийся из трюма номер пять, где ежедневно играют в волейбол, – не для меня.
– Я тоже считаю, что нехорошо переделали помещения. Например, в бар не может пойти матрос – он чувствует себя там неуютно. Ведь это помещение предназначено не для этого.
– Ты уже побывал там?
– Нет, спасибо. Я уж лучше воздержусь.
– Ну, ты же всегда был робким человеком.
– Хочешь посмеяться надо мной?
– Боже упаси!
Старик задумался. Затем он делает над собой усилие, поднимает голову и говорит:
– Я мог бы, естественно, потратив невероятно много энергии, провести переговоры с представителями команды и другими и произвести некоторые изменения. Но что это даст! Да и новому шефу я не хочу мешать.
– Его, кажется, нельзя назвать дитем печали. Он скорее – работяга?
– Да. Он охотно впрягается, если организуется пикник или что-либо подобное. Я не хочу сказать, что его стиль плохой…
– Только для тебя это что-то новое.
– Так оно и есть. Возможно, для решения корабельных проблем это совсем неплохо. Но для меня это слишком прогрессивно.
– Тебе бы, конечно, было бы лучше так на так?
– Мне было бы лучше, – да.
– У меня сложилось впечатление, что люди охотнее напиваются в столовой рядового персонала, чем наверху, где они не могут по-настоящему «набраться».
– Может, ты и прав.
– Там, наверху, они на виду. Я не знаю, чувствуют ли они себя в баре комфортно, у меня, во всяком случае, такого ощущения не возникло.
– Значит ли это, что ты в баре был?
– Да, вчера вечером. Стюардесса посоветовала мне взять какой-нибудь напиток, сразу же сказав, что после этого не разрешается ходить по палубе с ликером, фруктовым соком и чем-либо другим.
– Тебя обслуживала та, что постарше?
– Нет. Знаешь, такая средне пышная. Она также сказала, что она медицинская сестра. Всего стюардессами работают три медицинские сестры.
– Тогда с нами ничего не случится.
– При наличии трех медицинских сестер, конечно, нет. Одна из них сразу же перешла со мной на «ты».
– Ну, в таком случае лучше всего сразу же удалиться.
– В соответствии с этим золотым правилом я и действовал.
– У тебя оказались хорошие советчики.
– У меня такое ощущение, что происходит смещение акцентов. Женщина-океанограф мне сказала, что у нее есть моя книга «Лодка», и тогда я сказал: «Как хорошо, тогда у вас есть, что читать» – и ушел. А один, когда исчез шеф, стал особенно выпендриваться – большой такой, толстый, зовут Чарли.
– Это машинист по насосам.
– Машинист по насосам. Что же он делает?
– Он относится к людям, работающим на палубном участке и обслуживающим балластные насосы, а также вентили и рычажные механизмы.
Наступает молчание. После многократного прокашливания старик говорит:
– Ты хотел знать, как у меня обстояли дела в последнее время. В ходе заключительной беседы я договорился, что буду заниматься представительством на этом корабле, и вот я здесь. Но все так сильно изменилось, что я, собственно говоря, по-настоящему больше не заинтересован максимально…
– …проявлять себя, хочешь ты сказать?
– Да.
– Я бы тебе сказал: перестань думать об этом. Да и зачем тебе это? Лучше расскажи, как ты на своем разбитом «драндулете» прошел из Бреста до Бергена.
Так как старик не реагирует, я говорю:
– Знаешь ли ты, что океанограф при переезде разбила свой единственный термометр? О запасном термометре она, очевидно, не подумала. Очень хотелось бы знать, как она будет проводить свои измерения морской воды.
– Это, слава богу, не моя забота, – бурчит старик, и, бросив взгляд на экран радара, говорит: – Пойдем сделаем по глотку?
– Лучше и не придумать!
Обычный ритуал – старик ставит пивные бутылки на складной столик, аккуратно разливает пиво, устраивается удобно в своем кресле, и говорит: «На здоровье!» – и мы оба делаем по большому глотку.
– Итак, 4 сентября 1944 года вы вышли. Что за экипаж у тебя был? – спрашиваю я.
К моему облегчению, старик отвечает сразу:
– Да, экипаж. Естественно, это была проблема. Его мы составляли из самых различных людей, сложившегося экипажа лодки мы не имели. Самым важным для меня человеком был наш инженер флотилии. Ты его знаешь: очень жилистый и все в таком роде… Затем мы отобрали из кадрового резерва всех, кто хотя бы в некоторой степени был пригоден для этого. Региональное командование подводного флота поручило нам взять с собой по возможности дополнительных специалистов в соответствии с перечнем первоочередности: судовых строителей и тому подобное.
– А был ли большой налет на военно-морское училище, до того как вы вышли в море?
– Да, военно-морское училище бомбили, но разрушили не полностью. На нашу базу попала одна-единственная бомба. Здания пострадали незначительно. Мы уже несколько недель жили в бункерах. Мы располагались там с первой флотилией. Еще там находились морской комендант и комендант крепости.
– Что значит – в бункерах? Ты имеешь в виду – в штольнях?
– Да. И в них тоже.
– В штольнях сразу же за бункерами для подводных лодок?
– Как в тех, так и в других. Прежде всего, в штольни перебрались курсанты военно-морского училища, то есть люди из первой флотилии. На территории самого училища имелся, как помню, всего однн-единственный бункер, но он был занят зенитчиками. Мы, то есть штаб флотилии, жили в двух больших бункерах на старой территории флотилии, и все еще ездили через весь город к нашему бункеру с подводными лодками.
– А почему вы не остались внизу?
– Часть находилась внизу. Но так как комендант крепости – в это время им был генерал Рамке – располагался там со своим штабом и туда же переместился и морской комендант, то места были в значительной степени разобраны.
Военно-морское училище, поездки со стариком к бункеру, наш ночной выход в море – все это снова возникает перед глазами.
Я хотел только выспросить старика, предостерегаю я себя, и говорю:
– Вы со своей лодкой выбрались относительно хорошо? Что на позиции не было эсминцев?
– Нашей первой проблемой при выходе, а это происходило ночью, сначала был заход за мол и проход через два затопленных корабля. К этому мы подошли очень осторожно. Я сказал себе: если уж нас снесет к такому кораблю, то надо обвеситься кранцами. В любом случае мы должны пройти! Естественно, я боялся, прежде всего, за рули. Но мы своего добились. Еще одной проблемой было заграждение из балок и сетей в гуле. [19]19
goulet – узкий вход в гавань (фр.). – Прим. перев.
[Закрыть]
Мы договорились, что небольшой буксир растащит их, но обошлось без этого, так как заграждения разбомбили и они больше не представляли единой преграды. Нам просто повезло, что мы нигде не зацепились. Неприятны были многочисленные пожары. Вокруг нас в результате обстрелов многое горело, и в этой тесноте нам казалось, что нас со всех сторон освещают. Несмотря на это, нас не заметили, и мы дошли до Камаре – ты же знаешь эту часть выхода по левой стороне. В районе Трезье мы натолкнулись на «караульщиков».
– Патрульные суда?
– Этого я точно не выяснил. Мне они показались большими тральщиками. Но так как нам не хотелось, чтобы нас обнаружили, то мы зашли в старое минное поле Камаре и погрузились. До этого мы не проводили пробных погружений. В результате это первое погружение полностью сорвалось: мы тут же свалились на дно. Лодка, несмотря на все расчеты, была неотдифферентована.
– Вот те на!
– Примерно так же думал и я. И вот, лежа на грунте посреди минного поля, мы обнаружили, что главный водоотливный насос вышел из строя.
– Вот те на! – говорю я снова, но теперь старик не дает сбить себя с толку и продолжает.
– Тогда мы сказали себе: мы должны отремонтировать этот насос, причем работать надо как можно тише, а затем приступить к дифферентированию лодки. Мы должны были восстановить ее способность всплывать и погружаться. – Продолжая говорить, старик делает большой глоток: – На эту работу мы затратили примерно день. Так долго это продолжалось потому, что мы всегда, когда слышали шумы, прекращали работу. Но мы убедились, что никто из «караульщиков» не заходил на это минное поле, то есть не приближался к нам.
– Они, очевидно, не решились на это.
– И вот, совершенно незамеченные, мы отремонтировали этот насос, а затем и отдифферентовали лодку. Закончив все это, мы всплыли и медленно выбрались из этого минного заграждения, а затем, не погружаясь, «побежали дальше».
– Не на глубине шнорхеля? Просто по поверхности моря?
– По поверхности моря. Со шнорхелем мы не проводили испытаний.
– Очевидно, пойти на этот риск вы смогли только потому, что «караульщики» не считали такой «прорыв» возможным.
– Думаю, они в обычном порядке выставили несколько «караульщиков», даже не предполагая, что фактически прорвется еще одна лодка.
– И в этом было ваше счастье!
– Можно сказать и так. Не думаю, что кто-то ухитрился сообщить противнику о нашем выходе в море. Вообще-то приходилось считаться с тем, что из Бреста наблюдатели посылали сообщения, но у меня создалось впечатление, что о нашем выходе сообщений не было. К этому времени везде царила неразбериха. Так как мы еще не решили проблему со шнорхелем, то днем погружаясь или опускаясь только на перископную глубину, а ночью всплывая, мы очень осторожно двигались на запад.
– И как долго?
– Так долго, пока мы постепенно технически не привели лодку в порядок. У лодки ведь было очень много дефектов.
– Эвфемистически выражаясь.
– Да. Но, в конце концов, мы даже смогли воспользоваться шнорхелем, то есть плыть под водой.
– Вам невероятно повезло! Воздушное наблюдение, вероятно, тоже было снято. Они, очевидно, уже не рассчитывали на то, что кто-нибудь еще будет прорываться из Бреста.
– Естественно, мы были очень осторожны. При плотном наблюдении они бы, естественно, вышли на наш след, они должны были нас засечь!
Старик делает паузу.
Снедаемый любопытством, я нетерпеливо продолжаю спрашивать:
– Так вы, значит, двинулись дальше на запад?
– Нашим главным направлением было «западное».
– И у вас совсем не было соприкосновения с противником?
– А мы его и не искали, – грубо говорит старик. – Да и стрелять мы не смогли бы. Мы были своего рода транспортной фирмой.
Какое-то время старик раздумывает, а затем уже другим тоном говорит:
– Между прочим, Симона ведь знала твой адрес. Почему же сразу после войны она не приехала к тебе?
– Спроси что-нибудь полегче, – говорю я и едва удерживаюсь, чтобы не сказать: – «Твой адрес она, очевидно, тоже знала». Вслух же я говорю: «Этот вопрос я безответно задавал себе – и Симоне тоже. Но я до сих пор не знаю, что она делала в то время. И как потом шли дела в Бергене, ты мне тоже не рассказывал».
– Подождешь. Теперь мне надо соснуть. Да и тебе это не повредит.
Ночью мы пройдем Гибралтарский пролив. Своеобразная робость удерживает меня от разговора об этом со стариком. И сам он ни словом не обмолвился о Гибралтаре.
Я открываю книгу «Путешествие на край ночи» Селина, которую я захватил из дома, но, перелистав несколько страниц, замечаю, что не воспринимаю ничего из прочитанного. На сон грядущий я достаю из холодильника бутылочку пива, пытаюсь продолжить чтение, затем ложусь, заложив руки за голову, и в моей голове снова и снова тупо повторяются слова. «Гибралтар – скала, обжитая обезьянами», «Гибралтар – скала, обжитая обезьянами»… Потом я все-таки задремал. Тяжело дыша, в мокром поту, я просыпаюсь, потому что во сне я безуспешно пытался сорвать с лица кислородную маску.
* * *
Я едва заснул. Ночью ветер усилился. Нос корабля врезается в длинную зыбь, идущую из Бискаев, так жестко, что корабль дрожит. Отопление не отключается. Окно, которое можно открыть, я устанавливаю на два витка резьбы шире. Через крошечную щель тотчас же с сильным свистом врывается ветер. Окна кажутся мне странными. Они имеют двойные выступы, за которые западают закрытые гайки.
По пути на завтрак я не тороплюсь. Облокотившись на леерное ограждение, я охватываю взглядом сзади на корме якорную лебедку и вертикально стоящий швартовый шпиль и восхищаюсь их тяжеловесными формами. Затем мой взгляд минует средний клюз и падает на море за кормой: прямая как стрела, гладкая белопенная полоса, проходящая через зыбь, такая же широкая, как сам корабль, которая до самой линии горизонта, сужаясь, остается светлым штрихом на зеленом море.
Скользя взглядом по палубам с их меняющимся освещением на белых надстройках и на тяжелом оборудовании, я снова очарован. Несколько минут я стою, рассматривая накладывающиеся одна на другую картинки, образуемые белым краном на реакторной палубе с его распорками и горизонтом, и странную негативную форму, которую из серого неба вырезает белая надстройка с мостиком.
Когда свободный от вахты первый помощник капитана идет мне навстречу с узлом белья и видит меня, он останавливается и спрашивает, куда я иду. Я быстро отвечаю:
– Только что я видел целую стаю летающих рыб – вон там, прямо за краном!
Если бы это не пришло мне в голову, то первый помощник посчитал бы меня ненормальным. Объяснять ему, насколько импозантным является взаимное расположение форм, попадающих в наше поле зрения, как привлекательно белое на белом кране и кормовой надстройке или черное на белом гигантского запасного якоря, было бы бесполезным делом.
Когда я иду на завтрак, мне навстречу, широко шагая и продолжая жевать, движется шеф. Он выдавливает из себя «доброе утро!» в качестве приветствия и спешит дальше. Он выглядит так, будто у него большие неприятности.
– Что с шефом? – спрашиваю я старика, одиноко сидящего за столом.
– Ничего особенного, – говорит старик. – Сегодня начинается экспериментальная программа гамбургского института кораблестроения, а шефу не нравится, когда кто-то вмешивается, то есть дает ему указания.
На мой вопрос, почему на окнах моей каюты сделаны двойные выступы, старик объясняет, что во время последнего рейса, когда в этой каюте никто не жил, штормом было выдавлено одно окно и долгое время никто не замечал, как через окно проникала вода. Стекло марки «секурит», правда, выдержало, но зато в помещение вдавило всю раму.
– Окна неправильно сделаны, – говорит старик. – В направлении к фордерштевню они не выдерживают давление ветра, поэтому их страхуют только изнутри с помощью металлических пластинок – отсюда второй набор выступов, который кажется тебе таким смешным. Приятного аппетита, – говорит старик, и добавляет: – Я тоже должен идти!
На мостике я слышу, как старик обсуждает с шефом программу гамбургского института:
– Итак, первый помощник со своим персоналом, обслуживающим насосы, должен начать создавать состояние балласта номер один, то есть обеспечить полный балласт. Это можно сделать ночью. До восьми часов утра можно успеть. Это заняло бы двенадцать – четырнадцать часов. Два специалиста по насосам с этим справятся.
Шеф стоит, как памятник. Он тоже ничего не говорит, даже когда старик делает паузу, наверняка задуманную как приглашение ответить. Так как шеф молчит, старику приходится продолжать:
– Для считывания меток нужно вытащить стремянки – везде Так, а теперь переходим к делу, где вы должны сказать свое слово, первый день испытаний дает нам потерю времени, равную примерно шести часам. Я не возражаю. Итак, они… – старик берет листы, которые шеф принес с собой. При чтении он оттопыривает нижнюю губу и продолжает: – Они, следовательно, предусмотрели проведение ряда экспериментов с двумя, тремя, четырьмя, пятью, шестью, семью, восемью маневрами движения. Половину, из них с девяноста оборотами, вторую половину с четырьмя полными. С двухпроцентным изменением нагрузки это ведь можно сделать. Или?
На обращение непосредственно к нему шеф должен ответить. Он произносит длинное «да-а-а-а».
– Ведь мы это уже однажды делали с четырьмя процентами у Гросмана. – Эту фразу старик произносит с вопросительной интонацией, но шеф не говорит ни слова. Зато я ломаю голову, кто же такой этот Гросман.
В разговор вступает третий помощник:
– Если я правильно понял, речь идет о скорости, то есть, как скоро мы перейдем на задний ход?
Наконец шеф говорит:
– Нет, они хотят иметь соразмерные условия.
Голос шефа звучит раздраженно. Он что же – злится, что вмешался третий помощник, или же он выпускает свою злость против, гамбуржцев?
– Так не пойдет! – решительно говорит старик. – Не при этой погоде. Я им уже говорил.
Шеф молча пожимает плечами, что, очевидно, должно означать: «Вот такие они!»
Как я ни напрягался, но все же не мог составить картину того, что же гамбургжцы, собственно говоря, замышляли. Гросман – кто такой Гросман? Спрашивать сейчас я не имею права. Расспросы предосудительны. Лучше я навострю уши, так как старик снова говорит:
– Расчет показывает потерю времени, равную примерно шести часам. Я так рассчитал, что завтра до восьми часов утра мы определим осадку. Это возможно сделать с шести часов. Тогда маневры могли бы осуществляться в течение дня.
Старик произносит свои слова осторожно, почти нерешительно. Он говорит мимо шефа, именно так, как будто произносит монолог с множеством коротких пауз:
– Я рассчитал полчаса на каждый маневр. Кажется, подобное мы всегда делали за двадцать минут. Нам надо учесть и обеденный перерыв. Так как у нас мало людей, я лучше добавлю время и на это. Поэтому я считал время с восьми часов утра до пятнадцати часов, это составляет шесть часов, собственно говоря, семь часов, но, если мы вычтем час на обед, то и будет шесть.
Тут снова наступила пауза. Я удивляюсь старику. За один раз так много как сейчас он говорит редко. А он уже продолжает:
– А здесь я подсчитал, то есть прикинул, как мы при этом продвинемся вперед. Я предполагаю только тридцать миль.
Это снова прозвучало как вопрос. Но кроме старика здесь, очевидно, никто не хочет говорить. Но и старик больше ничего не говорит. Он засовывает руки в карманы брюк и делает на негнущихся ногах, будто у него нет коленок, несколько шагов туда и обратно. Затем он сосредотачивается и говорит:
– И больше ничего, как я полагаю. Таковы, следовательно, эксперименты по маневрированию в первый день испытаний. Маневры с задним ходом и опыт с устойчивостью на курсе при девяноста. Это, я полагаю, вы можете предложить господам.
– Так точно! – только и говорит шеф. Все это время он всем своим видом демонстрировал наполовину равнодушие, наполовину покорность судьбе. Но я могу и ошибаться: на его лице за светлой бородкой вряд ли что-нибудь увидишь, а само его лицо, подобно африканской маске, не выражает ничего. Я только удивляюсь тому, что он все еще не уходит. Очевидно, обсуждение темы еще не завершено. И действительно, старик начинает снова:
– Постоянно фиксировать время. Продолжительность три часа. Тут с моей стороны нет никаких опасений. Я рассчитал до семнадцати часов. А в пятницу – по новой. Так, а теперь о перекачке из балластного режима один в балластный режим два. Примерно здесь… – старик показывает с помощью циркуля точку на морской карте. – Теперь, я полагаю, первый помощник хотел бы перейти к совершенно легкому режиму. Поэтому мы взяли и режим два. Они сказали, что мы должны и так перейти к режиму два, но у нас есть время, потому что, считали они, это пошло бы быстрее, как если бы мы убрали на семи метрах осадки. Это 12 500 тонн балласта, да столько же примерно и там. А мы должны довести до 8500. То есть должны будем удалить 4000 тонн. Для заполнения у нас есть целая ночь, но удаление воды длится дольше из-за перекачки. Прежде всего, мы должны улучшить осадку. Если им для их экспериментов действительно нужен плоский киль, то мы должны… Два мы, естественно, тоже можем сделать, если они этого хотят.
Я перевожу взгляд с одного на другого: театр абсурда. Шеф делает вид, что он думает так же остро, как и старик. Какое-то время никто не говорит ни слова.
– Таким образом, было бы лучше перейти из режима один в режим два, – объявляет теперь старик своего рода заключительный вывод из всех соображений. – Для этого мы предусмотрели время с семнадцати часов пятницы до шести часов утра субботы. Это семь часов плюс шесть. Это, очевидно, будет хорошо.
Теперь, считаю я, шеф наконец должен уйти. Очевидно, только потому, что шеф не трогается с места, старик продолжает литанию:
– Проведение экспериментов ночью бессмысленно. Тогда бы мы ночью до шести часов субботы должны были пройти 120 миль. В целом мы от мыса Венсен прошли 980, тогда до мыса Бланк не хватает 30 миль. Там мы были бы в субботу утром – 15-го, в шесть утра.
«Ну, вот!» – чуть не сорвалось у меня с языка. Но я вовремя остановился.
– Так точно! – снова говорит шеф. И все еще остается стоять руки в боки и уставившись в карту.
Старик вынужден сказать: «Ну тогда – все!», чтобы наконец заставить его двигаться.
«Нервы! – говорю я себе. – Здесь нужны чертовски крепкие нервы!»
К радости детей и старика, голубь все еще на борту. Дети часами сидят рядом с ним и внимательно наблюдают за каждым его движением. Старик радуется тому, что в тамбуре наступила тишина, так как дети, слава богу, больше не играют в мяч в проходах. Только первый помощник капитана открыто демонстрирует свою неприязнь к голубю. Он бросает на голубя косые взгляды.
– Голубь гадит на выступ мостика, – говорит он. – И, кроме того, он может заразить экипаж. Пситтакоз – болезнь попугаев, – заявляет он с важностью и высоко поднятыми бровями.
Мне любопытно знать, как он намерен расправиться с голубем. Во всяком случае, он рисковал бы при этом навлечь на себя вражду детей и гнев матерей. А гнева матерей я бы на его месте по меньшей мере поостерегся.
Очевидно для того, чтобы еще раз успокоить меня, во время обеда шеф передает мне, с неким намеком на расшаркивание, счетчик Гейгера, упакованный в пластмассовый пакет. Счетчик носят на шее все члены экипажа, посещающие зону реактора на корабле. Тот, кто получил дозу облучения более пяти БЭРов, [20]20
Биологический рентген-эквивалент – (Прим. перев.).
[Закрыть]не имеет права посещения реактора до конца года.
Во время обеда эксперимент ученых из Гамбурга является темой разговоров почти за всеми столами и во всех подробностях. Но есть кроме долгоиграющей темы «Где инструкция Кернера по эксплуатации новой аппаратуры?» еще одна тема: одна из новеньких стюардесс настолько маленькая, что не может достать установленные на полках чашки. Достаточно ли будет подставить ей ящик? Или нужно сделать для нее специальную приступку? Этот вопрос вызывает в столовой бесконечные дискуссии.
Старик, который не первый раз слышит эти дискуссии за соседним столом, делает мину, показывающую, насколько это ему противно. Я не обращаю на это внимание и спрашиваю:
– Что это, собственно говоря, за девушки, которых нанимают на этот пароход?
– Самые разные, – отвечает старик и после некоторого колебания продолжает: – У нас уже были студентки, потерявшие работу, – всякие. Ты же сам во время первого рейса познакомился с блестящим цветком – что же ты спрашиваешь?
– Ты имеешь в виду добрую Лонго?
Вместо ответа старик задумался. Я уже хотел спросить его, что стало с Лонго, но он сказал сам:
– Под конец она не так много делала, точнее говоря – совсем ничего. Она обожгла ноги.
– Обожгла ноги? Как так?
– Очень просто, в плавательном бассейне, этом лягушатнике. Лонго купалась очень охотно, но плавать не любила. И наступила на нагревательный прибор.
– И обожгла ноги?
– И обожгла ноги. Это случилось потому, что у нее путь от ног до головы был очень длинным и «звоночек» наверху прозвучал слишком поздно. Отсюда и имя. После этого мы обшили это место куском асбеста.
– Ноги?
– Чушь! – говорит старик, не сумевший, несмотря на все старания, скрыть усмешку.
Чтобы поддержать хорошее настроение старика, я говорю:
– Главный стюарт имеет в запасе вино «Старое Клико». Не годится ли оно для того, чтобы отметить мою «прописку» на корабле?
Старик считает, что шампанское для этого слишком дорого. Он говорит это так, будто речь идет о его деньгах, а не о моих.
– Об этом я еще подумаю, – говорит он задумчиво. – Нужно решить, кого пригласить. Ты, наверное, подумал только об офицерах? Ладно, я еще подумаю.
– Только не слишком торопись! – говорю я старику, не скрывая насмешку. Я знаю: на борту с новыми проблемами надо обращаться нежно. Решать их в один присест было бы равнозначно святотатству. День – длинный, а морской поход – длиннее. Раньше старик тратил дни, чтобы решить, как по возможности эффективно использовать двадцать четыре бутылки пива, выигранные на пари.
Наконец я замечаю, что нерешительность старика имеет более глубокую причину. Новые проблемы создает демократизация на борту. Раньше в кают-компании мы без всяких церемоний палили бы пробками в потолок. А теперь? Теперь кают-компании не существует. Теперь у нас своего рода заводская столовая и добрый совет относительно вечеринки для «прописки» подорожал. Я сгораю от любопытства, что же предложит старик. Для начала он сидит, слегка согнувшись, и делает несчастное лицо. Я мог бы усилить его досаду, начав ругать новые обычаи, – но зачем? Вместо этого я спрашиваю:








