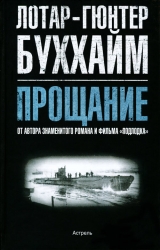
Текст книги "Прощание"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Лотар-Гюнтер Буххайм
ПРОЩАНИЕ
«Многие, а точнее большинство изделий современной цивилизации, являются при поверхностном рассмотрении безобразными чудовищами, но мы с полным правом не допускаем присвоения им ранга чудовищ. Самый глупый крестьянин на самой удаленной сельской дороге уделит больше внимания какой-нибудь пегой лошади, чем двадцати междугородним автобусам. А когда-то казавшаяся такой современной детская игра в восхищение научным прогрессом совершенно устарела, потому что наука надела семимильные сапоги и перескочила горизонт дилетантизма. Во всяком случае, все мы стали слишком самонадеянными, чтобы позволить „застукать“ себя в положении дикарей, разинувших рот от созерцания граммофона. Очень мало достойного внимания осталось под солнцем: „достойное внимания“ я понимаю в том смысле, который включает в себя благоговение.»
Петер Флеминг
Для Дитти, которая прикрывала мои тылы.
Небо над Роттердамом серое-пресерое. Такси проезжает под рекой Маас, затем вдоль гигантской контейнерной гавани и, наконец, мимо нефтеперегонного завода, о котором говорят, что он крупнейший в мире. Дистилляционные установки – чистый футуризм. После этого мы принимаем парад черных бензовозов фирмы «ЭССО». Затем, будто для разнообразия, следуют бензовозы зеленого цвета, потом серого, затем белого. И все новые дистилляционные башни. За дистилляционными башнями – ажурные контуры кранов. Если смотреть сверху, то территория, которую за полосой дождя я воспринимаю лишь в сокращенной перспективе, должна простираться неизмеримо далеко.
За кранами – зерноподъемники, похожие на сложенные ноги насекомых. Всплывают все более диковинные формы: серые шарообразные емкости углеперерабатывающей фабрики, гигантские воронки для цементных отходов, монументальные угловатые установки для сжигания мусора, шпангоуты полу-возведенных складских помещений, имеющие форму полукольца.
Дальше путь вдет через подъемный мост в направлении «Ботлека», бассейна этой гигантской гавани, в которой стоит у причала НС «Отто Ган». «НС» означает «Nuklearsciff», то есть «атомоход». Это название во всем мире носит один-единственный корабль – «Отто Ган», притом что с виду – это вполне обычный пароход, необычная у него только энергетическая установка.
Мы поплывем в Дурбан, straight ahead, то есть прямо к южной оконечности Африки, а затем и вокруг этой оконечности. И никакой остановки в пути. Так что это путешествие длительное, а для старика и последнее. Старику шестьдесят шесть, он плавает с молодых лет. На войне он был командиром моей подводной лодки, одним из асов-подводников, отмеченных высшими наградами.
Итак, Дурбан в Южной Африке; еще часть пути – за мысом, мысом Доброй Надежды. К кораблю надежда никакого отношения не имеет. Корабль скоро спишут.
Когда несколько лет назад я плавал на этом корабле, он был еще «летучим голландцем». Ему не разрешалось заходить в порты. В судовом журнале я прочитал курьезную запись: «Из Бремерхафена в Бремерхафен мимо Азорских островов».
В тот раз я захватил из дома документы, чтобы работать. Это было грубой ошибкой. На этот раз я просто хочу выспросить старика, причем основательно – времени у меня будет достаточно.
Это мое второе путешествие на корабле с атомным двигателем.
«Первое путешествие было приятным, о Джонни!
Второе путешествие было неприятным, о Джонни!»
Эти слова звучат у меня в голове. Надеюсь, что все будет не так…
После моего первого рейса прощание со стариком было печальным. Оно и не могло не быть печальным. Зима. Плохая погода. Все, что только можно было, шло наперекосяк.
Это будет мое второе путешествие на корабле «Отто Ган». В конце первого старик показал мне на морской карте, к какому причалу в Бремерхафене должен был быть отбуксирован наш корабль. Это могло продолжаться целую вечность: через шлюз, а затем через несколько портовых бассейнов.
«Здесь можно только с ахтерштевня, – сказал тогда старик и, как будто угадав, о чем я думаю, добавил: – От шлюза до причальной стенки – не меньше двух часов».
При этом меня волновала только одна мысль: быстрее уйти с корабля!
Но после швартовки об этом нельзя было и думать. Я запер свою каюту и болтался на верхней палубе, так как у старика для настоящего прощания еще не было времени.
И тут на пирсе показался небольшой автомобиль семафорно-красного цвета: жена капитана. Так как никому до нее не было дела, я помог ей подняться по узкой крутой лестнице и дальше к каюте старика. Слегка запыхавшись, я объяснил ей, что в кают-компании полно чинов из пароходства. Там и водная полиция, и портовый врач, и даже не знаю, кто еще.
Все это снова проходит перед моими глазами, как будто это было только вчера.
– А ведь это может затянуться на несколько часов, – слышу я голос жены капитана.
Мешать совещанию в кают-компании она не хочет, поэтому мы удобно устраиваемся в зеленых креслах капитанской каюты.
– Я знаю, где здесь виски, – говорю я и вытаскиваю бутылочку из корзины для бумаг, стоящей рядом с письменным столом.
Пока я достаю рюмки и лед, жена капитана тарахтит без умолку. Я делаю вид, что слушаю ее внимательно, но думаю о своем. Несмотря на это, в потоке ее слов я снова и снова слышу слово «атмосфера»: «восхитительная атмосфера», «волшебная атмосфера», «в этом столько атмосферы».
Когда в руке у нее оказывается рюмка с виски, дама говорит:
– А вы все еще собираетесь писать о войне подводных лодок? Я этого не понимаю. Кого это сегодня интересует? Это было так давно.
Преисполненный вежливости, я подтверждаю:
– Да, я бы сказал, что это вчерашний снег.
После третьей рюмки она разоткровенничалась. Я узнаю, что после войны старик ходил штурманом на каботажном судне, принадлежавшем ее отцу, вдоль аргентинского побережья от гавани к гавани и всегда со всей семьей на борту.
Капитанская жена манерно поднимает свою рюмку, при этом на ее лице появляется улыбка. Она пьет виски, выпячивая губы, как Брижит Бардо, и на какой-то момент высовывает кончик красного языка.
– А уже через несколько недель была свадьба, – говорит она голосом, не оставляющим сомнения, что возражений она не любит, и продолжает рассказ о том, как она обходилась со стариком на борту.
В середине исповеди капитанской женушки в каюту вваливается коренастый мужчина средних лет в черном костюме экстра-класса, представившийся Шрадером, судовым агентом.
Напомаженные волосы господина Шрадера зачесаны назад. Несколько метров от перегородки он преодолел, почти пританцовывая. Теперь он мешком валится в третье кресло, откидывается в нем и вытягивает вперед ноги.
У жены капитана перехватывает дыхание: отчетливо видно, как у него в штанах выпирает член.
Я предлагаю господину Шрадеру виски, но господин Шрадер отказывается, ему больше нельзя пить, – при этом он подмигивает мне – он уже достаточно пропустил за воротник. Тут же следует объяснение:
– Дело в том, что я похоронил друга.
Это объясняет, почему на господине Шрадере черный костюм и черный галстук.
– Тридцать пять лет – рак! – информирует нас господин Шрадер приглушенным голосом.
– Всего тридцать пять лет? – спрашивает жена капитана. – И уже рак?
Господин Шрадер переводит на нее твердый взгляд и говорит с горечью в голосе:
– Да. Рак яичников!
После этого наконец наступает тишина.
Жена капитана в замешательстве. Потом она нерешительно спрашивает:
– Да разве такое бывает?
– Да! – отвечает господин Шрадер, и лицо его становится смертельно-серьезным.
Теперь мы сидим молча. Господин Шрадер уставился перед собой остекленевшим взглядом, жена капитана наконец медленно поворачивается ко мне всем телом.
Я знаю, что теперь моя очередь что-то сказать, но только – что? Как я могу придать этому разговору оптимистическую окраску? Господин Шрадер поджимает губы, потом неожиданно открывает рот, так что глухо щелкают зубы, сухо сглатывает и облизывает языком верхнюю губу. Пальцами сначала левой, а потом правой руки он выбивает на подлокотнике дробь и в конце концов оседает в кресле. Меня бы не удивило, если бы теперь он распустил узел своего черного галстука.
С каким удовольствием взял бы я эту вонючку за воротник, вытащил из кресла и выпроводил из каюты, дав пинка под зад.
Но я лишь говорю:
– Плохо, господин Шрадер.
Господин Шрадер переводит на меня мутные глаза Сейчас заплачет, думаю я и быстро говорю:
– Но вы-то живы!
Погруженный в раздумья, господин Шрадер кивает и отвечает:
– Тут вы, собственно говоря, правы!
После этого он берет бутылку и наливает себе большую рюмку.
– Содовую? – спрашиваю я.
– Нет! – решительно отвечает господин Шрадер и опрокидывает виски глубоко в глотку, откинув голову назад.
Постепенно подошло мое время, но старик все еще был занят в кают-компании. Очевидно, его посетители удобно устроились. Не может же он просто встать и исчезнуть. Мне на ум приходит одна хитрость. Из машбюро я звоню в кают-компанию:
– Говорит директор департамента охраны труда при сенате ганзейского города Бремена.
Этим я высвобождаю старика на несколько минут для прощания.
– Будь здоров! Не поддавайся! И чтоб у тебя мачта и стеньга сломались! (Что означает: ни пуха, ни пера! У штатских немцев, не у моряков, это пожелание выглядит более сурово: «Чтобы ты сломал шею и ногу!» – Прим. перев.)Хочется скорее увидеться!
А затем лазание по трапу до площадки. Сначала по ступенькам недавно сколоченного помоста, затем через американский понтон и по доске, проложенной через грязь. Добравшись до поджидающего автомобиля, я оглянулся назад. Никогда еще я не находился так близко от корабля, не имея возможности охватить его одним взглядом. Мне пришлось поворачивать голову и переводить взгляд с носовой части на корму.
Боже мой, каким же громадным он мне вдруг показался! Намного большим, чем во время моего нахождения на борту. Как он возвышается над причальными сваями. Еще раз я оглядел его своеобразный силуэт: две мощные надстройки вместо одной.
Никого не видно. Покинутый корабль. Ни одного человека, кому можно было бы помахать рукой.
От воды поднимался белесый туман. Настроение как на Северном вокзале, набережная Кэ Брюм, умиротворяющее спокойствие, только слышен теряющийся вдали стрекот клепальных молотков.
…Я прошу остановиться. Водителю такси я наверняка кажусь странным. Я хочу сделать снимок. Действительно хочу? Или же стремлюсь немножко оттянуть момент встречи со стариком?
За окном такси проносятся алюминиевые корпуса фабрик, бесконечная вереница окрашенных в белое емкостей, тонкие черные мачты с оранжевым пламенем наверху. Сжигают попутный газ. Чайки летают низко над цепочкой факелов. Выглядит так, будто они держат экзамен на смелость.
Все новые, окрашенные в черный и белый цвет перегонные установки, «раффинадерии», как их называют по-голландски. Это слово, которое буквально лезет в глаза, я добавлю к моему небольшому запасу голландских слов.
Все как обычно. Сроки сдвинулись. Корабль должен был прийти 6 июля, а 7 июля выйти в море. Сегодня уже 8 июля. Но дули северо-западные штормовые ветры, – редкость для этого времени года, – так что корабль возвратился не с обычной скоростью в пятнадцать узлов.
До полуночи – я это знаю – корабль «Отто Ган» в море не выйдет. А сейчас даже еще не вечер.
Почему я вообще хочу попасть на этот проклятый корабль? Чтобы вырваться из повседневной рутины? Что ж, это возможное объяснение. Из-за старой привязанности к старику? Еще одно объяснение. Но за этим наверняка стоит что-то большее.
Старик и я, мы хотим поостеречься и не сделать из этого рейса сентиментальное путешествие.
У меня есть прекрасное издание книги Лоуренса Штерна «Сентиментальное путешествие». Заголовок «Волнительное путешествие» для немецкого издания посоветовал переводчику Лессинг. «Волнительное» – согласен.
Когда я первый раз услышал о Дурбане, то сразу и не сообразил, где он находится. Теперь же я поплыву туда, больше трех недель туда и столько же обратно. Вместе со стоянками в порту это займет не меньше семи недель. За такую длительную отлучку от повседневных дел я считаю себя обязанным отчитаться перед тем моим ангелом, который считает оставшиеся дни моей жизни. Эту морскую поездку я прописал себе как своего рода пребывание в санатории. Прозвучавший приказ «Отключиться!» превратил половинчатое решение в законченное путешествие.
Но было и что-то другое. Во время последнего путешествия я буквально на полпути прервал свои расспросы старика и знакомство с кораблем: посреди Атлантики, между Бремерхафеном и Канарскими островами корабль повернул назад, выполнив, как мне сказали, маневр Вильямса, хотя сам я особенности этого маневра не понял.
На этот раз у корабля есть порт назначения. Это может звучать как что-то само собой разумеющееся, но тогда его не было, и настроение на борту было соответственно скверным.
Мое самое большое упущение во время первого путешествия на корабле «Отто Ган»: я в недостаточной степени разобрался с его двигательной установкой, с так называемым «прогрессивным ядерным реактором, охлаждаемым водой под давлением». Путешествие было слишком коротким. Слушая, как корабельный физик, которого все называли «исследователем», и шеф, вели между собой профессиональные разговоры, я чувствовал себя беспомощным учеником-подготовишкой.
Когда в 1937 году я окончил среднюю школу, о расщеплении атомного ядра не было и речи. Лишь в 1938 году Отто Ган [1]1
В немецкой транскрипции Отто Хан. Хан означает петух, что в дальнейшем будет обыграно автором. (Прим. перев.)
[Закрыть]вместе со своим сотрудником Фрицем Штрасманом открыл деление ядер урана и тория. На этот раз я уже был начитан и чувствовал себя в некоторой степени подготовленным.
Я с нетерпением ожидаю, кто из старой команды отправится в путешествие. Боцман был чудаком. Несмотря на волнение на море, он укрепил на верхней палубе настольную дисковую пилу и распиливал на ней крышки от ящиков. При виде этого мне стало плохо: сразу представлялось как за борт скатываются окровавленные пальцы. Работать с дисковой пилой при таком волнении на море – это уже слишком.
Позднее боцман с нескрываемой гордостью показал мне пять больших мешков, которые он прикрепил за люком: «Это все дрова. Вот мамочка порадуется. Хватит на всю следующую зиму. Мне они, знаете ли, нужны для растопки».
Я показал ему тыльную сторону моего левого кулака, выставив вверх большой палец, указательный и мизинец: «Отгадайте-ка, боцман, что это означает!» Я не стал мучить его дальше: «Заказ пива для владельца лесопилки: пять кружек пива!»
Боцман сразу же уловил шутку. Хороший человек, осмотрительный, быстро соображающий, заботливый отец семейства. Что еще человеку нужно? На верхней палубе он также закрепил несколько пустых бочек. Они ни для чего не были предназначены. Они были пищей для ржавчины. «Так что, ржавчина, можешь кушать», – слышал я его бормотание.
Настоящие горные цепи из черно-коричневой железной руды тянутся перед глазами. Дорога поворачивает налево и, наконец, открывается вид на гавань. Теперь мы едем вдоль отвалов железной руды. На другой стороне – окрашенные в красный цвет сурикового оттенка корпуса кораблей за паутиной кранов.
Затем следует еще один ужасный участок дороги: сплошь в глубоких выбоинах; такое ощущение, будто сидишь на верблюде, а не в голландском такси.
Между стремящимися навстречу друг другу склонами двух мощнейших угольных отвалов стоит, как мушка в гигантском прицеле, дымовая труба парохода! Забавная картинка, у которой я снова прошу остановиться. Марка пароходной компании – ХАПАГ.
Я делаю несколько шагов в том направлении, чтобы дымовая труба получилась крупнее, и тут замечаю, что пароход за угольным отвалом – это «Отто Ган». Во всей этой серости, черноте и ржавой коричневости – белый как очищенное яичко: только подойдя совсем близко, я замечаю несколько грязных следов, оставшихся после разгрузки. Старик написал мне, что кораблю «Отто Ган» натянули на дымовую трубу «носки в поперечную полоску» – знак пароходства ХАПАГ – вместо старой желто-голубой маркировки с фирменным знаком атомного ядра. Желтый носок с черно-бело-красными поперечными полосками означает: теперь корабль принадлежит пароходству ХАПАГ.
Два автомобиля одиноко стоят под краном на пирсе. Не видно ни одного человека. Это естественно – суббота.
И тут я обнаруживаю старика! С распростертыми руками он стоит высоко надо мной в конце трапа. Уже послали матроса забрать мой багаж.
– Наконец-то ты здесь! Что случилось?
– С полетом в Амстердам ничего не вышло. Один рейс выпал. Я хотел появиться здесь раньше.
Обмен изучающими взглядами. Здоров ли старик? На его место назначен один инженер. Старик не знал, сможет ли он совершить еще один рейс. Во время многонедельного стояния у берегов Анголы в условиях тропической жары он подцепил туберкулез легких, который чуть не свел его в могилу. Хотя корабельный врач и окончил курсы по защите от радиоактивного облучения, определить простой туберкулез он оказался не в состоянии. Это плохо кончилось для старика: операция и целый год в больнице, чтобы излечить запущенную болезнь.
Собственно, теперь он не настоящий капитан корабля. Теперь старик выступает в качестве человека, замещающего капитана, находящегося в отпуске.
Людей почти не видно. От старика я узнаю, что большую часть экипажа меняют. Прежний персонал уже покинул корабль, автобус с новичками прибудет из Гамбурга. Он уже давно должен быть на месте.
Все люки снова задраены. Корабль разгружен: куча железной руды теперь лежит гигантскими горными отвалами на берегу рядом с кораблем. Трудно представить себе, что все это весит 12 500 тонн.
Ко мне подходит какой-то услужливый тип:
– Ваш багаж уже в вашей каюте. В каюте судовладельца.
Во время моего первого рейса я жил в надстройке над мостиком. До столовой, которая находится в кормовой надстройке, долгий вынужденный путь; чтобы успеть поесть, приходилось бегать. Я не имел ничего против навязанных физических упражнений перед и после трапезы, однако на холоде, во время дождя и шторма это было обременительно.
В каюте судовладельца в кормовой надстройке я нахожусь вблизи от пунктов питания. По телефону старик отсоветовал мне занимать каюту в надстройке над мостиком: теперь там гудит холодильник в кладовке, расположенной рядом. Кроме того, новый капитан купил пять стиральных машин и одну из них установил прямо перед моей бывшей каютой – вместе с центрифугой для сушки. Выдержать такой шум вряд ли возможно. В каюте судовладельца я пользуюсь привилегиями, превосходящими все возможное.
Хорошо, тогда сначала осмотрим каюту. Предназначенное мне жилье – настоящая анфилада роскошных помещений со спальней и жилой комнатой – мне не нравится. Здесь можно было бы разместить большую семью. Эта роскошь для меня значила ровно столько, сколько и роскошь навороченных гостиничных номеров: что это мне дает, когда я в темноте лежу в койке? В течение дня я все время буду на ногах с фотокамерой в руках.
Есть и холодильник. Но в нем ничего нет.
Я не даю себе времени для того, чтобы аккуратно разложить свои вещи. Своеобразное напряжение не дает мне покоя. Как всегда перед отъездом: прежде чем мы отчалим, я хочу еще раз позвонить. Единственный телефон с выходом на берег, пользоваться которым разрешается только старику и шефу, подключен к пульту управления. Старик предупредил шефа. Так как я был невнимательным, то на пути к пульту управления заблудился, хотя здесь я должен был бы хорошо ориентироваться: открыть дверь – прикрыть дверь – подняться наверх – продольный проход – открыть новую дверь. Этот корабль представляет собой особенно сложный лабиринт – горизонтальный и вертикальный одновременно.
Наконец я нахожу дверь с табличкой «Осторожно, сильный шум машин!». Чтобы открыть ее, преодолевая сопротивление воздушного потока, требуются усилия. Маслянисто-теплые испарения бьют мне в лицо. Слышен только приглушенный шум машин, идущий снизу. Мой взгляд проникает вниз через напольную решетку – как через несколько слоев паутины – в самую глубину корабля. Там между плотно перевязанными трубами теснятся турбины низкого и высокого давления, а рядом с ними двигательная установка.
Глубокий вздох: я чувствую себя снова как дома. Рядом со мной проходит крановая балка, ведущая в шахту машинного отделения. Эта шахта проходит насквозь: вниз до самого киля корабля и наверх до трубной палубы; почти на тридцать метров в глубину ведут короткие блестящие металлические лестницы, напоминающие пожарные лестницы на американских домах.
Я спускаюсь по ступенькам, как раз на галерею, нахожу другую металлическую лестницу. На каждой площадке поражают новые перспективы, новые формы и переходы форм. Машинный собор, приходит мне в голову. Но это нераскачивающиеся строительные леса австрийского поэта Рильке, здесь все точно выверено, сварено или закреплено с помощью заклепок.
Охотнее всего я бы присел и целиком вобрал в себя настроение этого гигантского машинного зала, но на пульте управления меня ждет шеф – ведущий инженер.
Будто производимый тысячей пчелиных роев, гул становится тем громче, чем глубже я спускаюсь. Желтый свет падает из ряда окон, расположенных наискось надо мной. Своего рода веранда висит на половинной высоте. За стеклом горят красные сигнальные неоновые лампы. Это пульт управления. Мне надо снова карабкаться наверх.
Когда я открываю дверь в помещение пульта управления, меня встречает приятная прохлада. Ощущение, будто из шумного цеха я попадаю прямо в операционный зал клиники.
– С новым шефом, Борнеманом, ты поладишь – он в порядке, – сказал мне старик.
– Шеф идет мне навстречу, протягивает руку и, не тратя время на пустые приветствия, спрашивает: «Вы знаете нашего капитана?»
– Это не первое путешествие, которое я совершаю с ним вместе.
– Я имею в виду более длительное время – до того, как вы ходили на этом пароходе, – настаивает шеф.
Шеф не отводит от меня взгляд. Мне не удается увильнуть.
– Да, только тогда у корабля было водоизмещение только в шестьсот пятьдесят тонн и назывался он «Семь Ц».
И тут шеф сияет и говорит:
– Я так и знал! Наш капитан был командиром подводной лодки.
– Угадали!
– И радиус действия был недурен, – говорит шеф.
– Да и мореходные качества не хуже, – отвечаю я. – Когда можно просто задраить люк, то в этом тоже есть свои преимущества!
Шеф не догадывается, насколько важно для меня его любопытство. Он уже совершил три рейса со стариком в качестве капитана этого судна и, несмотря на это, ничего не знает о его военном прошлом. Старик никогда ничем не делился. Шеф моего первого рейса также не имел представления об этом.
Теперь мне самому кажется странным, что я получал от старика весточки с интервалом в несколько лет. Каждый раз на открытках. Первая открытка поступила из Лас Пальмас поздней осенью 1949 года. Я глазам своим не поверил. Лас Пальмас на Больших Канарских островах! И там было написано: «С начала сентября – капитан парусной яхты» и еще: «Экипаж – четыре человека. Из документов имеем только идентификационные карты. Порт назначения Буэнос-Айрес. Там, по всей вероятности, наймусь на пароход. В благоприятном случае пойду на китобое в Антарктиду».
– Мне как раз надо в помещение с усилительной аппаратурой, – говорит шеф, и это звучит как приглашение следовать за ним.
Я неуклюже ковыляю следом. В помещении для усилительной аппаратуры на корточках сидит один из ассистентов и считывает показания со шкал приборов. Показания эти он фиксирует в черновой тетради, лежащей у него на коленях. Увидев шефа, ассистент поднимается, и несколько минут они говорят друг с другом на своем техническом жаргоне. Наконец шеф поворачивается ко мне и объясняет как экскурсовод:
– Здесь размещена аппаратура инструментального управления ядерными процессами.
Я киваю и спрашиваю:
– Что такое инструментальное управление процессами?
Шеф поглаживает свою светлую бородку, как будто это помогает ему обдумать ответ:
– В двух словах об этом не расскажешь. Как-нибудь позднее.
Оказавшись в помещении, шеф занимает место за пультом управления.
– Отсюда управляют всем: реактором, турбинами, всеми вспомогательными контурами. А здесь, – шеф показывает рукой за спину, – появляется вся телеметрическая информация, даже та, которая показывает работу главных и вспомогательных машин.
– Сердце корабля? – говорю я.
– Нет. Скорее мозг машины.
Вот я и получил по заслугам. Я оглядываюсь вокруг: вращающееся кресло позволяет мне поворачиваться на 360 градусов. Стена выглядит, будто оклеена высоко расположенными рисунками из популярной настольной игры «Mensch-ärgere-dich-nicht» (буквально: «Не лезь в бутылку!» или «Не горячись!»).
Мне это напоминает телерепортажи из Хьюстона в Техасе. Сосредоточенные взгляды, направленные на мониторы, электрические схемы на стенах, атмосфера клиники: все выглядит, как в космическом полете. Здесь можно было бы снимать сцены научно-фантастического фильма, говорю я себе и тут же решаю попробовать повторить экскурсию сюда. Вслух же я говорю: «Выглядит как научная фантастика».
За это шеф удостаивает меня взглядом, в котором сквозит сомнение. Такие представления он, очевидно, не любит. Для него все здесь нормально. Это его совершенно реальный мир. В его глазах тот, кто не ощущает себя здесь как дома, вероятно, «чокнутый».
Выставленными вперед руками он опирается на пульт управления. Я замечаю, что, следя за контрольными лампочками, он наблюдает и за мной. Постараюсь не обидеть его еще раз. Я хочу не только удивляться, как во время первого рейса, я хочу разобраться в работе всех устройств. Но прежде всего я хочу попасть в камеру безопасности. Только из-за одного этого мне придется установить хорошие отношения с «чифом».
И тут же решаю закинуть удочку:
– Если вы в ближайшее время будете что-либо делать в камере безопасности, то я охотно присутствовал бы при этом. В прошлый раз мне это не удалось. Так что мне не хватает нескольких снимков.
Шеф смотрит на меня своими большими глазами. Даже положение его рук не меняется.
– Да! – говорит он наконец коротко. – Я сообщу вам об этом – только при условии, что капитан согласен.
– Лучше всего, если вы спросите его именно сегодня вечером.
Когда я как раз хочу сказать: «Я пришел-то, собственно говоря, для того, чтобы воспользоваться вашим телефоном», шеф спрашивает: «А какой у вас номер?».
Шеф заказывает разговор на свое имя и говорит:
– Казначей запишет это на ваш счет.
– Казначей? – спрашиваю я. – У нас здесь была своя кассирша.
– Ее уже нет на борту, – говорит шеф и добавляет странное, многозначительно звучащее «к сожалению».
В ожидании ответа я осматриваюсь. Над пультом управления в прямоугольнике надпись: «реактор в работе». Слева и справа от нее схемы. Рядом много круглых полей со шкалами, зеленые и красные квадраты, между ними проводка. Пост централизации? Кабина пилота? Современное искусство?
На мониторе я вижу дверь к пункту управления снаружи. Это помещение является здесь защищенной зоной. Я читаю пластмассовые таблички под желтыми шкалами на огромном пульте управления: «Вентиль – Полная нагрузка», «Регулятор – первичное давление», «Поток нейтронов», «Контрольный стержень, 1-я коррекция», «Контрольный стержень, 2-я коррекция», «Контрольный стержень, 3-я коррекция», «Контрольный стержень, 4-я коррекция», «Контрольный стержень 1 2 3 4, группа А», «Контрольный стержень 5678, группа Б», «Контрольный стержень 9 10 11 12, группа Ц», «Контрольные стержни 1 до 12. Пробный режим».
Относящиеся к ним переключатели стоят на «нуле». Их можно переключить в позиции «опустить» или «поднять». Под другими шкалами стоят подписи: «Загрузочный вентиль для контура водяного питания», «Малая нагрузка число оборотов Р2 СС», «Контур водяного питания. Полная нагрузка».
Реактор работает, как я вижу на манометре, в режиме «гостиничной нагрузки».
Настоящий капитан, Молден, которого старик замещает в этом рейсе, находится еще на борту. Во время бесконечных разговоров в капитанской каюте, в процессе передачи обязанностей, я слушаю то, что им надо сказать друг другу. Массивный человек Молден, кажется, никогда не поддается унынию. В ходе беседы он постоянно прерывает свою речь громогласным смехом. На старика это действует заразительно. Никогда раньше я не видел, чтобы он так много смеялся. Каждому входящему невольно казалось, что он попал на веселую попойку. Возможно, Молден и в самом деле уже изрядно заложил за воротник.
– Фрицы из HSVA (Гамбургского экспериментального института кораблестроения – ГЭИК) получили в свое распоряжение время, которое они просили выделить для своих «петлевых маневров», – говорит он.
– Начиная от Бискайского залива?
Я сразу же почувствовал себя беспомощным дилетантом среди профессионалов. Петлевые маневры? Никогда не слышал о петлевых маневрах. И о Гамбургском экспериментальном институте кораблестроения тоже не слышал.
– Да, начиная от Бискайского залива! Заявлено совершенно ясно: любая поддержка, не выходящая за рамки обычного, означает – никаких аварийных остановок (crash-stops) или аварийных маневров на пути туда и обратно, а также никаких маневров на мелководье, по которым я наложил вето. Если во время плавания выполнять маневры на мелководье, то корабль испытает слишком много вибраций.
– Они что, действительно хотят включить и мелководье? – спрашивает старик.
– Да. Мелководье во время этого рейса, возможно, встретится только южнее мыса Бланка, но там большое движение – слишком много рыбаков. Так что это отпало. Теперь они довольны тем, что получили согласие на просто спокойную воду. Я полагаю: лучше всего южнее островов Неккермана.
Эту реплику я по крайней мере могу себе объяснить: Острова Неккермана – это могут быть только Канарские острова.
– Начать мы должны уже там? Думаю, это необходимо делать по ходу движения корабля, чтобы не терять время?
– Нет. Это продлится примерно два дня. Сорок восемь часов все-таки придется потратить. До Дакара, я бы сказал, восемь дней плюс два дня для испытаний, итого десять дней, – говорит Молден.
Я сижу здесь и поражаюсь этой программе. Я не хочу мешать своими вопросами. Лучше подождать, чтобы позднее выспросить старика. А пока надо просто слушать.
– Таким образом восемнадцатого-девятнадцатого – Дакар. Людишки из Гамбургского экспериментального института кораблестроения, вероятно, хотят устроить с прибытием в Дакар по возможности так, чтобы как раз не попасть на самолет, – говорит Молден, громко смеется и продолжает: – Следующий вылетает только через два дня. На это уже дано благословение.
Это можно сделать вам, только нужно, пожалуй, связаться с агентством. Телеграфный адрес, телефон – все имеется.
– Дакар разрешил высадку? Можем ли мы войти в территориальные воды? Подберут ли людей на рейде?
– Да, на рейде. Уже дано благословение, – говорит Молден снова, – единственное – это двадцатидневное предуведомление для Дурбана. Вам потребуется соответственно двадцать один или двадцать два дня, чтобы спуститься туда из-за задержки. Двадцатидневное предуведомление должно быть передано с борта на фирму «Африкен коулинг».








