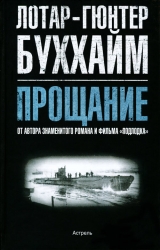
Текст книги "Прощание"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
– Что по тебе и было явно видно.
– Все это ведь было слишком, – как это лучше сказать, – слишком утрированным, слишком бросающимся в глаза. Но почему именно теперь ты заговорил о Виго?
– Да так, – говорю я, так как не могу же я сказать старику, о чем я снова и снова думал в последние дни: тогда в Виго я настроился на прощание навсегда, а затем и этого ничего не вышло. А если и на этот раз ничего из этого не выйдет? У нас уже есть некоторый опыт прощания. Позднее, в Бресте, мы оба были уверены, что никогда больше не увидимся.
– Я пойду еще раз на мостик, – старик возвращает меня, погруженного в свои мысли, к действительности. – Идешь со мной?
Я киваю, и оба мы поднимаемся по лестнице.
* * *
Большое движение кораблей вокруг нас. Ничего удивительного – мы вблизи от Капштадта. По левому борту у нас попутчик – большой контейнеровоз.
– Это контейнеровоз третьего поколения, – говорит мне второй штурман, – вероятно, 55 000 тонн или больше.
Море цвета глубокого индиго. Вплотную к горизонту висят плоские, далеко растянутые косматые облака. Они смотрятся как оптические искажения, одно из которых можно найти на картине Хольбейна «Посланники». Я пытаюсь, держа голову наклоненной, разглядеть «оригинальную форму» картины из облаков, возникшую в результате предполагаемого искажения. Так с наклоненной головой я действительно обнаруживаю в скоплении облаков лица и фигуры.
Теперь корабль идет легко, так далеко протянувшаяся зыбь принимает нас под углом в тридцать градусов.
Я возьму книгу, усядусь на шлюпочной палубе на солнце, хотя бы для того, чтобы создать противовес суетливости первого помощника, который со все новыми списками носится с носа на корму и с кормы на нос корабля и выглядит недовольным. Очевидно, его очень мучит то, что он не получил ясных указаний «относительно укладки бумаги в проходах во время стоянки в порту'».
По правому борту появляется паровое рыболовное судно, стоящее на месте. «Кейптаун», читаю я на его корме. Корабль с кормовым тралением, над которым кружат сотни чаек. Вероятно, сейчас как раз происходит подъем сети.
Согласно последним определениям нашей позиции, мы не сможем выдержать наш курс 143 градуса до самого мыса, а должны будем перейти на курс 147 градусов. Расхождение курсов меня не удивляет: корабль никогда не ведут против течения. Завтра утром, в один час двадцать, мы будем стоять перед мысом. Затем путь пройдет по курсу 112 градусов. Я перебираюсь в штурманскую рубку и рассматриваю на морской карте мыс – «Мыс Доброй Надежды».
– О надежде какого рода идет речь? – спрашиваю я старика, который заглядывает мне через плечо. – Угольный пирс Дурбана – единственная цель после этого длительного похода?
– Мы объезжаем мыс, так сказать, неправильно, – заявляет старик. – Название мыса придумали путешественники в Индию. При возвращении они действительно воспринимали его как мыс доброй надежды.
– Не так как мы, хочешь ты, очевидно, сказать?
Старик только пожимает плечами.
После обеда я отбуксировал себя для чтения на койку. Дикий шум заставляет меня вскочить. Все, что лежало на моем маленьком письменном столе, упало на пол и перемещается под собственным весом. Теперь корабль испытывает боковую качку, как парусник без напора ветра в бурном море.
Я собираю свои вещи с пола, убираю их в выдвижные ящики и пытаюсь лежать на койке плашмя на спине. Я раскидываю руки как распятый, но от бортовой качки не спасает это – итак, снова на ноги!
Надеть новую рубашку? Я беру одну из трех, выстиранных для меня китайцами. Они не хотели брать деньги и не позволили навязать их. Теперь я не знаю, ожидают ли они под конец чаевые, которые должны быть больше оплаты по тарифу, или же хотели оказать любезность, которую я могу принять с чистой совестью? Надо спросить старика, решаю я.
Мои джинсы выглядят как новехонькие. Я могу носить их двумя способами: элегантно, если я надеваю их с подтяжками, небрежно по-моряцки, если я свободно застегиваю ремень и подвертываю штанины: многоцелевые штаны.
Сильные боли в правом бедре делают мою ходьбу неуверенной. Я неуклюже передвигаюсь по палубе, как древний, страдающий от неподвижности суставов моряк. Боли объясняются тем, что однажды при сильной бортовой качке корабля я оступился и вывихнул ногу.
За соседним столом один из вторых инженеров бахвалится за ужином перед тремя своими коллегами: «В Дурбане можно купить новое средство, повышающее потенцию. Оно чертовски сильное, но не безопасное».
Эту историю в последние дни я слышал уже, по крайней мере, пять раз, но те трое, судя по всему, еще не знают о ней.
– А почему оно опасное? – спрашивает большой толстяк.
– Его надо глотать как можно быстрее, иначе неподвижной становится шея!
В ответ раздается оглушительный хохот.
Я принимаю первую дозу антималярийных пилюль «Резорхин». Глотание пилюль – это как бы подтверждение решения покинуть корабль.
Ночью на верхней палубе я стою прямо под краном, повернутым в сторону средней надстройки. Не видно ни души. Я знаю, как много людей на борту, но снова представляю себе, что я единственный человек на корабле.
Воздух пахнет йодом. Я вдыхаю его полной грудью. Ничего прекрасней этой ночи не может быть. Я облокачиваюсь на запасной якорь поперек к направлению движения. Когда судно заваливает на левый борт, звездное небо очень быстро уходит вниз. Когда от качки корабль ложится на правый борт, звезды снова поднимаются вверх. Какое-то время они остаются стоять в черно-синем небе, а затем снова опускаются. Я смотрю, как поднимаются и опускаются звезды и от раскачивания и воспарения впадаю в странный полусон.
Старик сменил вахтенного. Вместе с рулевым нас на мостике трое. На экране радара по правому борту вырисовывается пароход, – наш попутчик.
Еще больше огней вокруг: попутчик с зелеными огнями, рыболовное судно с красными огнями, за ними, впереди по левому борту, широко растянувшаяся по горизонту полоса света. Это может быть только Кейптаун. Низкий облачный покров отражает огни города.
Я обнаруживаю маяк, отбрасывающий свет на облака. Мы проверяем по морской карте, этот свет может исходить только от «Slang cobb Punt» – «точка змеиной головы». Маяк расположен на удалении 36 морских миль, мы еще долго не сможем увидеть его над горизонтом, но его отражение регулярно появляется на небе, четыре раза за тридцать секунд. А теперь один за другим выплывают огни Кейптауна. Вскоре обозначился и черный призрак – конусообразная гора, которая, казалось, подпирает низкую полоску облаков.
Световой поток усиливается, огней становится все больше, скоро они превращаются в плотный поток мерцающей голубым мишуры.
Рулевая рубка ночью! Не знаю более прекрасного места Не имея ни одной мысли в голове, пристально смотреть в белесую темноту, пока не возникнет состояние «тао» [46]46
Тао – основное понятие таоизма, древнекитайского религиозно-мистического учения. (Прим. перев.).
[Закрыть]– гармония с темнотой, глубокое вхождение в ночь, своего рода растворение, медленное перемещение, дрейф из собственного тела.
Четверть часа не слышно ни одного слова, только кряхтение и стоны каких-то деревянных деталей и глухие удары литавр, с которыми нос корабля зарывается в воду, и после этого яростное шипение волн.
Некоторое время я оказываюсь не в состоянии осознать, что здесь, в этой большой рулевой рубке, я стою со стариком и что каждые несколько секунд по облакам пробегает этот быстрый свет, – перед самым Кейптауном, между Бенгеластром и Наделькапстром.
Завтра суббота. В понедельник мы можем прийти. Конец морского путешествия. Последний рейс старика, возможно, последний морской рейс и для меня.
В двадцать два часа у нас на траверзе Капстадт. Корабль испытывает сильную боковую качку. От этого сумасшедшего волнения моря я устал, как собака: чтобы сбалансировать движения корабля, многие мои мускулы вынуждены снова и снова напрягаться, о чем я даже и не догадываюсь.
Свет на лестничной клетке слишком ярок. Ослепленный, я останавливаюсь, затем спускаюсь на негнущихся ногах вниз по ступенькам, держась правой рукой за поручень перил.
В моей каюте душно. Я поднимаю штору, открываю боковое окно и разрешаю себе бутылку пива. Пиво должно помочь мне заснуть.
Корабль качает так сильно, что я вынужден снова раскинуть руки, чтобы остаться лежать на спине. Внутренне я убеждаю себя, что я тяжелый, стараюсь ни о чем не думать, но сон не идет.
Когда я открываю глаза и гляжу на стену, по ней скользит свет. Теперь он появляется снова, и я считаю секунды. За тридцать секунд движущийся свет появляется четыре раза, затем полминуты отсутствует. Мне нужно только встать, выглянуть в окно, чтобы увидеть маяк. Теперь мы подошли достаточно близко. Ночное побережье выглядит, как старая картина извержения Везувия: слои облаков, висящие высоко в небе, подсвечиваются снизу, а расположенные более глубоко занавесы из облаков – сзади, так что их края представляются имеющими оторочку.
И тут я чувствую божественный запах кофе. Вдруг вся каюта кажется заполненной этим ароматом. Я открываю дверь, чтобы посмотреть, кто варит кофе в кладовой. Это более старший по возрасту испанец, самый симпатичный из них. Мой человек из Виго. Испанец улыбается и протягивает мне полную чашку. Я бы охотно выпил кофе, но тогда я могу оставить надежду заснуть. При смене вахт в четыре часа будет снова пахнуть кофе, утешаю я себя.
Я ложусь на скамью, которая стоит под фронтальным окном под прямым углом к койке. Теперь движение судна в «прямом» смысле слова проходит сквозь меня: голова вверх, ноги вниз, ноги вверх, голова вниз, и я наконец-то засыпаю.
* * *
Впервые за весь рейс ко мне в каюту заглянуло солнце. Изменение нашего курса! Мы движемся курсом 90 градусов, поэтому утреннее солнце попадает прямо в мои окна.
Как далекая альпийская гряда, окрашенная в более темный по сравнению с небом голубой цвет, тянется по левому борту африканское побережье. Перед ним два корабля, перевозящие штучные грузы, один – попутчик, другой – идущий встречным курсом.
Со времени изменения курса мы плывем с морем, корабль уже не испытывает качку.
С мостика я вижу, как вместе с нами идет гигантская впадина волн. Наибольшую глубину она имеет точно посередине корабля. У зыби такая же скорость, как и у нас.
Мыс Агульхас, южная оконечность Африки, мы имели на траверзе в семь часов. Теперь земля в одной из бухт уходит назад, так что от нее виден только отсвет.
На штурманском столе лежит английская карта. Масштаб 1:240 800. Она намного красивее карты, изданной гидрографическим институтом. В изящной штриховке с помощью литографического пера переданы горы побережья. На нижней части карты написано: «London, published at the Admirality 16th September 1867 under Superintendence of Captain C. H. Richards RNFRS, Hyfrographer» (Лондон, опубликована Адмиралтейством 16 сентября 1867 г. под контролем капитана Ч. Х. Ричардса, королевские ВМС, гидрографа).
Один матрос вдруг осознает, что мы плывем вдоль африканского побережья. Он смотрит на берег и говорит:
– Песчаный пляж! А сколько места для парковки! – я думаю, что человек хотел сострить, но нет: он говорит это на полном серьезе.
Для путешествия мне нужны медикаменты, в том числе и перевязочный материал. Когда я спрашиваю врача о нездоровой стюардессе, он отвечает:
– Она просто не встает. Теперь она, очевидно, хочет показать, насколько плохи ее дела, и целеустремленно добивается того, чтобы ее отправили на родину самолетом. Что мне делать? Я уже написал заключение, что ее надо снять с рейса. Капитан того же мнения – она может представлять определенный риск с точки зрения безопасности.
Медицинская сестра интересуется, для чего мне нужно так много лекарств и перевязочных средств, и я отвечаю:
– Я покидаю корабль – экспедиция по Африке. А для ран от стрел все нужно в двойном объеме. – На ее вопрос – почему, я отвечаю: – Для обработки раны спереди и сзади, стрелы же проходят насквозь! – Она оскорбленно отворачивается и презрительно фыркает.
Я рассчитался по долгам с радистом и главным стюартом и в какой уже раз перебираю свое барахло: что взять с собой, что мне безусловно необходимо, что пойдет в чемодан, что останется на борту? Сумка с фотоаппаратурой чертовски тяжела. Почему я наконец не приобрету себе новую, более легкую?
Единственная забота, волнующая всех, как командование корабля, так и экипаж, – это вопрос о том, удастся ли прием в Дурбане. Потребуются все стюардессы, так что на берегу они побывают немного, разве что корабль простоит в порту дольше, чем это угодно космосу. Это относится и к офицерам. Они должны явиться при полном параде, чтобы представлять страну мореходов – Федеративную Республику Германии.
– И все для какого-нибудь консульского народа или так называемого «купечества», – подогреваю я себя.
– Так должно быть, – ворчит старик.
У шефа другие заботы. Каждый раз, когда речь заходит о Дурбане, он объясняет мне, что в Дурбане он должен сойти на берег, чтобы купить ботинки и пену для ванны. Это, кажется, стало его идеей фикс: Дурбан равняется ботинкам и пене для ванны. А теперь шеф не знает, когда ему будет позволено сойти на берег. В конце концов, эта неопределенность его измотает.
Вечером на корме проходит большая вечеринка. Старик подменил на мостике второго помощника с тем, чтобы тот тоже немного поучаствовал.
Глядя в темноту, старик говорит:
– Я должен побеспокоиться об этом пароходе по левому борту.
– Да он же ясен, – говорю я, – он же показывает зеленый.
На это старик бормочет из темноты:
– Увидишь зеленый по правому борту, уйди с дороги, но если по левому борту – красный, то все ясно, нет никакой опасности. Зеленый к зеленому и красный к красному.
– А как дальше?
Старик продолжает без запинки:
– Если виден красный по правому борту, то тебе надо освободить путь, однако если по левому борту зеленый, то можешь спокойно продолжать свой путь. В этом случае зеленый должен быть в готовности и должен освободить тебе путь. Зеленый к зеленому и красный к красному – все ясно, никакой опасности!
– Ура! – кричу я, и мы оба разражаемся восторженным смехом.
Теперь старик с циркулем и угольником «колдует» в штурманской рубке.
– Почему ты делаешь расчеты за второго помощника? – спрашиваю я. – Он же может сделать это и сам.
– Просто это доставляет мне удовольствие, – говорит старик.
Лежащая на столе карта называется «Mossel Bay to Cape St. Francis».
Я откидываю тяжелый занавес и вхожу в рулевую рубку. Впереди по левому борту видны светлые огни. Это порт Элизабет. Старик, который теперь стоит рядом со мной, говорит:
– Мы идем со скоростью почти пятнадцать миль, такого у нас еще никогда не было во время этого рейса.
Наш курс проходит так близко от берега, что на экране радара побережье четко прорисовывается.
– Радуйся, – говорит старик, – что ты решился покинуть корабль. Ты ведь уже сейчас видишь, насколько раздражительными становятся люди – и после этого еще длительный обратный путь. Посмотреть на Африку другими глазами, чем на нее смотрят южноафриканцы, мне это было бы интересно. Второй помощник скоро должен вернуться, мы должны хотя бы показаться на вечеринке.
Мы сидим на юте под желтыми, красными, зелеными электрическими лампочками на складных скамейках пивоварни. Вибрация корабля едва ощущается. Ночное море неспокойно. Полумесяц не может в нем отражаться. Шелест моря, несколько шумов, производимых ветром. Шумовой фон создают и то затихающие, то нарастающие разговоры людей на другом конце ряда составленных столов, снова и снова раздающийся взрыв веселья, когда кто-нибудь рассказывает анекдот или отпускает сальную шутку.
– Как на садовом участке, – говорю я старику, сидящему напротив меня.
Старик только кивает. Ощущение, что ты находишься на корабле, который плывет по воде, исчезает. Только когда я ловлю себя на мысли, что легкий бриз – это обтекающий воздушный поток, я на мгновение осознаю, что я плыву через ночь на большом корабле.
А теперь начинается такое веселье, что просто «дым коромыслом». Ангелов растягивает украшенный многими блестками аккордеон и раздается музыка. Глупая болтовня переходит в пение, и вскоре уже первые пары решаются выйти на освободившуюся танцевальную площадку.
Мне на память приходит мое плавание на небольшом каботажном судне вдоль греческого побережья. Это был единственный раз, когда я танцевал на корабельной палубе. Почти полная луна вышла из-за облаков, разбросанных по небу, словно чернильные пятна, и обсыпала море серебром. Тогда, перед проплывающими бледными известковыми берегами танцевали мужчины. Настоящий сиртаки лучше подходил к этой палубе и к этой лунной ночи, чем своего рода толкотня и топтание, напоминающие мне танцы туземцев. Снова и снова кто-то оступается, так как корабль или слегка ускоряет ход или покачивается, а воркующие смешки, радостные и резкие крики становятся все более громкими.
Вопреки моему ожиданию, после двух танцев старик сидит довольный и весело наблюдает за танцующими, за расфуфыренными стюардессами, которых я едва узнаю под слоем макияжа и тенями для век. Стюардессе, обслуживающей наш столик, удался образ кинозвезды: когда она поворачивает направо свою хорошо уложенную голову, то просто олицетворяет плутовство.
– А ведь хорошо было, – говорит старик, когда мы возвращаемся в носовую часть, судна, – каждый получил свое удовольствие, и с выпивкой в порядке.
* * *
Воскресенье. Корабль стоит. Пришло время ремонтировать машину: подтекает труба. Я слышу, что сварочные работы ведутся уже с четырех часов утра.
Так как корабль стоит, в каюту едва поступает воздух. Если мы вскоре не начнем двигаться, то здесь будет сауна. Я собираю свои купальные принадлежности и иду на корму. Я хочу, наконец, разочек поплавать. Мое воспаление от прививки уже почти залечено. Я обнаруживаю вентиль для включения проточной воды в бассейне. Но не прошло и десяти минут, в течение которых я здорово поплавал, как из машины появился человек: я должен закрутить вентиль обратно, так как в противном случае клозеты в верхних каютах останутся без воды, они подключены к тому же насосу.
После обеда мы начинаем движение. От шефа я узнаю, что проводился еще и более сложный ремонт, чем сварка трубопровода, сделавшая остановку необходимой. Один сельсин – датчик для индикации положения управляющих стержней – оказался дефектным. В результате на пульте управления отсутствовала индикация состояния второго контрольного стержня.
– Перед концом вахты все стержни каждый раз выводятся на одну высоту, – объясняет мне шеф, – все стрелки в таком случае должны иметь одинаковое положение. Но от одного стержня информация не поступила.
– И что вы делаете в таком случае? – спрашиваю я шефа.
– В камере безопасности на плате с приводами размещено двенадцать приводов для контрольных стержней, электромоторов. Один такой мотор надо было удалить. После этого у дефектного сельсин-датчика могут быть отсоединены зажимы, а сам он изъят.
– И это вы можете ремонтировать на борту?
– Да, конечно, – говорит шеф. – В мастерской вспомогательного помещения с сельсин-датчика была снята шестеренка, а сам сельсин-датчик удален из своего корпуса. А затем все это удовольствие снова собирается и монтируется.
– И это длится часами?
– В целом – да. Это, конечно, не сахар, вкалывать там внизу при пятидесяти градусах.
Стареющая стюардесса теперь постоянноносит открытые блузки и демонстрирует свое покрытое волосами родимое пятно.
– Нельзя ли дать понять этой даме, что надо освободить окружающих от лицезрения этого куска кротового меха в таком необычном месте? – спрашиваю я старика, когда мы остаемся в столовой одни.
– Ну, ну! – говорит старик. – Точнее было бы сказать, темный обезьяний мех. А почему ты все время смотришь туда, если тебя это раздражает?
– Невроз навязчивого состояния. Мне приходит в голову кое-что другое: у меня почти не осталось фотопленки, а для путешествия по Африке мне потребуется много пленки.
– Пленка есть в Дурбане или Йоханнесбурге, только все здесь, в этом полушарии, дороже. Но агент может наверняка найти оптового продавца. Это тебе обойдется дешевле, то есть, если он не захочет и здесь сорвать свой куш. У меня в этом деле большой опыт! И еще, – говорит старик, – прочти объявление относительно безнравственных изображений в иллюстрированных журналах и о соответствующем запрете южноафриканского правительства. Это для тебя важно!
На черной доске, прямо рядом с дверью в столовую, действительно висит объявление, подписанное первым помощником и снабженное красным восклицательным знаком. Я замечаю, что старик наблюдает за мной со стороны, в то время как я читаю, что я, если я имею книги или фильмы, в которых есть изображения обнаженных людей, должен указать это и приготовить к опечатыванию. Сюда относятся такие иллюстрированные издания, как «Штерн», «Новый иллюстрированный журнал», «Ревю» или им подобные, особенно же номера «Плейбоя», а также соответствующие календари или постеры. Если при обыске корабля соответствующие издания будут найдены, то они будут изъяты, а их владельцу грозит ощутимое наказание: заключение в тюрьму на срок до двухсот пятидесяти дней или штраф в пятьсот рандов.
– Итак, тюрьма, – говорю я, оправившись от удивления. – Тюрьму я знаю. Но сколько составляют – в пересчете – пятьсот рандов, если мне придется себя выкупать?
– Не знаю, не могу ответить немедленно, спроси казначея.
– Это действительно – не шутка?
– Не шутка! – говорит старик.
Зыбь улеглась, волны больше не бьются, нос корабля зарывается в них совсем мягко, слышен только звук легкого вскипания и опускания.
Вахтенный насадил на компас так называемый «пеленгаторный диоптр», теперь мы можем ориентироваться по наземным объектам.
На траверзе населенный пункт, который называется Гамбург, вскоре появится несколько бульший город Ист Лондон. Африканское побережье удалено не дальше, чем противоположный берег Штарнбергского озера, если смотреть со смотровой площадки на Острове роз.
Старик приходит на мостик, не сразу видит вахтенного и спрашивает в шутку:
– Есть здесь кто-нибудь?
Первый помощник сразу же выходит из штурманской рубки и поспешно делает своего рода военный рапорт. Он никогда не научится различать – где шутка, а где серьез.
Мы движемся на северо-восток. То, что в конце этого путешествия мы будем двигаться по курсу 45 градусов, я и представить себе не мог. 45 градусов могли быть хорошим курсом домой из Центральной Атлантики.
После смены вахт я вижу с пеленгаторной палубы, что наш радар работает. Так как я не могу понять этого, то я спускаюсь вниз на мостик. Третий помощник, который сейчас несет службу, производит пеленгацию с экрана радара, поскольку побережье не имеет настолько ярко выраженных контуров и не хватает ориентиров, за которые он мог бы зацепиться, в том числе и башен церквей, которые для мореходов являются излюбленными объектами пеленгации.
На экране побережье вырисовывается очень четко. Курс на карте «East London to Port St. Jones», которая как раз лежит на штурманском столе, проложен таким образом, что в нескольких местах мы приблизимся к побережью на расстояние до трех морских миль.
Я стою и стою. Африка перед глазами.
На завтрак я надел мою вязаную кофту. Утром было прохладно. Африка – и вязаная кофта? Смешно.
Три старослужащих морехода, в том числе и человек, отвечающий за обслуживание насосов, сидят в каюте у Ангелова, когда я стучу в дверь. Они восторженно вспоминают о прежних путешествиях в Восточную Азию.
– Эти чудесные гавани, – говорит специалист по насосам, – сначала Марсель, потом Генуя, Порт Саид, Джибути… и так далее!
Все они недовольны этим длинным морским рейсом, в конце которого будет Дурбан – в их глазах что угодно, только не привлекательный порт.
– Последний! – говорит один из четырех. И в этом порту корабль задержится на короткое время. Нам нечего выгружать.
Все поздравляют меня с тем, что я решил сойти. Ежедневную дозу таблеток от малярии я принял, мое белье чисто выстирано, мое снаряжение должно быть небольшим, но безупречным, в случае если мне действительно придется покинуть корабль.
Почему я все время использую сослагательное наклонение, когда речь заходит об уходе с корабля? Разве мое решение все еще не окончательное? Устраиваю сам себе театр? Мне кажется, что назрела пора самопроверки. Боюсь ли я риска путешествия в одиночку? Не покинула ли меня прежняя смелость? Не пугает ли меня одиночество по вечерам в чужих городах и жалких отелях? Или я кажусь себе отвратительным из-за того, что оставляю старика одного на этом вводящем в состояние депрессии корабле? Что со мной происходит? Возможно, мне надо бы прочитать «Юность» Йозефа Конрада, тогда бы я снова приобрел правильный вкус.
Ведь на идею сойти в Дурбане меня натолкнул старик: не делай этот хипповый рейс обратно, лети на самолетах, посмотри кое-что в Африке, ты же можешь это себе позволить!
Как так случилось, что Африка никогда не входила в планы моих путешествий? Смешно, ведь при этом я испокон веку собирал африканское. Я знаю только Алжир и Северный Египет, Даже до Танжера я не добрался. Ливингстон, Стэнли всегда были для меня большими людьми. Почему я никогда не чувствовал потребности последовать по их следам?
– Ты уже собрал свои вещи? – озабоченно спрашивает старик вечером. – Ты подумал о том, чтобы врач дал тебе лекарства на всякий случай?
– Все уже сделано, – говорю я, необычно тронутый заботой старика.
– Много времени у нас уже нет, – говорит он после того, как мы молча выпили виски, которое старик поставил на стол сегодня. – Ты хотел мне все же рассказать, как впоследствии сложилась твоя жизнь с Симоной, – и ухмыляется над своей ходульной манерой речи.
– Как должна «сложиться» жизнь с Симоной? Через несколько дней она вернулась, на этот раз в штатском.
– Тебе повезло, что твой дом остался цел. Ведь совсем рядом располагалась прожекторная позиция.
– Что значит «мой дом», это были две комнаты, чулан и крошечный камбуз, все это с покосившимися стенами в стариковской хибаре. И все это без электричества и воды из общественного водопровода.
– Как это так?
– Электричество мы вырабатывали сами. Часто агрегат выходил из строя. А для воды у нас был насос в погребе.
Теперь меня захватили воспоминания, и картины в моей голове обгоняют друг друга.
Я медленно глотаю виски, мне нужно время для того, чтобы навести какой-то порядок в себе.
– Не надо представлять себе наше жилье как трущобу, – начинаю я снова, – мы вполне сносно жили от овощеводства и от леса.
– А Симона играла роль домашней хозяйки?
– Да – но лучше по порядку: лето тогда было теплым и зеленых томатов и огурцов было у меня навалом. На кислых торфяных почвах все растет великолепно, даже арбузы, но особенно тыквы. Я посадил семена на пробу, а затем из этого получился богатый урожай. Мы делали маринованные огурцы, кисло-сладкую тыкву и маринованные огурцы с горчичной заливкой, а также незрелые зеленые томаты. Если где-то можно было достать стеклянные банки для консервирования, мы отправлялись туда, но все равно не могли справиться с обилием овощей. В конце концов мы отнесли уродившиеся громадными тыквы на чердак, чтобы они отлежались. Через два месяца мы сбросили их сверху на бетонный пол. Они взорвались как бомбы. Немного сахара, который нам удалось добыть, нам не хотелось тратить на производство тыквенного мармелада или мусса. Однажды над нашей опушкой леса промчался настоящий маленький смерч. Это было поздней осенью. Когда я утром пришел в садовый домик, было чертовски холодно, хотя весь день светило солнце. И тут я увидел причину этого: из верхнего освещения, которое я с таким трудом устроил сам для того, чтобы создать ателье, исчезло большое тяжелое стекло. Никаких осколков, ничего. От стекла никаких следов. Потом я случайно нашел его лежащим в траве, на удалении добрых пятидесяти метров. Этот смерч всосал его и плавно положил, всосал, несмотря на замазку. Просто чудо!
– Чего только не бывает, – отвечает старик на мое удивление, связанное с этим воспоминанием.
– Зимой мы чувствовали себя как в Сибири: нашу крошечную спальню я окрестил хрустальным дворцом, так как наклонный потолок в отражении света лампы просто искрился – все было покрыто инеем. А затем были постоянные проблемы с водой.
– Звучит все это, как отзвук веселой сельской жизни. По-настоящему романтически, – говорит старик и делает большой глоток виски. – И, несмотря на это, мне трудно понять, как тебя привели в загс.
– Мне тоже! Но тыдолжен говорить прямо! Ты на часы смотрел? Мне-то все равно, но ты сегодня снова должен быть на палубе.
– Старым людям нужно мало сна, так всегда говорится. Давай, не томи, говори дальше!
– Итак, я рассказываю тебе это, потому что это смешно: я сохранил интересную, историческую телеграмму. Я получил ее в Берлине, где был у одного антиквара. Я помню ее наизусть: «В общине все готово точка приезжай сейчас же точка». И это должно было означать, что служащий загса находится в полной боевой готовности и что друзья готовят свадебные торжества.
– И ты прервал свою поездку?
– Так точно! Я бодренько возвратился в Фельдафинг, и как только подошло время забирать в ратуше продовольственные карточки, все было сделано в один присест.
– Продовольственные карточки и женитьба?
– Служащий загса даже прибег к высокому стилю, помянув флот: мой шаткий жизненный кораблик теперь обрел надежный порт…
– Он так и сказал – «порт»?
– Да. Наполовину выплюнув. У него отсутствовали два передних зуба.
Через некоторое время старик откашливается:
– Извини мое любопытство – но почему позднее ты расстался с Симоной?
Я основательно выдыхаю воздух и говорю:
– Сначала все шло очень хорошо. Я много писал маслом. На пленэре и Симону в качестве модели. Но затем сельская жизнь пришлась не по вкусу Симоне, и она позаботилась о том, чтобы началась напряженность в отношениях.
Так как я снова замолкаю, старик настаивает:
– Рассказывай.
– В один прекрасный день Симоне вдруг потребовалось отправиться в Париж, а через несколько дней по телефону она вызвала меня на Мюнхенский вокзал. Пришел американский военный поезд, следовавший в Зальцбург, и никому не разрешили сойти, весь вокзал был заполнен военной полицией. Когда я наконец решил удалиться, у начала поезда за тепловозом я обнаружил Симону, но не одну, а со старой дамой, ее матерью, и двумя собаками, ее пуделями. Симона сошла с поезда с другой стороны и перешла через соседние пути.
– Со старой дамой?
– Да, конечно!
– Старая мадам, заявила Симона, должна ухаживать за нашим бэби Рене, которому в то время было полгода, с тем, чтобы она, Симона, снова могла путешествовать. Подходит ли это мне, она не спросила. И так мы затем и жили в моей студенческой хибаре из трех крошечных комнат с покосившимися стенами – трое взрослых, один бэби и две собаки. Можешь себе такое представить?








