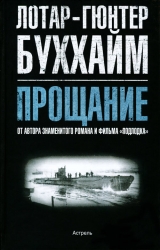
Текст книги "Прощание"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
– Не считаете ли вы, господин капитан, что люди должны быть заняты и в конце недели? Сначала в субботу были пять, потом четыре, затем три – а теперь два часа. В конце концов, это приведет к трениям, это же ясно!
От громкого смеха, в том числе и шефа, первый помощник краснеет. А старик лишь спрашивает:
– А что вы будете делать с пьяными? Ведь в субботу люди поддают!
Мысленно я дополняю, глядя на серые после ночных попоек лица ассистентов: «А когда же, собственно говоря, они не поддают?» А попойки в субботу и воскресенье, «настоящие» попойки, вероятно, считаются неизбежными и этот аргумент заставляет первого помощника капитана замолчать.
После того как первый помощник, выждав какое-то время, попрощался с нами, я спросил старика:
– Что он имел в виду, говоря, «в субботу четыре, три часа»?
– Дело в том, – говорит старик, – что каждый год в порту на один час сокращают продолжительность рабочего времени, так как постепенно хотят создать такие же условия труда, как и на суше. Но пока дело обстоит так. Если человек не придет из-за этого одного часа на борт, то ему вычеркивают день компенсации. Здесь первый помощник в виде исключения прав.
В нашей радиогазете, выполненных гектографическим способом листочках, раскладываемых радистом в столовой на столах, я читаю, что температура в Северной Германии составляет тринадцать градусов! Что за сумасшедшее лето.
Меня удивляет, что сегодня шеф, не выказывая торопливости, продолжает сидеть за столом, и спрашиваю его, не надеясь на успех:
– Когда я смогу попасть в камеру безопасности?
– А не начать ли нам прямо сейчас? – спрашивает шеф к, моему большому удивлению.
– Только об этом и мечтаю! – и следую за шефом. Но куда он идет? Ведь так мы не попадем в камеру безопасности?
– Сначала модель, – говорит шеф, оборачиваясь на ходу. Мы направляемся в «приемную» – это странное, бесполезное, служащее исключительно представительским целям помещение с портретом Отто Гана, выполненным в масле. Я знаю, что там, на столе, в передней части помещения, прямо напротив портрета «расщепителя ядра» под стеклянным колпаком находится модель реактора.
Шеф чуть не убегает от меня в своих «быстрых сандалиях», как он называет свою обувь. Он ведет себя так, будто нам больше нельзя упускать время.
– Говори, господин, твой холоп слушает тебя! – говорю я, когда мы останавливаемся перед моделью.
А шеф уже начал:
– Вот здесь – горячая печь. Это положение модели показывает камеру безопасности и в ней резервуар высокого давления таким, каким его можно видеть, если стоять в камере безопасности, – то есть здесь, в кольцевом пространстве между резервуаром высокого давления и первичным защитным экраном. Здесь – вторичное экранирование: шестьдесят сантиметров железобетона. – При этом шариковой ручкой шеф показывает то сюда, то туда. – В этой вторичной экранировке стоит камера безопасности – стальная конструкция тридцатимиллиметровой толщины высотой тринадцать метров и диаметром девять с половиной метров.
Я держу указательный и большой пальцы правой руки на расстоянии примерно трех сантиметров от глаз, чтобы лучше представить себе стальную стену. Шеф видит это и насмешливо улыбается.
– В камере безопасности находится напорный резервуар, а в напорном резервуаре – активная зона реактора с крепежным устройством и контрольными стержнями. Весь реактор окружен первичным защитным экраном из серого чугуна и нескольких слоев стали и воды. – Шеф отбарабанил это, будто хотел сказать: «Все это само собой разумеющееся, не будем без нужды задерживаться на этом».
– Все это представляется мне большой русской куклой, – бормочу я и чуть не прикусываю язык.
– Как это? – спрашивает шеф.
– Русские куклы, которые располагаются одна в другой…
Шеф смотрит на меня непонимающе, затем говорит так же быстро, как и до этого:
– Парогенератор и первичные циркуляционные насосы для первичной воды находятся внутри первичной защитной экранировки напорного резервуара, образуя весь первичный контур или весь первичный цикл. Все агрегаты, относящиеся к первичной системе, а также агрегаты для системы очистки блокирующей воды, осушительная система и установка циркуляционного воздушного охлаждения находятся внутри вторичного экранирования. – Шеф переводит дыхание и говорит дальше: – Этот сифон здесь, слева, является продувочным резервуаром. В самом резервуаре, то есть в продувочном резервуаре, в случае утечки может быть принят пар из напорного резервуара. Речь идет о пустом компенсаторе.
«Итак, наличествует больше для безопасности, – перебиваю я лишь для того, чтобы заставить шефа говорить помедленнее: „Speak slowly please, for havent’s sake!“ (Пожалуйста, говорите медленнее, чтобы не забыть!) так и рвется у меня с языка, но я молча проглатываю это. Если бы шеф говорил более отчетливо, я смог бы лучше воспринимать его речь. А так мне приходится сильно напрягаться.
Теперь шеф, будто поняв меня, говорит медленнее. Если он полностью повернется ко мне и я смогу видеть его рот сквозь бороду, то мне не составит труда понимать то, что он произносит менторским тоном: „Нижняя, более широкая часть напорного резервуара является здесь щитовой цистерной, экранировкой вокруг напорного резервуара. В ее зоне, то есть в зоне щитовой цистерны, находится сильно излучающая активная зона реактора, которая здесь состоит из двенадцати прямоугольных и четырех треугольных топливных элементов“ Теперь шеф отходит от модели, делает два шага назад и четыре в сторону, останавливается перед графиком, висящим на боковой стене, и говорит:
– Мы должны действовать системно, по-другому вы не поймете.
Слава богу, что он понимает это!
Шеф делает небольшую передышку, задумывается на мгновенье, делает передо мной три шага влево, потом вправо, снова останавливается перед графиком, а затем опять начинает говорить так быстро, будто плотину прорвало:
– Реактор – это такая установка, в которой происходит контролируемая ядерная реакция. Ясно?
На это я могу ответить только кивком головы.
– Ядерная реакция выделяет тепло, очень много тепла. Это тепло я должен отвести от ядра и подвести к парогенератору. Я делаю это с помощью воды как охладителя.
– А почему теперь надо охлаждать? – спрашиваю я.
Шеф сразу же сбивается. Он опускает голову, прикладывает большой и указательный пальцы ко лбу и раздумывает несколько секунд, прежде чем ответить:
– Возможно, это слишком сложно для вас, то есть для начала. Теперь другое. У реактора три главные функции. – Шеф поднимает голову и смотрит на меня. – Эти функции таковы: производство тепла, отвод тепла, генерирование пара.
К моему удивлению, шеф понижает голос и смотрит на меня, словно извиняясь: – Тут я должен поправить себя. К сожалению, это не совсем точно. В реакторе, по существу, расщепляется только уран – реакция эта происходит под контролем. В результате этого образуется энергия. Так что преобразование тепла неявляется задачей реактора. Но вы спокойно воспринимайте все так, как я вам говорил вначале.
„Я сделаю это неохотно! Потом я буду сидеть дома и беспомощно оглядываться, если мне чего-то будет не хватать при переносе этого на бумагу. Вас-то у меня тогда не будет под рукой“.
Шеф заглатывает наживку. Он коротко кивает, делает большой вздох и начинает снова:
– Топливом служит, об этом теперь знают все, уран, а именно, уран-235. В природном уране его содержание составляет только 0,7 процента, Остальное – это уран-238. Дальше вам станет сложнее понимать. Вы должныпросто принимать на веру то, что я говорю, даже если не поймете сразу. Если мы намереваемся экономически использовать расщепление ядра, то нам надо увеличитьэто небольшое количество урана-235. Мы называем это „обогащением“. „Настоящим“ топливом является двуокись урана – уран-238, обогащенный 3,5–6,6 процентами урана-235.
– Я просто верю в это, – бормочу я.
– Возможно, это тема для более поздней беседы, – говорит шеф, в то время как я пытаюсь про себя повторить то, что узнал. Шеф видит это и ждет. Я робко задаю вопрос:
– Итак, таблетки в топливных стержнях, то есть окатыши, – это не уран-235, а обогащенная двуокись?
– Точно, – говорит шеф и радуется.
– Окатыши я всегда представлял себе виде „пуговичных“ батареек.
– Они немножко толще, – говорит шеф. – Окатыши имеют диаметр 9,6 мм и высоту 10 мм.
– А если я буду носить окатыши, как таблетки от головной боли в стеклянной трубочке, что произойдет тогда? Я слышал, что ничего. Это так?
– Да, так. Ничего не произойдет. Материал безобиден, пока его не начали использовать.
– Что это значит?
– Пока не произошло расщепление ядра. Это продукты распадамогут оказывать опустошающее воздействие. Черный порох тоже не опасен, пока к нему не поднесут спичку. Если никто не облучает окатыши нейтронами, то они безобиднее черного пороха. По окатышам, если захотите, можете бить молотком, и ничего не произойдет. Но будем придерживаться темы: окатыши лежат здесь в этих герметичных оболочках один над другим. Их общая длина (или высота) 830 мм. Герметичную оболочку, которую вы видите здесь, раньше – то есть для первых активных зон реактора – делали из стали, теперь, то есть для второй активной зоны, – делают из циркалоя-4.
– А это?
– Запомните: циркалой-4! – говорит шеф с наигранной строгостью, – просто запомните! Все это мы рассмотрим позднее.
– Так точно – запомню, – отвечаю я.
– Эти трубки и есть топливные элементы. – Я вздыхаю, и шеф смотрит на меня с удивлением.
– Я рад, что наконец-то мы осилили эти топливные элементы, потому что именно о них речь идет постоянно. Итак, топливные элементы – это трубчатая оболочка, набитая окатышами?
– Точно! – говорит шеф. Он снова бегает передо мной туда и сюда и, наконец, продолжает: – Внутри этих топливных элементов происходит расщепление ядер, в результате чего вырабатывается тепло. В топливных элементах температура достигает около 800 градусов Цельсия, а на поверхности топливных элементов около 300 градусов.
– Теперь окатыши уже не так безобидны? – спрашиваю я.
Эти слова шеф намеренно пропускает мимо ушей и продолжает:
– Температуры, которые я сегодня называю, рассчитаны теоретически. Но пойдем дальше.
– Да! – соглашаюсь я, хватаю стул и усаживаюсь на нем как бы для особой концентрации.
– При расщеплении ядра высвобождаются нейтроны, которые по принципу цепной реакции в свою очередь расщепляют ядра урана-235.
– Если бы я только понимал, как функционирует деление атомного ядра.
– Это надо принимать на веру, просто все принимать на веру, – говорит шеф и вглядывается в меня с испытующей настойчивостью психиатра, прежде чем продолжить: – Контролировать и управлять этой цепной реакцией – вот и все,вот и вся штука! – Говоря это, шеф подчеркивает каждое слово.
– И как это происходит? – спрашиваю я, четко выговаривая слова, чтобы шеф понял, что я слушал внимательно.
– Давайте-ка пока выпьем пельзенского пива, – отвечает шеф, глядя на меня своими сузившимися от улыбки до щелочек глазами, и идет к холодильнику, расположенному за стойкой.
– Бокалы? – спрашивает шеф и ставит две бутылки на стойку.
– Для чего бокалы? – спрашиваю я в свою очередь.
Шеф запускает руку в пустоту и вылавливает там вслепую открыватель бутылок, висящий на длинной спирали. Это выглядит, как клоунский номер. Я должным образом демонстрирую восхищение этим трюком, наверняка придуманным шефом, если судить по тому, как он воспринимает мое восхищение.
– У меня от этой говорильни уже сметана во рту, – говорит шеф. – Ну – на здоровье!
– На здоровье!
После большого глотка шеф втягивает губы и затем выпускает воздух с шумом, как из хлопушки. Тыльной стороной руки он вытирает рот.
– Хорошо, а?
– Да, чертовски хорошо. Когда я был в Праге, то пристрастился к этому пиву и стал предпочитать его.
– Вам, собственно говоря, скорее следовало бы рекламировать баварское пиво.
– Да? Мне нужно было бы? Вы что же, считаете меня баварцем?
– Ради бога, нет! – шеф изображает ужас. Затем он делает еще один изрядный глоток, тщательно вытирает пену с бороды и говорит неожиданно решительно: – Ну что же – продолжим – или нет?!
Секунду я обдумываю, что ответить. И тут шеф сам себе отвечает:
– Предлагаю сделать передышку, все переварить, а затем как можно скорее продолжить.
– Означает ли это: а теперь еще по пиву?
– Ну, конечно же! – говорит шеф. Он ставит две новые бутылки на стойку и, открывая их, говорит: – Следующая тема: контроль и управление цепной реакцией…
На шлюпочной палубе я вдыхаю свежий воздух, качая головой, в которой, как в осином рою, копошатся технические термины. Я тяжело шагаю вперед по окрашенной в красно-бурый цвет главной палубе и в поисках пищи для глаз останавливаюсь. Я приседаю на корточки и вижу между двумя „лебедиными шеями“ горизонт в круглом поле клюза. Я скольжу глазами вверх-вниз, чтобы линия горизонта делила сюжет, обрамленный клюзом, пополам.
Этот снимок я сделаю завтра. Затем, то приподнимаясь, то наклоняясь, я наблюдаю из-за бухты буксирного троса, как поднимается и опускается линия горизонта, и наслаждаюсь игрой круглых и прямых линий на блестящем белом и насыщенном черном цветах на фоне серо-зеленого моря. Это моймир.
Я сижу на бухте троса из манильской пеньки, охватывая взглядом мощную аппаратуру, – якорную и обе буксирные лебедки. Я рассматриваю лебедку для носового шпринга, роликовые клюзы и направляющие для тросов, запоминаю все это так крепко, что смогу нарисовать по памяти.
По очереди проверяют двигатели обеих спасательных шлюпок, и уже по этому можно понять, что сегодня суббота. Такой функциональный контроль осуществляется, насколько я знаю, каждую субботу – после окончания официального рабочего времени.
Вода в плавательном бассейне зеленого цвета. Очевидно, ее подкрасили попавшие сюда частички планктона.
Один матрос красит приваренную газоотводную трубу для вспомогательного дизеля серебристо-бронзовой краской. Для этого в верхней части он приладил себе подставку, которую он сам может поднимать и опускать на один метр. Работа в субботу хорошо оплачивается.
Теперь мы держим курс 180 градусов. Иногда по левому борту появляются рыболовецкие суда. Больших кораблей не видно. Я не представлял себе, что эта местность окажется такой безлюдной.
Перед моей каютой на полную мощность работает „колесный пароход“, как я называю стиральную машину. Одна из офицерских жен стоит рядом с машиной, скрестив руки на животе и выставив вперед левую ногу. Естественно: дома, а значит, и на корабле суббота – всегда день стирки. Стирать, а что ей прикажете еще делать?
– Что еще приключилось, на что ты так уставился? – спрашивает старик, когда мы усаживаемся за обеденным столом, и бросает взгляд в том же направлении, что и я, но быстро отворачивается. На руке стюардессы сегодня выше пятна с волосами гордо красуются два красно-желтых гнойных волдыря – следы прививки.
– Кстати, – начинаю я, но старик резко перебивает меня: – Что значит „кстати“?
– Кстати, – невозмутимо начинаю я снова, – ту медицинскую сестру, которая так плохо обошлась со мной, я спросил, в какой больнице она работала до этого – в большой или маленькой.
– Ну и?
– В большой, естественно! – сказала она возмущенно, – маленькие больницы сегодня ub to date! [28]28
Очевидно, она хотела сказать «устарели», но up to date по-английски означает самые современные. «ab» – немецкий предлог, свидетельствующий о поверхностном знании и неуместном применении английских фраз. (Прим. перев.)
[Закрыть]
– Ну и что? – снова спрашивает старик.
– Она сказала совершенно ясно „ab to date“ – здесь ab – как устаревший, удаленный с окна.
– И что ты на это ответил?
– Ничего! Только вполне серьезно кивал.
Шеф, бросивший вопрошающий взгляд на старика и получивший от него одобряющий кивок, пересел за наш стол после того, как съел суп. Он говорит:
– Извините, господин капитан, я только что услышал, что вы говорите о больнице. Я уже давно хотел спросить… – и замолчал в нерешительности.
– Спрашивайте, – говорит старик добродушно.
– Если здесь на борту с кем-то что-то случится, я имею в виду что-то очень серьезное…
Старик помогает ему продолжить:
– Вы имеете в виду, что кто-нибудь умрет?
– Именно это! Что будет в таком случае?
– На этот случай кое-что уже предусмотрено, – говорит старик, – на борту находятся так называемые складные гробы из пластика.
– Вы это серьезно? Это правда? Или вы хотите раз…
– Разыграть я вас не хочу, шеф. Собственно, вы должны были бы знать об этом… Я не понимаю, почему вам это в новинку. Ну вот, в таком гробу усопшего хоронят за бортом, то есть в море – так как у нас нет морозильника для трупов, как на пассажирском пароходе.
– А подвесить между свиными тушами за пяточные сухожилия – не годится, – влезаю я в разговор, но старик пропускает это мимо ушей. Тогда я поддразниваю старика:
– „А наш капитан произносит назидательные слова“.
– Так, очевидно, и должно быть! – говорит старик, и я замечаю, что он хочет закончить этот разговор, но я не отстаю. Я знаю, что шеф родом из Глюкштадта, поэтому говорю ему:
– Как раз Глюкштадт остался у меня неизгладимым в памяти в связи с гробами.
– Почему? – спрашивает шеф.
– Потому что война длилась дольше, чем представляло себе руководство. – Так как шеф растерянно смотрит на меня, то я объясняю:
– Руководство – так это называлось тогда, это были Гитлер и его камарилья. Так как война длилась дольше, то меня послали на ротные курсы в Глюкштадт. Это было бы интересно для вас, шеф! Глюкштадт был совершенно скверным городишкой. Для моряков это было испытанием. Целыми днями мы тренировались в „проведении траурной процессии“ с различными функциями. Один раз я был лошадью. Один раз подушечкой для орденов. В качестве подушечки для орденов мне надо было, согнув руки в локтях, в траурной позиции, размеренным шагом ходить по казарменному двору и при этом иметь неприступную мину. И это после тяжелейших бомбовых налетов на Гамбург. В Гамбурге под руинами гибли люди, а мы в Глюкштадте играли в этот театр – в соответствии со служебными планами! Гамбург был рядом, почти тысяча солдат могли бы помочь в Гамбурге, но поди ж ты: у нас был свой план!
– Да, так и было, – говорит старик.
– В разгар войны, – говорю я дальше, – мы тренировались: нужно было примкнуть штык и колоть штыком мешок с соломой и трижды кричать „ура! – ура! – ура!“
– И для чего это? – спрашивает шеф.
– Естественно, для того, чтобы если из Атлантики всплывет враг вроде нимфы, знать, как с ним покончить!
– Понял! – говорит шеф смущенно. – Чистая рутина. Но что было с гробами?
– Гробы… По ночам на чердаке неотделанного морского госпиталя, расположенного довольно далеко от казармы, мы несли пожарные вахты. В здании не было ни дверей, ни окон, но на чердаках, которые мы должны были защищать от пожара, стояли гробы, гробы на гробах. Все чердаки были забиты гробами – сотнями гробов. Тут шеф втягивает воздух, а старик говорит: „Прощайте!“ – и встает.
По прошествии времени послеобеденного сна я стучу в дверь старика и он сразу же встречает меня необычным потоком слов:
– О Норвегии я вообще больше не думал. Но теперь, когда ты постоянно выспрашиваешь меня, все это всплывает снова. Например, дело с Эмде, с командиром подводной лодки Эмде, которого они судили военным судом за то, что он однажды – из осторожности – не атаковал. Однако эта история разразилась намного раньше, еще до того, как я ушел в отпуск. Эмде пришел и попросил быть его защитником. Но я был назначен заседателем. Он обвинялся в „трусости перед лицом противника“, а ты знаешь, что это значило.
– Кто же его оклеветал?
– Его собственный вахтенный офицер. Во всяком случае, меня позвали и в конечном счете с весьма точными, доказательствами в руках – почти с научной точностью – мне удалось вызволить Эмде.
– И как это происходило? – спрашиваю я старика, который сидел в кресле, уставившись в одну точку.
– Это происходило так. У нас в Бергене был военно-морской судья, оберштабрихтер Грис, он был спортсменом-яхтсменом, и это помогло кое-что объяснить ему. Часто все зависело от таких случайностей. У другого председателя суда я бы никогда не добился успеха Ты же знаешь: в то время сильно давили сверху. Между, прочим после капитуляции я тоже побывал и в шкуре судьи, так как я был старейшим морским офицером в районе Бергена, но я не воспользовался этим. Там было одно дело о дезертирстве. Это было еще при Грисе, и прежде чем состоялось заседание суда, я с ним об этом поговорил. Он сказал: „А не спустить ли это на тормозах?“ Я был рад-радешенек, потому что испытывал угрызения совести. Мы тоже – уже тайно, на всякий случай – готовили к отплытию катер, который мы укрыли. Я сказал Грису: „Почему дезертирство? Откуда дезертирство?“
– Это произошло в самую последнюю минуту?
– Да. Сразу же после самоубийства фюрера.
Между прочим, чтобы не забыть, – старик резко меняет тему:
– Сегодня вечером праздник новичков на корабле, мне надо будет показаться. Пойдешь со мной?
– Если непременно надо – хорошо. Когда это будет?
– В девятнадцать часов. Я останусь не долго. Ты же знаешь, если все они „поддадут“, то начнется большое братание, вот тут мне лучше быть в стороне.
Одна из наших стюардесс, обслуживающих столовую, новенькая, которая производит впечатление курицы, заболела.
– Она, очевидно, не выдержала постоянных вечеринок, – брюзжит старик и смотрит недовольно, – при этом она, вероятно, единственная, которая является профессионалом, я имею в виду гостиничный и ресторанный бизнес. Хотел бы я знать, что будет, если появятся трудности. – Через некоторое время он продолжает брюзжать: – Это наверняка вызовет раздражение. Во время последнего рейса одну стюардессу пришлось из порта Элизабет отправить домой на самолете.
– Теперешняя стюардесса выглядела уже довольно утомленной, когда она появилась на борту, – говорю я, немного перекусив, – она сразу же стала жаловаться, что она, очевидно, не справится с той небольшой работой по сервировке.
– Это мне совершенно неизвестно, – говорит старик, поднимает свой бокал, выпивает и вытирает губы тыльной стороной руки. Тема закрыта!
Сколько раз я ни прохожу мимо запасного винта, столько и поражаюсь его гигантским размерам и красоте пластических форм. Иногда я ощущаю себя на верхней палубе как в галерее скульптур: выпуклая крышка реактора с запорными болтами, этот гигантский, плоско лежащий винт. А когда я, глядя с выступа мостика, перевожу взгляд на корму, то вижу под собой большие серые прямоугольники крышек люков, затем на приподнятой палубе крышку реактора и крышку сервисного бассейна с козлами для насаживания крышек, громоздкую шлюпбалку… Все это имеет сильное пластическое выражение: просто современная художественная выставка.
Во время войны в портах на атлантическом побережье я снова и снова рисовал тяжелые детали машин, в том числе якорные цепи, морские навигационные знаки, гребные винты. Если бы у меня был еще больший запас жизни, то всю эту массу памятных фотографий я перенес бы на большие холсты. Когда однажды я увидел, как на голову военному водолазу надели шаровидный латунный шлем с зарешеченным круглым окном-иллюминатором, а затем завинтили его, я пришел в неописуемое волнение, так как у меня не оказалось с собой рисовальных приспособлений. Как он стоял – этот водолаз в своем мокром сером резиновом костюме на понтоне, как бледный утренний свет почти скульптурно прорисовал тяжелые складки! Неподвижно застывшее стояние водолаза и мелочная возня его помощников, шланги, извивающиеся вроде змей на стареньком понтоне, все это складывалось в картину, которая в то время так взволновала меня, как и техника здесь. Упущенная работа, куда ни брось взгляд! Вся моя жизнь – цепь упущений! С моими несколькими короткими записями и заметками никогда никто ничего не сможет сделать: секретные материалы.
Прежде чем отправиться на вечеринку новичков, поступивших на корабль, проводимую на корме, я карабкаюсь на капитанский мостик. Старик занят в штурманской рубке. Я подхожу к нему и спрашиваю:
– Где мы…? – а старик добавляет: „…и еще пятнадцать минут до Буффало!“ Этого достаточно, чтобы вызвать у меня чувство удовлетворения. Губами я шепчу: „Джон Мейнард был нашим рулевым, он держался, пока не достиг берега. Он спас нас. Он носит корону. Он умер за нас, наша любовь его награда!“ Неожиданно старик громогласно возвещает: „Вечеринка начинается!“
Из-за сильного ветра, дующего с кормы, вечеринка проходит в фойе. Как на уроке танцев женщины и мужчины чинно сидят за отдельными столами. „Добрый вечер, господин капитан!“ – раздаются голоса, когда мы входим. Старик полусмущенно посматривает вокруг и кланяется во все стороны. Рядом со мной сидит супруга „Гамбуржца“. Не дождавшись моего вопроса, она, в порыве потребности поделиться, на одной и той же высоте звука сразу же набрасывается на меня:
– О том, чтобы мы снимали квартиру, больше не может быть и речи. Ведь все равно квартирная плата неимоверно большая. В таком случае, сказали мы себе, нужен только собственный дом. Моему мужу требуется много места, он хочет, чтобы ему не мешали, я с моей музыкой все равно…
Я остерегаюсь спросить ее, что значит „с моей музыкой“, и держусь так, как рекомендует шеф: я просто принимаю сказанное и слушаю ее монолог вполуха.
– Мы всегда жили довольно стесненно, потом купили старый кирпичный или клинкерный домик, такой, какие они там все, с громадным земельным участком. Раньше там был овечий выгон, и до сих пор мы занимались тем, что старались превратить его в сад. Сад же… – теперь она тихо хихикает, – этот сад стал довольно своенравным.
Только не спрашивать! Но мне этого и не надо делать, потому что она уже продолжает:
– А потом два года назад мы расширили дом – восемьдесят восемь квадратных метров, хорошая пристройка, все из природного камня… – больше, чем это, уже не достигает моих ушей. Теперь я наблюдаю за стюардессами с высокой прической, так как один из ассистентов играет на гармошке, а на танцевальной площадке появились первые пары.
Старик, соседкой которого является медицинская сестра, еще раз – ловкий парень – выспрашивает ее, где она работала, время от времени кивает, когда она рассказывает ему о своей ответственной работе, и все чаще, чем я привык видеть, берется за бокал с пивом.
Когда моя собеседница переводит дыхание, я говорю старику:
– Хороший вечер сегодня! Но не мог бы ты извинить меня, всю последнюю ночь я не смыкал глаз.
– Я, к сожалению, также должен решать очень важные дела и вынужден извиниться, – говорит старик официально. – Желаю провести веселый вечер! – и, обращаясь ко мне: – К сожалению я тоже должен уйти!
Мою собеседницу я уверяю, что ее рассказ очень заинтересовал меня и что я был очень рад познакомиться с нею. Но, к сожалению, я должен поработать над текстом для одного журнала.
„Как интересно! – радостно говорит дама, – где я смогу прочитать это?“
– Этого я пока не знаю, но вы еще узнаете об этом…
„Уф!“ – говорю я, когда мы оба оказываемся снаружи.
– Ну, да, не так уж это было плохо. Ты ни к чему не привык! Испорченный вечер. Спокойным он все равно не будет, так как гамбуржцы проводят свои опыты. Пойдем выпьем по пиву в моей каюте? – приглашает меня старик, когда мы на сильном ветру с кормы скользим по палубе в направлении носовой части корабля.
– Хорошо! – отвечаю я.
– Уф, – говорю я еще раз, развалившись в кресле, – вероятно, я действительно слишком стар, для меня в этом нет ничего привлекательного.
– Вероятно, так оно и есть!
После долгой паузы старик говорит:
– Я тебе уже многое рассказал, теперь расскажи ты, как это было на самом деле, когда Симона приехала в Фельдафинг?
– Я же уже говорил: это было давно. До этого я командовал полицейскими в Фельдафинге, а потом я сидел в тюрьме.
– Ты был в тюрьме?
– Да, и приобрел ценный опыт.
– Но – почему?
– Ты хочешь услышать о Симоне или хочешь знать, как мне жилось в „рейхе“?
– Дело, кажется, становится занимательным. Это имеет отношение к узникам концлагерей? Ты говорил, что позднее ты имел с ними дело?
– Нет. Этого не было. Итак, американцы вообще не заходили в Фельдафинг. Когда я услышал американские танки на дороге, идущей вдоль озера, мой автомат еще висел на одежной вешалке вместо того, чтобы быть зарытым в землю. А потом я был совершенно доволен, потому что по вечерам на поляну рядом с моим домом приходила косуля, и эту косулю мы хотели пристрелить.
– Кто это – мы? – спрашивает старик.
– Извини! Я же не знаю, что тебе неизвестно. Итак. В мой дом забрел один издательский коллега, точнее, он искал у меня убежище, это лучше отражает суть. Он был совсем измотан: оборванный и полуголодный. Пехотинец, провоевавший два года в России. А потом появился и мой брат Клаус, но этот при полном параде, в мундире ВВС, лейтенант с полным иконостасом военных наград. Добрый Бонзо, мой издательский коллега, еще накануне вечером стрелял по косуле, но не попал. Она только помахала ему хвостиком и скрылась за живой изгородью соседнего дома.
– Но потом вы в нее все-таки попали? – спрашивает старик с любопытством.
– Отнюдь нет! Но я уже предвкушал, какой вкусной она будет. Появлялась ли она на следующий вечер, чтобы водить нас за нос, я уже не помню. В это время мы уже двигались на тележке от вокзала к озеру, а потом и американцы не заставили себя ждать. А после случились сотни историй, но рассказать тебе все я не смогу, разве только мы потратим на это все свое время до самого Рождества.
– Не преувели… – начинает старик, но его прерывает сильная вибрация корабля. Он смотрит на свои наручные часы. – Деятели из Гамбургского института начинают свои маневры. Я потом еще схожу на мостик, это будет продолжаться до двух часов, так что говори дальше.
– Попробую. Мы чуть не врезались в американские танки – сбоку. Это из-за грузовика.
– Не тяни канитель!
– Бёмер, Бонзо было его прозвищем, появился у меня, потому что, кроме меня, он почти никого не знал. На теле у него были лохмотья. Нам нужно было найти для него кровать или по меньшей мере матрас и кое-что из одежды. Внизу у озера находился лодочный домик крупного нациста, шефа имперской школы НСДАП, который уже давно сбежал. Там, подумали мы, очевидно, все есть. Нужно было лишь транспортное средство. На вокзале были две тележки, четырехколесные, с оглоблями, используемые для выгрузки из поездов. Одну такую тележку мы себе взяли. Вокзал, как вся местность, был опустевшим. С этой тяжелой тележкой мы с грохотом двигались через всю местность, а когда на подходе к озеру дорога пошла под гору, мы уселись на тележке, а я взял оглоблю между ног, чтобы управлять движением. Вскоре темп невероятно ускорился. Я почувствовал, что не справлюсь с поворотом на поперечно проходящую дорогу к берегу озера, а тут еще отвалилось левое переднее колесо, тележка перевернулась, и мы оказались в воздухе с кувырками, пируэтами, сальто и чертовски жестким приземлением. Когда вот так во весь рост я лежал в грязи и не знал, целы ли мои кости, я услышал голоса, мужские голоса. По-пластунски, как нас учили, я подполз к краю дороги и узнал в свете вспыхивающих зажигалок американцев. Произносили они совершенно непонятное. Я все время слышал: „fuck off – fucked country…“ Одно мне было ясно: мы чуть не врезались в стоящую танковую колонну. Танки стояли вплотную один за другим. Сначала мы лежали, не решаясь пошевелиться. Вляпались в неприятность, подумал я, надеюсь, они не слышали грохота и не видели, как я лежал в грязи. Теперь война закончилась. Теперь здесь американцы, а нацистский кошмар закончился. И еще: мой брат Клаус был еще в форме со свастикой на поясном ремне. Этот тупица! О том, чтобы встать и двинуться обратно, не могло быть и речи. „Fuck off! – Fuck yourself!“ – слышал я снова и снова, самое смешное, что тогда я и представления не имел, что это значит. Я думал о китайских наемниках.








