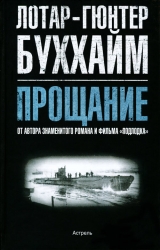
Текст книги "Прощание"
Автор книги: Лотар-Гюнтер Буххайм
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
В темноте я не сразу нахожу старика. Он склонился над большим экраном радара в правой части рулевой рубки. Корабль имеет два радарных монитора. Один прибор настроен на диапазон три четверти морской мили, другой – на диапазон в полторы морских мили.
Рулевому не надо выдерживать курс с помощью штурвала, он использует для этого кнопки, на которые нажимает пальцами обеих рук. На этом мостике я снова чувствую себя как дома. Отсюда я могу часами наблюдать, как нос корабля разрезает волны, а по обе стороны корабля матово светится носовая волна, или же следить за экраном одного из радаров. Вскоре должен появиться плавучий маяк. На экране его еще не видно. На экране большого радара он уже появился. Впереди, в виде штриха на правой стороне, на расстоянии примерно пять и шесть десятых мили плывет гигантский танкер. Объекты на зеленом экране монитора перемещаются толчками.
Снова вниз на верхнюю палубу. Я хочу видеть корабль в этом своеобразном свете, расположившись спиной к направлению движения. Я выхожу на бак и иду вплоть до «обезьяньего бака» (полубака – Monkey Back). Кабестан [3]3
Лебедка для якорной цепи.
[Закрыть]блестит в легком мерцании света, пробивающегося сквозь облака. Меня окутывает резкий шелест носовой волны: от такого удовольствия я готов «растаять». Я так же вижу, что сигнальные лампы, предварительно настроенные на выдачу сигнала «к маневру неспособен», готовы к включению – на всякий случай.
Снова наверх на мостик. При подъеме по многим лестницам я использую боковую качку корабля и поднимаюсь по ведущим влево лестницам именно тогда, когда корабль испытывает боковую качку как раз на левом борту.
Находясь на правой части командного мостика, я оглядываю весь морской горизонт. По траверзу правого борта висят дождевые завесы, и, как будто у неба есть чувство симметрии, такие же завесы висят по траверзу левого борта: широкие, мрачные дождевые завесы. Только прямо впереди на небе просвечивает матовый свет. По искривлению моря за нашей кормой я вижу с моего нока, что мы изменили курс на двадцать градусов вправо. И я вижу почему: мы расходимся с паромом, несущем по всей длине бортов гигантские буквы названия пароходства ТАУНЗЕНД ТОРЕСЕН. Краски парома вдруг поблекли под шлейфом дождя. Теперь и я почувствовал первые капли. В ходовой рубке третий помощник включает вращающуюся фишлупу. [4]4
Буквально: вращающиеся прозрачные стекла. (Прим. перев.)
[Закрыть]Теперь окна нашей рубки дождь поливает снаружи. Опрыскиватель смывает со стекол морскую соль, которая искажает вид сквозь стекло.
По правому борту нам навстречу идет тральщик. Проходит какое-то время, пока сквозь пелену дождя по флагу можно определить его национальную принадлежность: это француз. Мы приспускаем флаг в знак приветствия. Они также приспускают флаг. Военный корабль, какой бы национальности он ни был, мы приветствуем первыми, как и предписывает морской кодекс.
Погода ухудшается на глазах. Ночь перед входом в канал будет бессонной. Волнение в гавани, а теперь еще и погода – все это напоминает мне наши печальные прощания в Бресте. «Счастливо!» – это было все, что старик сказал при нашем последнем прощании в Бресте.
Корабль вывесил фонари: спереди белый пароходный фонарь и с кормы, на дымовой трубе, – с белым направленным светом. Выставляются боковые фонари: зеленый – справа, красный – слева У них те же самые секторы, что равно 117,5 градуса. Для вахтенного другого судна этим обозначается положение нашего корабля. Белый кормовой фонарь перекрывает темный сектор боковых и сигнальных огней на марсе – как раз два штриха. Восемь штрихов составляют девяносто градусов.
Матово светятся шкалы навигационных приборов. Старик стоит у радара. Он объясняет мне:
– Красная шкала дает бортовой пеленг, белая – истинный (исправленный) пеленг.
Сообщают о появлении судна, идущего навстречу. Четыре штриха по правому борту. Мне все-таки приходится пересчитывать: тридцать два равняются триста шестидесяти градусам. Таким образом, четыре штриха равны сорока пяти градусам. Я спрашиваю, какой курс у идущего навстречу корабля.
– Примерно двести сорок градусов, – говорит старик после короткого обдумывания.
Через некоторое время он скрывается в штурманской рубке. Я должен следовать за ним. В штурманской рубке я получаю дополнительный урок в навигации:
– Истинный курс всегда соотносится с показаниями компаса, Все другие пеленги являются пеленгованием по азимуту (бортовым пеленгом). Возьмем пример: Другой корабль имеет на корме справа позицию тридцать. Это примерная позиция. Мы держим курс пятьдесят градусов. Для того чтобы установить, какой курс у другого корабля, я беру собственный курс, то есть пятьдесят градусов, и приплюсовываю к нему прямой пеленг – таким образом получаются сорок градусов. Это дает в итоге девяносто градусов истинного (исправленного) пеленга. Его курс составляет контрпеленг сто восемьдесят градусов плюс или минус оцененное положение. В этом случае двести семьдесят градусов минус тридцать градусов равняются двести сорока градусам. Понятно?
– Спасибо. Теперь я снова почти все усвоил, но когда каким-либо делом постоянно не занимаешься…
– Кофе! – говорит кто-то в темноте.
– Прекрасно! – ворчит старик.
– Значит, в Дурбане они хотят провести прием, – говорит он вполголоса, – ну, к счастью, мы к этому готовы.
Я думаю, что все это типично для него: впереди еще три недели, а старик уже ломает голову об одиозном приеме, который надо будет провести на корабле.
– Во время моего последнего рейса эта проблема тебя, к счастью, не касалась.
– Да? – удивляется старик.
– Тогда «Отто Ган» еще был «летучим голландцем».
– Время, когда мы не могли заходить в порты, меня полностью устраивало, – говорит старик, повернув голову к окну, – в то время не было проблем с канаками… [5]5
Канаки – коренное население Гавайских островов. Здесь в смысле «туземцы». (Прим. перев.)
[Закрыть]Не было необходимости все пересчитывать.
– Необходимости? Что ты имеешь в виду?
– Следить, все ли на месте. Наши дорогие гости прихватывали с собой все, что под руку попадалось. Так называемые «дни открытых дверей» в каком-нибудь паршивом порту, – а корабль пускали только в паршивые порты, – для меня всегда были кошмарными.
И вдруг старик разговорился:
– В первом порту, в который нам разрешили зайти, в Касабланке, был организован большой прием для «официальных лиц», некоторые из которых выглядели авантюрно. Наши ящики с сигарами мгновенно опустели. Попробуй что-нибудь сделать против этого! А когда несколько позже я прошелся по кораблю, то увидел, как в холле один из этих канаков снимает кокарду с фуражки. Я просто сказал: «Извините!» и отобрал фуражку, которая оказалась моей собственной! Единственное утешение: докучливый контроль с целью поиска саботажников при таком массовом наплыве посетителей отпадает, так как осуществить его просто невозможно.
– Я что хочу сказать: стоит запустить на борт большое количество людей, и вам останется только поднять руки вверх.
– Так оно и есть. Приходится проявлять самообладание, чтобы… Ну да, так оно и есть. Демонстрация флага в других портах входит в перечень обязанностей экипажа корабля. Ну да ты об этом читал.
– А как это выглядит в Дурбане? Ты же уже был там.
– Более цивилизованно.
Я взволнован до кончиков нервов. Мне бы хотелось быть всюду: здесь, на мостике, рядом в штурманской рубке, чтобы отслеживать наш курс, а также у стенда управления машинами, чтобы наблюдать, как там, внизу, машины реагируют на поданную с мостика команду об изменении ходовой позиции.
В эту ночь старик, я это знаю, ни на минуту не покинет капитанский мостик: слишком оживленное движение, слишком рискованно. Много забот доставляют суда, идущие наперерез нашему курсу. В такой ситуации хороший капитан спать не ляжет. Я не знаю лучшего, более осмотрительного судоводителя, чем старик. Без его хладнокровия нас обоих уже давно не было бы в живых.
Вот это перемена, после последней ночи дома – эта ночь на мостике! Мне представляется, что я гоняюсь за впечатлениями, что все, что я теперь воспринимаю, я не в состоянии правильно переработать. Мысли мои носятся, как свора охотничьих собак. Несколько минут я стою совершенно неподвижно и пытаюсь заставить себя успокоиться. Свора должна лежать. И прекратить лай!
А потом во мне поднимается своего рода самодовольство – я этого добился! Я снова на корабле! И на каком корабле! В море со стариком. Без промежуточной остановки до самого Дурбана, вокруг мыса Доброй Надежды и затем еще целый кусок северо-восточным курсом.
Солидная дистанция. Мы будем в пути больше трех недель. А затем стоянка в Дурбане. И обратный путь – еще три недели без промежуточной стоянки. Бегство от суматохи. Никаких графиков работы. В последующие недели до меня можно будет добраться только через радиостанции «Норддайх» или «Шевенинген Радио», что, к счастью, не так-то просто.
Стоя здесь и всем телом воспринимая вибрацию металлического пола под ногами, я мог бы похлопать самого себя по плечу: хорошо сделано, дружище! Wurde auch bei kleinem wieder Zeit. Off, off and away (Прочь, прочь и подальше!) – эти слова я написал крупными буквами на листе бумаги и повесил как постоянное напоминание над рабочим столом. В общении с самим собой такой повелительный тон иногда помогает. В данном случае он помог.
Мой корабль на пути к мысу Доброй Надежды. СЕРДЦЕ МОЕ, ЧТО ЖЕ ТЕБЕ ЕЩЕ НАДО! Если бы сейчас старик спросил меня: «Что у тебя на душе?», то я бы ответил: «Так себе». Мы всегда старались выглядеть холодными, даже если нас переполняли чувства.
– Просто счастьем было уже то, что мы ушли из Бреста, – неожиданно говорит старик. – Как для тебя, так и для меня. Было бы глупо столкнуться с ордой типов из рядов маки. Французы такие неспокойные, пока им не объяснишь, что считаешь их симпатичными людьми…
– Так оно и есть, – подражаю я старику.
– А то, что ты выбрался еще и из Парижа, было тоже приличной удачей.
– Даже больше! Я видел фотографии, на которых было изображено, как наших мужчин с поднятыми руками прогоняли сквозь строй. Мне это не понравилось. Оплеванных, забрасываемых камнями и бутылками, с вырванными клочьями волос. Этого мне как раз и не хотелось. Да, напряженное было время. Тогда все решали какие-то часы.
– Ну, у тебя-то есть навык – я имею в виду твою способность выпрыгнуть перед тем, как мышеловка захлопнется, – говорит старик и смотрит на меня с усмешкой.
– У тебя же тоже есть опыт, если вспомнить твой поход из Бреста в Берген по датской дороге… Никогда бы не поверил, что ты выберешься и из этого.
– И я не верил. Я уже полностью настроился на бои за город, объявленный крепостью. Но потом всплыла идея доставить из волчьего ущелья отбракованную «ловушку для зениток» и отремонтировать лодку, то есть попытаться сделать это.
– Но лодка годилась только на металлолом.
– Вначале это и выглядело как полное сумасшествие. Но дело могло только сорваться и ничего больше. Собственно говоря, мы были рады, что перед нами снова стояла разумная задача – или задача, которая, возможно, окажется разумной.
– Все это я хочу услышать от тебя в подробностях. Когда я был с коротким визитом в Норвегии, у нас не было времени для разговоров.
В 1 час 24 минуты мы проходим Хёек ван Холланд.
– Портовый лоцман вскоре покинет корабль, – говорит старик почти у самого моего уха, когда в штурманской рубке плечом к плечу мы склоняемся над морской картой.
На этот раз мы не проходим мимо плавучего маяка «Тексель». Когда мы выйдем в открытое море и возьмем курс на зюйд-вест, плавучий маяк «Тексель» будет уже позади нас. Во время последнего рейса там нам пришлось постоять: для контроля девиации проводилась радиодевиация.
Через короткое время мы проходим участок перед устьем Шельды.
– Возможно, что нас еще ожидают неприятности! – говорит старик позднее, поводя носом и принюхиваясь, как собака к ветру, который воет за краем капитанского мостика.
Я пожимаю плечами. Буря меня устраивает. Спокойное море мне не нравится. Такому кораблю шторм и море не могут нанести ущерба.
– Двадцать лет назад или еще раньше, – говорю я, – здесь я пережил свой первый шторм в Северном море. Мой корабль назывался «Архсум»… Это был тот шторм столетия, который прорвал в Голландии многие земляные дамбы. Такого страшного моря я больше никогда не видел ни до, ни после.
– Ты же после войны больше не имел никаких дел с судоходством.
– Я просто хотел еще раз посмотреть – так же, как и сейчас. И тогда меня пароходство…
– Это был Церсен?
– Да. Церсен. Церсен приказал зачислить меня казначеем, и я получил возможность писать и рисовать. Давно это было! Волны высотой до пятнадцати метров. Когда мы окаазались по-настоящему в самом пекле, я почувствовал себя на мостике, как в лифте: с бешеной скоростью взлетаешь на четвертый этаж и с бешеной же скоростью снова падаешь вниз на первый. Корабль имел всего 3500 тонн водоизмещения.
– На этот раз это 26 000 тонн, – говорит старик, – во время шторма это большая разница.
Я вижу идущее нам навстречу тяжеловесное судно, имеющее в качестве попутчика с левого борта сухогруз и плывущее в балласте судно для генерального (штучного) груза – с правого борта.
Появляется гигантский танкер.
А что, спрашиваю я себя, для размеров уже не существует никаких ограничений? Эти гигантские танкеры, которые называются «Very Large Carriers» («Очень большой носитель») или даже «Ultra Large Carriers» («Сверхбольшой носитель») уже не имеют ничего общего с нормальным судоходством в период между отплытием и причаливанием к берегу. Со своей невероятной осадкой они не могу войти ни в один порт мира. Чисто технически строительство танкеров с водоизмещением в один миллион тонн не представляет никакой проблемы. Ну, а как быть с риском?
Сейчас под давлением находится вспомогательный котел, чтобы не прекратилась подача пара в случае сбоев в работе реактора. Это одна из задач по обеспечению безопасности.
– Мы все еще находимся в районе фарватера? – спрашиваю я третьего помощника капитана.
– Да – в расширенном районе. Район лоцмана более узкий. Он простирается до плавучего маяка. Затем начинается расширенный район. Этот простирается до выхода из канала. Сюда же относятся и предписанные пути Северного моря.
– Сердечное спасибо!
– Всегда к вашим услугам! – сказал третий помощник молодцевато.
Мы подойдем к каналу немного быстрее, чем я думал: на этот раз мы вышли не из немецкого порта, поэтому нам не пришлось проделывать длинный путь вокруг Восточных фризских островов и Западных фризских островов.
Меня поражает, что старик находится в приподнятом настроении. А я чего хотел? Старик всегда в приподнятом настроении, когда наконец выходит в море. По нему было почти незаметно, что он почти всю ночь провел на ногах. Во время войны, охотясь за британскими конвоями, старик мог обходиться без сна, не теряя самообладания, сорок восемь часов.
Сложная ситуация для старика, думал я, когда, позвонив из Бремена в Фельдафинг, он растолковывал мне, что означает представительство на собственном корабле. Я был приглашен участвовать в этом последнем рейсе. Оба мы – настоящие инвалиды, но старику не пришлось меня уговаривать.
Сейчас около трех часов, и я едва стою на ногах. «Смертельная усталость до обморока» – так называла такое состояние моя бабушка. Старику я сказал:
– Занять пост прослушивания на матрасе, – а затем, как когда-то: – Позвольте доложить с мостика!
Когда старик говорит: «Разрешаю!», в его голосе я слышу насмешку.
Ветер подхватывает меня, когда я двигаюсь в направлении кормы, и возвращает мне бодрость. Небо немного светлее, чем море. Крышки люков в носовой части судна отсвечивают бледно-серым. Нос корабля четко выделяется на фоне моря. Я могу разглядеть даже леерное ограждение на Monkey-Back. Отфильтрованный тонкими облаками лунный свет наполняет воздух рассеянным сиянием, в котором море перед кораблем будто само светится. Вода, бурлящая по обе стороны корабля, бешено бьет в борт судна. На вершине мачты еще горит направленный свет. Массивный якорь, укрепленный на задней надстройке, блестит в темноте.
Ветер усилился, хотя я этого почти не заметил, но корабль плывет довольно спокойно благодаря тому, что ветер дует с кормы. Несмотря на это, я не могу заснуть, нервное напряжение еще слишком велико, и резкий стук несколько раз вспугивает меня. Непонятно, почему ночью работают центробежные насосы. Койка слишком широка, я не могу нащупать в ней опору. К утру я, наконец, засыпаю.
* * *
Я с удивлением замечаю, что могу обходиться коротким сном. В эту ночь он продолжался самое большее пять часов, и, несмотря на это, я чувствую себя бодрым. В то же время из-за вчерашнего бесконечного лазания у меня болят икроножные мышцы. Бесчисленное количество раз я носился из своей каюты по палубе в носовую часть, взбираясь по многочисленным лестницам на мостик и возвращаясь обратно.
Если так пойдет и дальше, то мне нечего опасаться – малоподвижность мне не грозит.
Я поднимаю автоматическую штору, закрывающую окно по левому борту. Снаружи все серое-пресерое. Волны бутылочнозеленого цвета образуют «кошачьи головы». В створе окна показывается идущий навстречу корабль, имеющий в средней части большие грузовые мачты, затем – рыболовный катер.
Еще до завтрака, передвигаясь на негнущихся ногах, как на ходулях, я направляюсь на мостик. Старик уже там. Он быстро осматривается, оценивая обстановку, и затем говорит вахтенному:
– Он рыщет. Не могли бы вы взять немного южнее.
Он– в этом случае означает корабль.
На завтрак у меня выбор между печенкой с луком и «театральным тостом».
– Что такое «театральный тост»? – спрашиваю я стюардессу.
– Свиное филе со спаржей и голландским соусом сверху, а также с долькой мандарина и сливами.
– То есть со всякой всячиной? – спрашивает старик.
– Так точно, господин капитан.
– Ну тогда два раза «театральный тост»! – решает старик, а затем спрашивает меня: – Что там у тебя?
– Ничего. Совсем ничего, – отвечаю я нерешительно.
Я не был уверен, что вид, который мне открылся, не обман зрения. Стюардессе, должно быть, лет сорок пять. С волосами, обесцвеченными перекисью водорода, расфуфыренная, как цирковая лошадь. Ее толстый живот и толстую задницу слишком сильно подчеркивает плотно сидящая сатиновая юбка. Под ажурной блузкой – красный хлопчатобумажный бюстгальтер: дама выглядит так, как будто только что заявилась на борт корабля с гамбургской улицы Гербертштрассе.
Старик все еще испытующе смотрит на меня, и, чтобы хоть что-то сказать, я бормочу:
– Новые времена. Чудеса в решете, да и только…
– Ах, это! – говорит старик, который тем временем тоже рассмотрел стюардессу.
– К таким карнавалам я уже привык. С тех пор как ты побывал на борту последний раз, многое изменилось.
– У меня чуть язык не отнялся.
– Это пройдет! – говорит старик.
А «театральный тост» заставляет себя ждать.
– «Театральный тост», – говорю я, – такая чушь!
После завтрака старик сидит, опершись локтями на стол. Он кладет ладонь на ладонь и потирает их, как будто собирается лепить клецки.
Вот они и вернулись – эти молчаливые посиделки после принятой пищи, которые прежде, на подводной лодке, старик называл «утренней молитвой», а в послеобеденное время – «часом раздумья».
Про себя я думаю: «Откуда, собственно говоря, пошло это название – „атомоход“?» И тут мне приходит на ум, что атом – это мельчайшая частица вещества. И я испытываю чувство гордости, что моя голова исправно работает с раннего утра.
Теперь я сам, как и старик, ставлю локти на стол и руками закрываю лицо. Так я без помех могу рассматривать его: он сильно постарел, кожа задубела и обветрилась, волосы поседели. Мне кажется, что он стал немного флегматичнее. Прирожденный моряк. Неразговорчивый, задумчивый, иногда немного упрямый.
Я смотрю на его лицо: большой нос с горбинкой посередине, рот, не лишенный энергичного выражения, но могущий принять форму, как у херувима, когда старик втягивает щеки.
Сегодня утром старик явно чувствует себя несчастным. Слишком многое, на его взгляд, здесь изменилось.
– Все это уже не должно волновать тебя, – говорю я ему, чтобы утешить.
Недалеко от нас сидит шеф. Проходя мимо, я спрашиваю его, почему судно так заметно кренится на левый борт. «Не менее трех градусов?»
Шеф смотрит на меня снизу вверх, как будто видит впервые. Он наклоняет голову, как курица, нацелившаяся на червячка, и говорит:
– Поразительно, что заметили. Будет исправлено!
Мысленно я потираю руки от удовольствия. Я не такой уж старый мореход, но если сложить дни, проведенные мною в море, то получится изрядное количество. То, что из меня получился только моряк-любитель, иногда расстраивает меня. Но потом, в утешение, я сам себе возражаю: не может же человек иметь все.
Сначала я иду на кормовую часть палубы, чтобы бросить взгляд на море за кормой. Там еще сгребают руду.
Наш кильватер представляет собой бурлящую молочно-зеленую полосу, простирающуюся до самого видимого горизонта. А вблизи эта полоса пузырится как зельтерская вода.
Я неподвижно рассматриваю какое-то пятно в морской дали, затем снова блуждаю взглядом по волнам как вращающийся маяк. От этого не устаешь. Острый взгляд, расплывчатый взгляд, взгляд далекий, взгляд узкий. Я делаю – только взглядом – моментальные снимки иссеченного ветром моря. Если бы теперь я экспонировал пленку, установив камеру в одном направлении, то ни один снимок не был бы похож на другой, даже если бы я тысячу раз нажимал на кнопку затвора. Картина моря постоянна, и в то же время она меняется каждую секунду.
На пути к носу корабля я сталкиваюсь с молодым человеком с эспаньолкой – новый судовой врач. Молодой человек, выглядящий с его мускулами, как качок, без всякого предисловия заявляет, что мне надо сделать прививку от оспы, так как в противном случае я не смогу сойти на берег.
У плотника много работы, так как при выбирании трапа с помощью крана недоглядели и многое повредили. Собственно, плотник должен быть доволен, так как сегодня воскресенье, а за работу в воскресенье платят больше. Но он, очевидно, не может решить, чему отдать предпочтение – злобе на это «дерьмо в виде матросов первого класса» или радости от неожиданных сверхурочных. Так что он ведет себя ворчливо и разговаривает сам с собой. Проходя мимо его открытой мастерской, я слышу, как он громко матерится.
Уже во время моего первого рейса проблема рабочего времени и сверхурочных обсуждалась почти ежедневно. Несмотря на то, что для некоторых на борту трудно найти какое-либо занятие, моряки нарабатывают сотни часов сверхурочных. В соответствии с тарифом людям даже гарантируют сверхурочные в размере пятидесяти часов. Эти пятьдесят часов им оплачивают независимо от того, отработали они их или нет.
– Только на основную заработную плату, – говорит старик, – матрос может с трудом прокормить семью.
Хотя во время моего первого рейса был намечен курс на остров Сан Мигель, было не ясно, пойдем ли мы туда на самом деле. Ясно было только одно – точное время швартовки у пирса в Бремерхафене, а именно: в пятницу в пятнадцать часов. В субботу и воскресенье люди хотели отдохнуть.
Тогда старик сказал:
– Вот так благоразумная фирма определила время возвращения.
За добрых две сотни миль до острова Сан Мигель поступила команда повернуть, чтобы уложиться в предусмотренные сроки возвращения в порт. На обратном пути мы могли бы прибавить две мили в час, но этого, как было сказано, – недостаточно. Кроме того, нужно учитывать возможность восточного ветра и инцидентов. Так что острова Сан Мигель мы так и не увидели.
Я смотрю на волну, заливающую палубу, и провожаю ее взглядом. Белое кипение и брызги, драматическая пена, вздыбливание, оседание и поникание зеленых волн захватывают меня целиком. Лавины кудрявой пены набегают на рифленые зеленые скосы. Там, где они сталкиваются с нашей пенящейся носовой волной, смешавшиеся волны взмывают вверх, будто подстегиваемые мощными взрывами.
Но уже через несколько метров дальше в этом столпотворении царит порядок. Покрытые белыми хлопьями волны, как табун, уходят аккуратным строем – невообразимая стая зеленых химер с белыми барашками на холке. «Все новые и новые безродные неисчислимые полчища мчатся и мчатся». Чушь, говорю я себе, это были полчища гуннов!
Ветер силой в семь баллов. По шкале Бофорта семь баллов означают: «Ветер укладывает полосы пены в своем направлении». Семь баллов уже дают своеобразный эффект.
Какой-то корабль за кормой привлекает мое внимание. Вдали, в сумрачной утренней дымке, я обнаруживаю еще один корабль – его попутчик. И третий корабль – еще один попутчик – высматриваю я. Два грузовых судна и танкер. Большое движение!
Нервотрепку в каюте собственника невозможно выдержать. В этой проклятой каюте дребезжит все: лампочка накаливания, подставка настольной лампы, что-то между потолочными перекрытиями, что-то за бортом. Чего я только не предпринимаю, чтобы справиться с дребезжанием. Ничего не получается! Хуже всего вибрации ночью, намного неприятнее, чем тряска на шпалах, с которой приходится иметь дело в спальном вагоне.
Я предвкушал радость от встречи с темным чуланом, в котором я жил во время первого рейса, но там поселили женщину-океанографа. Устраивать вечеринки я не собираюсь: на что мне четырехместная софа и три мягких кресла, если у меня нет никакого другого желания, кроме желания работать!
Когда я сажусь за письменный стол, вибрация передается через мои положенные на стол руки так сильно, что я собираю письменные принадлежности и перебираюсь за другой стол, стоящий впереди.
В общем помещении на мостике надстройки складное сиденье, на котором я располагаюсь, не дрожит.
Да что это я, говорю я себе, уставившись в белый лист бумаги: сейчас главное – все видеть, а не писать, и я отправляюсь вверх на мостик.
– На траверзе Дюрнкерк, – говорит старик, когда я становлюсь на мостике рядом с ним. – Сейчас проведем новую пеленгацию по бую с левого борта.
На стол ложится следующий лист карты, рулевому отдается новое распоряжение:
– Курс два один щесть!
Рулевой повторяет:
– Два один шесть – и, после короткой паузы: – Идем курсом двести шестнадцать градусов!
Мы держим курс прямо на канал. Ветер постоянно дует с правого борта. По левому борту над линией видимого горизонта висит гряда облаков. В нашей кормовой волне отражается бледное солнце. Иногда его загораживают редкие облака.
Кольцо, стягивающее грудь, ослабевает.
Один довольно старый матрос, о котором я от старика знаю, что он испанец, заступает на вахту.
– Давно ли вы на борту? – спрашиваю я. Матрос меня, очевидно, не понимает. – Сколько вы уже плаваете здесь? Как долго?
– Я – четыре годов, – наконец отвечает он. И вдруг его как прорывает: – Да, и у меня есть товарищ, тоже четыре годов, и еще один товарищ – три годов – испанцы.
Третий помощник, стоящий на вахте, услышав образованное по испанскому образцу множественное число «годов», чуть не умер от смеха. Он передразнивает испанского матроса: «четыре годов, три годов…»
Хорошо, что этого не слышит старик. Он находится в штурманской рубке. Такие насмешки он не переносит.
Некоторое время я стою неподвижно, глядя через переднее окно. Затем спрашиваю испанца:
– Откуда вы? Из какого города в Испании? И когда он и на этот раз не понимает меня, я делаю новую попытку:
– Где семья в Испании?
Тут его лицо озарилось улыбкой:
– Семья. Виго!
Этот ответ поразил меня в самое сердце. Если бы он знал, что значит для меня название этого порта. Хорошо, что он знает об этом так же мало, как и бармен нью-йорского отеля «Плаза», тоже родившийся в Виго. До 1941 года я представления не имел, где находится этот Виго. Но впоследствии местонахождение Виго врезалось в мою память на все времена. Достаточно часто я смотрел на морскую карту и читал ВИГО. В то время морская карта лежала на штурманском столе на центральном посту подводной лодки U 96, а мы приближались к западному побережью Испании, чтобы темной ночью тайно пополнить свои запасы в Виго – в нейтральной Испании.
По правому борту в пелене дождя появляется меловое побережье: Дувр, Фолкстон. На траверзе левого борта находится плавучий маяк на песчаной косе Варнебанк. Расстояние до скал Дувра максимально пять миль, но серая дымка создает впечатление, что побережье находится на большем удалении.
– На той стороне находится Дувр, – говорит третий помощник капитана, – дубовый, дубовее, самый дубоватый (doof, doofer, am doofsten). Эта глуповатая игра слов при прохождении пролива Па-де-Кале является, очевидно, обязательной.
Я склоняюсь над экраном радара: слева можно различить огни мыса Гри-Не.
Старик вышел из штурманской рубки и тоже смотрит на радар.
– А штаны у них тогда трепетали на ветру, – говорю я.
– Под ними ты имеешь в виду наших людей?
– Да. Когда Дувр был у них на треверзе, ситуация была довольно рискованной.
Тогда, в 1942 году, «томми» [6]6
Прозвище британских солдат. (Прим. перев.)
[Закрыть]много чего собрали в этой местности. Непостижимо, что британцы «так крепко спали».
– Видит бог, было большим нахальством то, что наш флот, то есть то, что от него осталось, проскочил здесь, – пробормотал старик.
И вот мы оба стоим здесь и смотрим на воду.
Мне требуется немного фантазии, чтобы увидеть корабли, которые идут нам навстречу. Я держал в руках многие фотографии этого прорыва канала Па-де-Кале нашим флотом.
– На всех кораблях у нас были военные корреспонденты – на «Шарнхорсте», на «Гнейзенау», на «Принце Евгении» и даже на эсминцах сопровождения (конвойных кораблях).
Старик, кажется, не слушает меня.
– Для британцев этот прорыв был пощечиной. Со времен испанской армады им никогда не бросали такого вызова, – говорит он. – Проспать такое!
– А штатный разведчик, должно быть, немало удивился, не обнаружив в бухте Бреста ни одного корабля.
– «Томми» и представить себе не могли, что корабли выйдут в море ночью. Да еще выход из Бреста в пасмурный день, :так что Дувр они миновали ночью…
Мы все еще стоим, как стояли между пультом управления и фронтальными окнами. Третий помощник находится в штурманской рубке. Теперь он демонстративно уходит на правый нок, будто желая показать, что не хочет подслушивать.
– За прошедшие годы стало известно, как все это происходило, – говорю я, через несколько минут полуобернувшись к старику. – Только в десять сорок английский самолет «спитфайер» («злючка») обнаружил наши суда, причем совершенно случайно, задания искать их у него не было.
Старик снова и снова подносит к глазам бинокль и осматривает горизонт. Если я поверну голову немного вправо, то поймаю в видоискатель его портрет, как в то время. Закрывающая бинокль от солнца левая рука старика скрывает следы возраста на его лице. Если бы сейчас у него на голове была зюйдвестка и я не заметил седину его волос, то впечатление было бы еще сильнее.








